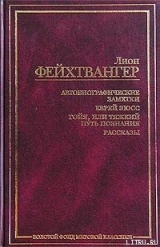
Текст книги "Еврей Зюсс"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Тайный советник Фихтель в письме к брату Ремхингена, камерарию при папском дворе в Риме, с радостным рвением повествовал на изящном латинском языке обо всем, чего удалось достигнуть благодаря посещению Штутгарта князем-епископом. Упомянув о поводе для поездки – болезни герцога, – он заключил: «Итак, ты видишь, высокочтимый господин и брат мой, что Божье провидение часто пользуется странными средствами, дабы споспешествовать святой католической церкви в распространении истинной веры».
Зюсса снедала и томила тревога. Получение дворянства оказывалось сложнее и затягивалось дольше, чем он предполагал. Император задолжал венским Оппенгеймерам крупные суммы. Эммануил Оппенгеймер торопил, а императору нечем было платить. Неудивительно, что венская дворцовая канцелярия не спешила даровать баронский титул еще одному Оппенгеймеру. Да и уполномоченный вюртембергского парламента как мог тормозил дело. Сеньора де Кастро была по-прежнему холодна, и Зюссу никак не удавалось убедить умную, расчетливую женщину решиться на брак.
Замыслы князя-епископа Вюрцбургского тоже портили Зюссу настроение. Он, конечно, заметил, что ему не удалось снискать доверие его преосвященства и что в том грандиозном плане, который, в сущности, поставлен во главу угла швабской политики на ближайшее десятилетие, ему места не отведено. Правда, ему показывали тот или иной проект, иногда даже совещания происходили у него в доме. Но Ремхинген всегда грубо высмеивал его предложения, и вообще очевидно было, что католические вельможи намеревались пользоваться услугами Вейсензе как главного доверенного лица. Зюсс и сам не чувствовал себя столь сведущим и твердым в этой области, как во всех прочих. Он вообще неохотно занимался религиозными проблемами; вопросы, которые так серьезно обсуждались, с его точки зрения, были пустяками, недостойными взрослых людей. Своим явным, деловым умом он превосходно понимал, что за этим кроются в высшей степени реальные дела, как то: уничтожение конституции и парламента и военная автократия герцога; для него только было непостижимо, почему даже в среде посвященных считалось обязательным прибегать к смехотворным уловкам, ограничиваться отвлеченными рассуждениями и намеками. Его средства и пути были много прямолинейнее, быстрее и проще, он не мог освоиться с осторожными, усыпляюще медлительными методами иезуитов. Он с удивлением отмечал, что эти господа и в самом тесном кругу старались не называть вещи своими именами, что они, даже оставаясь с глазу на глаз, скромно и благочестиво пробавлялись всяческими смиренными и нравоучительными иносказаниями и бросали короткие неодобрительные взгляды, когда он или Ремхинген выражались прямо и точно, без экивоков.
Итак, еврей чувствовал, что ему не очень доверяют, и потому искал подтверждения своей власти.
Он добился от Карла-Александра, чтобы тот ему лично поручил отвезти Магдален-Сибилле особо ценный подарок от имени герцога. Накануне он послал предуведомить мадемуазель Вейсензе о своем визите, прибыл весьма торжественным поездом, с пажами и скороходами и со всяческой помпой. Магдален-Сибилла обидела бы герцога, если бы обошлась неучтиво с таким важным посланцем. Она приняла его.
Магдален-Сибилла жила теперь в маленьком замке близ города. Золотые амурчики свешивали с потолков гирлянды, на драгоценных гобеленах скакали кавалькады великосветских охотников, сверкающие зеркала отражали богатые покои, наполненные предметами роскоши, подобающими знатной даме. Две кареты, сани, портшезы, верховые лошади были к ее услугам. В вестибюле сверкал многоцветными каменьями сделанный из золота и серебра павлин – символ благосостояния. В коридорах праздно и чинно зевала многочисленная челядь. Карл-Александр был щедр в отношении своей дамы сердца; даже король Польский не мог бы окружить свою метрессу бо́льшим блеском и комфортом.
Магдален-Сибилла жила среди этого великолепия, ко всему безразличная, точно замороженная. Она выезжала, принимала гостей, смеялась и вела светскую беседу, но все это машинально, как марионетка. Пышность безжизненно повисла и застыла вокруг нее; замок был подобен мавзолею торжественно погребенной покойницы.
Она приняла Зюсса с холодной вежливостью. Величественное лиловато-коричневое парчовое платье, длинные, плотно облегающие рукава, небольшой вырез. Смуглому лицу с синими глазами придано выражение учтивой важности, словно перед ней баден-дурлахский поверенный в делах, с правительством которого отношения сейчас натянутые; черные волосы чинно спрятаны под напудренным париком. Сперва Зюсс попытался преодолеть ее холодность непринужденной, светски игривой болтовней, изысканной галантностью. Она отвечала кратко и презрительно. Увидев, что так ему не удастся растопить ледяную броню бесстрастия, он переменил тактику. Сделал попытку вызвать в ней раздраженный протест, начав с жаром благодарить за то, что она соблаговолила принять его. Она ответила, что только послушалась приказания его светлости. Немного помолчала и, не сдержавшись, добавила, что после всего ею перенесенного она может вытерпеть и это.
Теперь Зюсс почувствовал под ногами почву. Перенесла! Вытерпела! Быть дамой сердца герцога Вюртембергского, скажите какое несчастье! Дочери всей швабской аристократии жаждут этого. Роскошный замок, сотня слуг, охоты, ассамблеи по первому ее желанию, бедняжка, ах, сколько ей приходится терпеть!
Магдален-Сибилла сбросила маску. Итак, он желает дать бой, он, по-видимому, думает, что она все позабыла, со всем свыклась и он, проклятый жид, торгаш, может начать прямо с того места, где остановился перед тем, как продал ее герцогу. Она резко поднялась и так небрежно смахнула на землю модную азиатскую собачонку, подаренную Карлом-Александром, что та затявкала. Нечего ему притворяться. Он отлично знает, о чем идет речь, какое зло он ей причинил.
– Один вы всему виной! – воскликнула Магдален-Сибилла, сверкая глазами, и к ее смуглым, не по-женски смело очерченным щекам прилила кровь, так что нежный пушок на них ожил.
Зюсс видел крепкую, гладкую шею, видел, как бурно поднимается и опускается ее грудь. Вот теперь он довел ее до того, до чего хотел. Почему она себя недооценивает, сказал он вкрадчивым, ласкающим, волнующим голосом. Она сама воспламенила его светлость, его помощь для этого не понадобилась. Но если даже предположить, что он и вправду всему причиной, – и он оглядел ее с ног до головы, дерзко и многозначительно усмехаясь, – чем он, собственно, ей повредил? Им ведь ни к чему пользоваться словарем мещанских моралистов, они могут изъясняться смело и открыто, как подобает людям высшего круга. Говоря откровенно, чем он так уж ей навредил?
Она тяжело дышала, делала резкие движения, мало соответствующие чопорно-торжественному платью, врожденная вспыльчивость прорвалась наружу. Чем навредил? Ах он лицемер и наглый жид! В ложь и притворство превратил он каждое ее слово, каждое движение! Задушил в ней живое дыхание Божье!
– Кто виной тому, что слова Священного Писания, заветные слова, поблекли для меня и потеряли всякий смысл? Вы, вы тому виной! Вы иссушили и убили их! – восклицала она.
Но сказать ей хотелость вовсе не то. Почему же она лжет, почему боится обнажить его подлую низость и продажность его чувства? Почему, во имя всего святого, почему она лжет?
Зюсс сразу же уловил фальшь в ее словах. Зачем она так говорит? Уж с ним-то ей незачем так говорить. Все это пустые отговорки и самообман, сказал он. Гирсауское библейское общество, и дыхание Божье, и сны, и видения – все это ведь притворство и маскарад, это годно для бессильных, бесплотных, немощных мужчин и для худосочных уродливых старых дев. Он оглядывал ее с ног до головы наглым, настойчивым, оценивающим взглядом.
– Кто так сложен, как вы, – воскликнул он, – у кого такие глаза, сударыня, такие волосы, хотя вы их и скрываете, – тому не нужен Бог. Будьте правдивы! Не лгите себе самой! Святость была только личиной, пока вы жили ожиданием.
Она оборонялась, она парировала удар.
– Вы могли украсть у меня то, чем я обладала, – сказала она. – Однако своими подлыми дьявольскими чарами вам не осквернить мое прошлое. Говорите же! Изрекайте свои жалкие кощунства и непристойности. Всей вашей болтовней вам не удастся низвести моего Бога до бредовых фантазий похотливой дурочки.
Она вызвала в памяти вдохновенные часы за книгой Сведенборга, наивное благочестие братской общины, забытые картины вновь обретали краски, она попыталась ощутить молитвенную атмосферу, окружавшую слепую деву, на один миг стала, как прежде, ясна и тверда в своей вере, и в душе ее ожил Бог.
– Пусть он даже отринул меня, – воскликнула она, и Зюсс был поражен молитвенным экстазом, звучавшим в ее голосе, – Бог жив! Бог жив! – повторила она, и он действительно воскрес для нее.
Но – увы! – только на миг. Еврей молчал, наслаждаясь ее рвением и пылом. А затем одним ударом спустил ее на землю.
– Если так, – произнес он небрежно, – почему же вы убежали от меня тогда в Гирсауском лесу? И почему ваш Бог не уберег вас от герцога? Я не считаю себя очень верующим; но я верю, что нельзя приобрести власть над женщиной, которая принадлежит Богу! Будь Беата Штурмин даже красавицей, никакой генерал, ни даже сам герцог не посмел бы подступиться к ней. Но будь она красива, – усмехнулся он, – она не жила бы мыслями о Боге!
И в то время как свет угасал в ее лице, в то время как она беспомощно глядела вслед своему отлетающему Богу, он подошел к ней ближе и сказал то, чего она боялась, и говорил он мягко, самым своим вкрадчивым голосом:
– Вот что я скажу вам, Магдален-Сибилла. Я скажу вам, почему вы убежали от меня тогда в лесу. Потому что вы любили меня. И все, что с тех пор вы делали, что чувствовали – ненависть, и отчаяние, и оцепенение, и скорбь, – все это оттого, что вы меня любили. И еще я скажу вам: у меня тоже с той поры не было дня, когда бы ваше лицо не стояло передо мной, точно живое.
Магдален-Сибилла думала, что сердце у нее разорвется, когда он произнесет эти слова. И вот он сорвал покровы с ее высоких чувств, дал настоящее название всему тому ничтожному и смешному, что скрывалось за ее ревностным стремлением вернуть сатану к престолу Божьему. И в самом деле, очень легко подвести все под простой и пошлый шаблон: глупенькая швабская провинциалка влюбилась в первого светского человека, который попался на ее пути, а видения и религиозный пыл были всего лишь вульгарной и жалкой чувственностью. Однако, как ни странно, она не умерла, когда он открыто высказал ей это. Нет, наоборот, она вся вспыхнула, она возмутилась против него, и вдруг нашла в себе силы заговорить, и обрушилась на него в искреннем гневном порыве: да, она, может быть, и таила свое чувство, но он совершил самое низкое, самое подлое, самое отвратительное, на что способны одни евреи, – он свое чувство продал.
Он же извлекал из ее слов лишь тот мед, которого жаждало его самолюбие, и с тщеславным удовлетворением видел только одно – что вся она полна им. Ему хотелось совсем приручить ее, чтобы еще горделивее покрасоваться перед ней. Как ловкий софист, к тому же заранее подготовленный к этой беседе, он сразу выдвинул те доводы, которые неминуемо должны были обезоружить и укротить ее. Льстиво и умело повел он свою речь: как она к нему несправедлива. Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством и она безропотно отдалась бы ему. Но он враг легких методов. Вскружить голову швабской провинциалке при его власти и блеске – слишком дешевая это была бы для него победа. И когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю провидения. Теперь она вкусила власти, теперь они стоят, как равный перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу.
В глубине души Магдален-Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, слишком долго она боролась и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел, или не хотел видеть, кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своей непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным, изощренным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятанными под парик темными волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесный корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышавшую полной грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданы и умерены стройная гибкость движений и невинный, вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней, заговорил тихо, привычным ему, настойчивым, вкрадчивым голосом, не спуская с нее пылкого взгляда выпуклых глаз:
– Разве вы не поняли теперь, что значит обладать властью? Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество! Сушите на досуге груши, вяжите чулки! Ну, попробуйте-ка! Нет, вы уже на это не способны! – заключил он торжествующе. – Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение.
Она встала и, прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забилась в угол. Противясь, не веря, а теперь, когда он умолк, страстно желая слушать дальше, вся дрожа, стояла Магдален-Сибилла напротив него в другом конце маленькой, заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Стройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, приблизился он к ней.
– Отбросьте ваши наивные грезы, Магдален-Сибилла! Они были хороши для Гирсауского леса. Ваша действительность теперь – Людвигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза! Крепче держитесь за нее! Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее.
Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасения, отступила в угол.
– Магдален-Сибилла! – заклинал он ее и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодатную почву. – Магдален-Сибилла! Видит Бог, не выгоды ради отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо. Чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Магдален-Сибилла, одна дорога; имя ей – власть.
И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед нею. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было не трудно, это не требовало усилий. А завоевать эту недоверчивую, строптивую – вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством, принесет желанное, необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной, равнодушной публикой, изо всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя.
Молча слушала она, как он говорил:
– И вот наконец мы как равные стоим друг перед другом, Магдален-Сибилла. И вы и я, каждый из нас держит руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?
В пылу красноречия он обнаружил то пренебрежение к своему господину, в котором никогда не сознавался даже себе, а впоследствии, когда отрезвился, сам испугался такой откровенности:
– Да, уж этот герцог! Воображает, что можно управлять страной по военному артикулу. Ничего не смыслит в политических тонкостях. Не имеет ни собственных взглядов, ни мыслей, ни даже чувств. Меряет наслаждение количеством женщин, количеством бутылок. Считает дурацкий гогот своего Ремхингена вакхическим весельем. Ведь это счастливый случай, что он напал именно на вас. Он не замечает, не понимает вашего очарования. Я один имею на вас право, я один. Я добыл вам то положение, которое вы занимаете. Я с первой минуты отметил вас, я знаю вам цену. Я взбирался наверх самостоятельно пядь за пядью, шаг за шагом, я, еврей, презираемый, ничтожный, и возвышаюсь теперь над этими швабскими остолопами, как моя кобыла Ассиада над их тяжеловозами. И вас я тоже поставил выше других добродетельных, доморощенных, честных швабских девиц. Итак, я стою перед вами, равный перед равной. И предъявляю на вас права и требую вас. Если бы вы очутились в моей постели неопытной и бесчувственной, какой явились прямо из лесов Гирсау, такая победа была бы слишком легка и принесла бы одно разочарование. Теперь же, изведав жизнь и зная, кто я и кто вы, вы должны сделать решительный шаг. Теперь вы должны сказать мне: я твоя, я иду к тебе.
Она стояла, потрясенная до глубины души, и молчала. Он же, не желая повторением ослабить воздействие своих слов, мудро сменил страстную пылкость на холодный светский тон. И не успела она прийти в себя, как он уже церемонно приложился к ее руке и оставил ее одну в растерянности и смятении.
Живой, веселый вернулся он вместе со свитой в город. Он получил то подтверждение своей власти, в котором нуждался, и вновь чувствовал себя сильнее и увереннее тех, кто угрожал ему. Ого! Пускай потягается с ним теперь неуклюжий Ремхинген или дородный князь-епископ. Их козырь – происхождение, его – женщины. И первое достигается меньшим трудом. Он сильнее их.
И кобыла Ассиада чувствовала, что он стал легче, окрыленнее, нежели по дороге туда. Что за наслаждение нести его на себе. И она звонко заржала, возвещая городу его славу.
Эслингенское детоубийство вызвало много толков и волнений по всей империи. Нагромождая ужас на ужас, молва разносила подробности о том, как еврей истязал девушку, выцеживал у нее кровь и запекал в мацу, чтобы таким путем приобрести власть над всеми христианами, с которыми у него были дела. Снова ожили старые россказни, легенды о святом младенце Симоне, трирском мученике, также убитом евреями, и об отроке Людвиге Эттерлейне из Равенсбурга. Образ умершей девочки становился все лучезарней; что это была за кроткая, ангелоподобная юная девственница! Бродячие музыканты воспевали в кабаках ее мученический конец, а летучие листки и газеты живописали его в грозных стихах и кровожадных картинках.
В народе уже зародилась мысль отомстить евреям действием. У ворот гетто собирались толпы; кто осмеливался показаться, того встречали каменьями, грязью и грубой бранью. Торговля затихла, должник-христианин издевался над заимодавцем-евреем, выщипывал ему бороду, плевал в лицо. Суды до бесконечности затягивали процессы. В Баварской земле, в окрестностях Розенгейма, на большом торговом тракте, ведущем из Вены на запад, какой-то перекупщик зерна, которому евреи стали поперек дороги, вместе с беглым писарем организовал шайку, подстерегавшую торговцев-евреев и грабившую их транспорты. Курфюрстское правительство относилось к этому равнодушно и даже благожелательно. Только гневные протесты из Швабии и решительные представления венских властей положили конец бесчинствам.
При дворах и в министерствах тоже с большим интересом следили за эслингенской историей. Ни для кого не было тайной, насколько слабы и шатки подобранные улики, всех забавляло, каким примитивным способом, избрав орудием убитую девочку, имперский город собрался насолить вюртембергскому герцогу и его финанцдиректору. Однако многие не без злорадства считали, что вся сила обвинения именно в его нелепости. Главным козырем обвинителей было народное поверье, согласно которому детям, родившимся в сочельник, угрожает особая опасность от евреев, а убитая девочка, по счастливой случайности, родилась в Рождественскую ночь.
Тяжелые, гнетущие, свинцовые тучи собирались над евреями. Испуганные, приниженные, забились они по своим углам, вперив взоры в то неведомое, что надвигалось неотвратимо. Ой! Ой! Всегда, когда одного из них забирали по такому гнусному и глупому обвинению, остальных вслед за ним тысячами убивали, тысячами жгли, вешали, десятками тысяч расшвыривали по всему свету. Объятые ужасом, притаились они в своих углах, вокруг них сгущалась тишина, жуткая, смертоносная, неотвратимая, неосязаемая, безымянная, словно из их улиц выкачан весь воздух и они тщетно силятся вздохнуть. Мучительнее всего была первая неделя. Ой, это ожидание, это страшное оцепенение, бездействие и неизвестность: кто? где? как? Самые почтенные обращались к властям. Обычно, когда в них была нужда, за ними ухаживали; теперь их даже не принимали. Ой, это пожимание плечами в прихожих, это злорадство при виде их страха, эта выжидающая усмешка, это вероломство, это безразличие к беззащитным. Ой, эти власти, которые раньше брали большие деньги за охранные грамоты, а теперь у них вдруг нет времени, когда их евреям грозит настоящая беда. Ой! Эти два невооруженных и нерадивых стражника у ворот гетто, какая они охрана от тысячной орды грабителей и убийц! Ой, кто ж не видит, что все начальство и все ратманы закрывают глаза и уши, а руки кладут за спину, чтобы чернь могла беспрепятственно напасть на беспомощных людей! Ой, какая ужасная беда! Одно спасение – всемогущий Бог, да будет благословенно его имя! Ой ты, несчастный Израиль! Ой, беззащитные, отданные на растерзание шатры Иакова!
На черных крыльях хищного коршуна леденящая сердца весть облетела все еврейские общины от Польши до Эльзаса, от Мантуи до Амстердама. Сидит пленник в Швабской земле, в Эслингене, в злом городе, в питомнике злобы и низости. Говорят гои, будто убил он одного из их детей. Ополчается Эдом, хочет напасть на нас, сегодня, завтра, кто знает когда. Слушай, Израиль!
Побледнели, поседели тут мужи, позабыли о делах, испуганно, с растерянными, обезумевшими глазами забились в углы их прекрасные, нарядные жены и с верой глядели на мужей, готовые слепо выполнить все, что прикажут они. Затаило дух все еврейство Римской империи и далеко за ее пределами. У себя в молельнях собирались евреи, били себя в грудь, каялись в грехах, постились в понедельник, в четверг и потом опять в понедельник, с вечера до вечера. Не пили, не ели, не прикасались к женщинам. Тесной толпой стояли они в своих душных молельнях, завернувшись в молитвенные одеяния и саваны, с истовым рвением раскачивались всем телом. Взывали к Богу, взывали к Адонаи Элохим, взывали пронзительными, исполненными отчаяния голосами, напоминавшими пронзительные, режущие слух звуки бараньего рога, в который они трубят под новогодний праздник. Они перебирали свои грехи, они взывали: «О Господи, смилуйся над нами не ради нас, не ради нас! Смилуйся над нами во имя прародителей наших». Они перебирали нескончаемый перечень предков, умерщвленных за прославление имени Господня, замученных сирийцами, затравленных римлянами, убитых, удушенных, изгнанных христианами, безвинно погибших в польских общинах и в общинах Трира, Шпейера и Вормса. Они стояли, завернувшись в белые саваны, посыпав головы пеплом, в молитвенном экстазе раскачиваясь до изнеможения всем телом, они спорили и торговались с Богом, когда занимался день, и, когда день угасал и склонялся к ночи, они все стояли и кричали неблагозвучными, осипшими голосами: «Припомни союз твой с Авраамом и принесение в жертву Исаака!» Но через тысячи окольных путей все молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый, пронзительный хор: «Един же велик Адонаи Элохим, един же велик Бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».
А женщины были отделены решеткой, не видимы мужчинами. Трепеща от страха, широко раскрыв глаза, точно птицы в клетке на этой жердочке, сидели они рядом, тихо, набожно и бессмысленно лепетали слова из своих молитвенников, в которых древнееврейскими буквами, на какой-то помеси немецкого и еврейского языков, были изложены библейские истории и другие священные легенды.
Во всех храмах и молельнях от Мантуи до Амстердама, от Польши до Эльзаса стояли так мужи, молились, постились. В одно и то же время, когда занимался день и когда он склонялся к ночи, все евреи, завернувшись в саваны, обратясь лицом к востоку, в сторону Сиона, с молитвенными ремнями на голове и на груди, стояли и молились: «Ничего не осталось нам, кроме Книги», стояли и взывали: «Един же велик Бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».
Однако когда миновали первые дни великого смятения, обнаружилось, что имперский город Эслинген медлит с процессом еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. То ли по политическим причинам, ожидая подходящего случая с помощью процесса оказать нажим на герцогское правительство, то ли в надежде добыть еще какие-нибудь более веские улики, но так или иначе проходили месяцы, а еврей все еще томился в тюрьме и дело его не подвинулось дальше предварительного следствия и первой ступени пыток.
Евреи же, за тысячелетия привыкшие ко всяческим преследованиям, когда миновал первый ошеломивший их испуг, забегали, засуетились, в каждом уголке отыскивали себе тайники, куда бы укрыться, когда грянет беда. Добывали подтверждения своих охранных грамот, нанимали вооруженных людей и городских стражников для охраны, по всем дорогам мчались гонцы с предложениями объединиться для совместной защиты, при всех дворах, во всех магистратах их агенты старались склонить благорасположенных сановников к принятию нужных мер; большая часть капиталов в векселях и кредитных письмах для верности препровождалась за границу.
Однако над всем, что они думали и делали, тяготела свинцовая туча. Надвигавшийся ужас нарушал их сон, превращал их пищу в пресное, безвкусное крошево, вино – в воду, отнимал аромат у их пряностей, лишал жизни их острые, пылкие, страстные, увлекательные диспуты о Талмуде, так что они умолкали на полуслове, почуяв запах крови и бессмысленно вперяя взгляд в пространство. Да, свинцовая туча нависала и над великолепием субботнего дня, который обычно по-княжески справлял беднейший из их нищих, грезя о блеске разрушенного царства и о грядущем мессии.
Все меры безопасности были приняты, но они были ненадежны, как еловые и пальмовые ветви на крышах их кущ. Туча не рассеивалась, от тучи не спасало ничто. Когда они занимались будничными делами и когда справляли праздники, из каждого угла глядел на них гнетущий страх.
Франкфуртский раввин рабби Иаков Иошуа Фальк сидел над Священным Писанием. И худые, морщинистые руки его помимо воли развернули ту главу из Пятой Книги Моисея, что содержит самое ужасное проклятие, какое только мог измыслить человеческий разум. То проклятие, которое еврей боязливо старается пропустить в Книге, то проклятие, которое кантор во время ежегодного чтения Священного Писания поспешно и пугливо бормочет вполголоса, дабы не накликать его. Но взор старого рабби не мог оторваться от грозных неуклюжих букв, и он читал:
«Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастие во всяком деле рук твоих. С женой обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Враг твой будет главою, а ты будешь хвостом. И он будет теснить тебя во всех жилищах твоих, и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына и на дочь свою. И не даст им последа, выходящего из среды ног ея, чтобы не съели его прежде нее при недостатке во всем, тайно в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И рассеет тебя Господь по всем народам: но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. И будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер! А вечером скажешь: о, если бы наступило утро! От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими».
Так читал старик, и сердце его было исполнено темного страха, и покрыл он голову молитвенным одеянием, чтобы не видеть больших грозных букв, и плакал он и стенал. Жена его, которая не осмеливалась тревожить мужа во время чтения, стояла в испуге у дверей, и старое сердце ее билось от страха так сильно, что удары его отдавались в иссохшей шее. Но она не осмеливалась тревожить мужа.
А рабби Иаков Иошуа Фальк плакал, и все молитвенное одеяние его было мокро от слез, что лились из его впалых, престарелых глаз.
* * *
Председатель церковного совета Филипп Генрих Вейсензе, ныне фон Вейсензе, очень изменился с той самой ночи, когда герцог овладел Магдален-Сибиллой. Правда, и теперь не было во всей империи, а особенно в Швабской земле, ни одной политической комбинации, которая прошла бы мимо его сладострастно принюхивающегося носа и его тонких, ловких пальцев. Но к его живости примешалась теперь какая-то зыбкость и безучастная рассеянность. Случалось, что этот благовоспитанный светский человек и превосходный собеседник останавливался среди разговора и начинал говорить о чем-либо постороннем. Или же вовсе замолкал на полуслове и тряс головой, бормоча что-то невнятное. А то еще бывало, что он, обычно одетый очень тщательно, по самой последней моде, вдруг появлялся без подвязок или вообще допускал какую-либо необъяснимую погрешность в туалете. Весьма примечательно было его обращение с женщинами. Он говорил и держал себя с ними в высшей степени галантно, но, при всей учтивости, мог сказать им такую непристойность, которая приводила в замешательство даже генерала Ремхингена. Кроме того, ему приписывались теперь амурные связи, о чем раньше не было слышно. И по странной случайности, он предпочитал тех дам, которые заведомо прошли через руки Зюсса.
К Зюссу он льнул теперь еще больше, нежели раньше. Это всех удивляло. Ибо среди приближенных герцога ни для кого не было тайной, что сейчас еврей не так уж всемогущ, как несколько месяцев назад. Да и при том доверии, которым пользовался Вейсензе в качестве руководителя католического проекта, он вовсе не нуждался в подобном прислуживании и подлаживании к финанцдиректору. Тем не менее он не упускал случая поговорить с ним, потереться возле него и настолько открыто проявлял свою симпатию, что подозрительный Зюсс усмотрел тут желание войти к нему в доверие, а затем свалить его, и потому был с Вейсензе сугубо настороже. А иногда председатель церковного совета позволял себе вдруг неподобающие выпады, связанные с еврейским происхождением Зюсса, от чего раньше решительно воздерживался; например, ни с того ни с сего спрашивал у Зюсса значение каких-нибудь еврейских слов, и хотя тот с явной досадой подчеркивал, что давно растерял свои скудные познания в древнееврейском языке, Вейсензе продолжал настаивать, особенно если разговор происходил в большом обществе.







