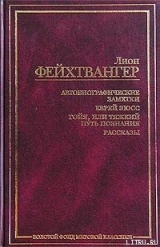
Текст книги "Еврей Зюсс"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
Человек, смиренно сидевший у стены, сказал:
– Не большой труд и малая доблесть упорствовать и быть мучеником. Многие презирают меня за то, что я стал христианином. Но комья грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их. Ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почестей, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве не правильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства? Жить в такой камере, – и мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам, – конечно, очень тягостно. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тягость есть заслуга?
– У вас, ваше преподобие, весьма приятная манера обертывать душеспасительное учение вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное мадерское вино – бесспорно, доступные и отрадные истины; и то, что вы говорите о тени от тени и слове от слова, звучит складно и красиво. Но видите ли, я променял свой дворец в Зеегассе на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно; но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены, – усмехнулся он лукаво. – Внушите же господину городскому викарию, – закончил он весело и учтиво, – а попутно и себе самому: вы сделали и сказали все, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же, во мне одном.
Оставшись один, он улыбнулся, покачал головой, что-то бормоча нараспев. Вспомнил Микаэлу. Милая, глупая старушка! Он ощущал слабость, бездумную, приятную усталость. Так чувствует себя выздоравливающий, нежась в постели. В полудреме сидел он на своих нарах. И тут нежданно явилось к нему дитя, явилась его девочка, заговорила с ним. Она стала еще меньше и моложе, она была теперь совсем маленькая, точно кукла, и глядь – она села к нему на плечо, нежно потрепала его бороду и сказала: «Глупенький папа! Глупенький папа!» Она пробыла около получаса. Она говорила еще, но совсем по-ребячески, с детской важностью и серьезностью говорила о тюльпанах, о толковании какого-то места в Песни Песней, о подкладке его нового кафтана. Когда она исчезла, Зюсс, точно спящий, дышал глубоко и радостно, полуоткрыв рот. Как звал он ее раньше, а она не пришла, сколько отчаянных, неистовых, нелепых деяний совершил он ради нее, яркий, огромный, жертвенный костер возжег он ей, и она не пришла. Какой он был глупец! Ведь она так мала, она такой нежный, миролюбивый, маленький человечек. На что ей его яркие, великие, громогласные деяния и жертвы. Но теперь, когда он совсем притих и уже примирился с тем, что больше не увидит ее, она вдруг пришла, и то был великий, полновесный дар. Он ходил по камере пять с половиной шагов туда, пять с половиной шагов назад, и камера была богата и изобильна, она была – целый мир, и он простер руки и засмеялся так молодо, звонко и счастливо, что сторож в коридоре, испугавшись, подозрительно заглянул в дверцу.
Майор Глазер объявил Зюссу, чтобы он был готов назавтра поутру ехать в Штутгарт. Майор знал, что еврей едет в Штутгарт выслушать себе смертный приговор, но он не получил распоряжения осведомить его и не видел в том нужды. Зюсс, под благостным впечатлением от слов Ноэми, решил, что его везут домой, на свободу. Он мысли не допускал, что его могут, вопреки точной букве закона, лишить жизни. Он был в самом беззаботном настроении, добродушно шутил, радовался благоприятной для путешествия погоде, спросил коменданта, большого охотника нюхать табак, разрешит ли он прислать ему на память табакерку. Майор сухо отказался, однако позволил, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, чтобы Зюсс надел в дорогу парадный кафтан. Сторожу Зюсс тоже радостно и возбужденно говорил о возвращении, о свободе и подарил удивленному, озадаченному служаке чек на порядочную сумму, в виде наградных.
Ложась вечером на свои нары, он был совершенно счастлив и спокоен. Он поедет куда-нибудь за границу, поселится на берегу моря или озера в маленьком тихом местечке и будет жить уединенно и незаметно, согретый кротким сиянием душевного покоя. Две, три книги, а то и совсем ни одной. И вскоре он тихо и мирно отойдет в вечность, а среди людей останется громкий, гулкий отзвук его жизни и деяний, отзвук неверный, искаженный, как в хорошем, так и в дурном; а вскоре даже имя его ничего не будет выражать, сохранится простым сочетанием букв без всякого смысла; под конец заглохнет и оно, и наступит великая ясная тишина и парение и кроткое сияние в вышнем мире.
Следующий день был морозный, солнечный. Зюсс выехал ранним утром, невзирая на холод, в открытом экипаже. Он сидел, ослабевший и довольный, на заднем сиденье, один караульный рядом с ним, другой – напротив. По бокам, впереди и позади экипажа, – сильный конвой. Зюсс пытался заговаривать со своими спутниками, но им был дан строгий приказ не отвечать. Он не огорчился. Прислонившись к спинке экипажа, он, после долгих месяцев, проведенных в духоте, вдыхал, впивал, глотал, видел, осязал чистый, вольный, благодетельный воздух. Взгляд не упирается в стену, какое блаженство! Деревья, на них легкий, удивительно чистый снег. Необозримое снежное поле мягко и плавно сливается с небом. Божий мир, дивный, чудесный, чистый Божий мир! Воздух, вольный, сладостный воздух с непривычки опьянил узника, и он откинулся на спинку коляски, совсем ослабев и обессилев; но он был счастлив. Он распахнул красный, шитый золотом атласный кафтан на пушистой бархатной подкладке и даже расстегнул навстречу ветру зеленый камзол, окаймленный золотым галуном. Ноги в коричневых панталонах дрожали от слабости. Бархатную шляпу и плохо сидевший на косматой голове парик он снял и с наслаждением ощущал, как струя воздуха при быстрой езде обвевает седые пряди его волос.
Но в Штутгарте, у городских ворот, в ожидании сгрудилась чернь. Завопила, заорала при виде коляски, принялась бросать камни, комья грязи. На еврея набросились, выволокли его, швыряли из стороны в сторону, трепали за седую бороду. Поднимали вверх детей: «Глядите, глядите! Вот он, живодер, иуда, убийца, поганый жид!» Плевали, топтали. В клочья изодран нарядный красный кафтан, в грязь затоптана изящная бархатная шляпа. Завсегдатаи «Синего козла» говорили с удовлетворением и лирической грустью:
– Не дожил до этого покойный булочник Бенц.
С трудом удалось конвою отбить пленника. Едва дыша, сидел он теперь в экипаже, посеревшее лицо в ссадинах, струйки кровавой слюны на всклокоченной бороде; солдаты, тесным кольцом сомкнувшись вокруг него, грозили толпе оружием.
Вопли и вой проникли также в просторную комнату, где лежала Магдален-Сибилла, рожая ребенка Эмануэлю Ригеру. Советнику экспедиции хотелось, чтобы она произвела ребенка на свет в деревне, в их прекрасном поместье Вюртингхейм: но когда она по необъяснимым причинам непременно пожелала остаться в городе, ему пришлось подчиниться. И вот она лежала в родовых муках; болтливая, заботливая повивальная бабка хлопотливо топталась вокруг, советник экспедиции, бледный, потный, смиренно и услужливо бегал взад и вперед. Хотя сложение у нее было могучее и, казалось, вполне приспособленное к деторождению, однако роды протекали не так легко, как можно было ожидать. Она лежала, кричала, упиралась, напрягалась, тяжело переводя дух. Вот настала минута облегчения, откинувшись, побледнев, обливаясь потом, трепетала она от беспрерывно набегавшей судороги. В тишину ворвался рев толпы, отчетливо прозвучали слова разудалой песенки: «На виселицу еврея!» Советник экспедиции потер руки.
– Доброе предзнаменование, что дитя рождается под знаком правосудия, – изрек он. Но она с ненавистью поглядела на щуплого, невзрачного мужа и начала молиться беззвучно, без рифм и выкрутасов, настойчиво и страстно: «Боже, отец небесный! Не допусти, чтобы он был похож на этого слизняка! Боже, отец небесный! Ты достаточно испоганил мне жизнь. Так хоть это одно даруй мне, чтобы ребенок мой не был похож на него!»
Зюсса тем временем доставили в ратушу. Огромная зала была набита зрителями, судебная коллегия в торжественных черных мантиях была в сборе. Еврей увидел грубовато жизнерадостную широкую физиономию Гайсберга, тонкое насмешливое лицо Шютца с крючковатым носом, надменное, жестокое – Пфлуга, даже физиономия молодого Гетца, обычно тупая, пошлая, румяная, была одушевлена ненавистью, местью и злорадством. Тут он понял, что ему суждена не свобода, а смерть. И председатель, тайный советник Гайсберг, своим резким, гулким, негибким голосом с сильным швабским акцентом как раз начал зачитывать приговор. Зюсс слушал монотонный перечень: злостный ущерб стране, хищения, грабеж, государственная измена, оскорбление величества, политические преступления, а затем вывод, что он приговорен к смерти через повешение.
Он увидел в жарко натопленной зале сплошную толпу сановников, министров, членов парламента, генералов, пыхтящих, потеющих, исполненных торжества. Он видел, как мелкое подлое зверье набрасывается на большого зверя, беззащитного по доброй воле, и вгрызается в него, и копошится, и оттесняет друг дружку, чтобы каждый успел напоследок запустить зубы в распростертое тело, в котором еще теплится жизнь. И вдруг воскрес в нем прежний Зюсс. Он встрепенулся, он заговорил, старый, разбитый человек, покрытый кровью и грязью надругательств, вдруг воспрянул и дал ответ своим судьям, с невозмутимой, язвительной логикой соскреб налет патетики с приговора. Безмолвно были выслушаны первые его фразы. Но потом, побагровев от такой дерзости, накинулись на него знатные вельможи, по примеру черни рычали, колотили его саблями, и, как у черни, конвой с трудом вырвал у них осужденного. Но когда его уводили сквозь бушующую толпу, вдогонку ему донесся голос тайного советника Пфлуга, который с жестокой издевкой произнес:
– Еврей сказал, что выше виселицы его все равно не вздернут. Это мы ему еще покажем.
Экстра-почтой спешили из Гамбурга рабби Габриель Оппенгеймер ван Страатен и рабби Ионатан Эйбешютц. В пути они обменивались лишь самыми необходимыми замечаниями. Они видели вздрагивающие крупы часто сменяемых лошадей, гнедых, белых, вороных; они видели скользящий мимо ландшафт, ровные поля, горы, леса, реки, виноградники. Но видели они лишь глазами, мысли их были далеко. Один за другим мелькали придорожные камни. Перед ними же неотступно стоял тот лик, который они стремились увидеть, пока он еще не угас.
На широком лице рабби Габриеля, как всегда, сердитое выражение, плотное тело облегает добротная бюргерская старомодная одежда. Рабби Ионатан в шелковом кафтане, из-за белой как кипень волнистой бороды кротко светится хитрое моложавое лицо; после долгих недель мирских искушений он вновь погрузился в созерцание, в сознание, в Бога. Последний период жизни и перемена в судьбе Зюсса манили его жестоким соблазном. Но не как зрелище гибели человека. И он и рабби Габриель, не сговариваясь, угадывали, понимали странное сплетение добровольного и насильственного в этом конце. Подобие, тайная зависимость, загадочный ток, шедший от того человека к ним, затрагивал и рабби Ионатана, окрылял и угнетал его. Он чувствовал, что врос в того человека, сильный мощный корень его души отмирал с тем человеком. Так ехали мужи, глядя вперед, навстречу смерти Иозефа Зюсса, и тяжелой тучей оседало на них сознание их связи с ним.
И по другим дорогам тянулись люди в Штутгарт к Зюссу, ради Зюсса. Под большой охраной и прикрытием спешил гоффактор Исаак Симон Ландауер; при нем, хотя обычно он ездил без всякой помпы, находились три кассира-еврея и, кроме наемной стражи, еще несколько сильных, надежных молодцов. Спешил и низкорослый, дряхлый Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин, и тучный вспыльчивый фюртский раввин. Все три мужа встретились поблизости от Штутгарта, им предстояло явиться на аудиенцию к герцогу-регенту, и было сделано все возможное, чтобы их не обеспокоили при въезде.
Карл-Рудольф принял их в присутствии Бильфингера и Панкорбо. И сказал фюртский раввин:
– Ваша светлость прославлены на весь мир своею справедливостью. Но справедливо ли, чтобы разбойники сидели тут рядом, в Рейтлингене, Эслингене, и смеялись бы и пожирали добычу, а чтобы еврей, менее повинный перед законом, расплачивался за них? Ваша светлость справедливы к высшим и низшим, к швабам и австрийцам, к католикам и протестантам. Будьте же справедливы и к вашему еврею.
И сказал франкфуртский раввин:
– Реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер был первым среди евреев, он родился в старой почтенной еврейской семье. Что бы он ни сделал, скажут, что это сделало все еврейство. Если его повесят, а христиане, соучастники его, будут гулять на свободе, то скажут, что еврейство повинно во всем, и ненависть, преследование и злоба вновь обрушатся на все еврейство. Ваша светлость – милостивый монарх и государь, вашей светлости известно, что еврей виновен не меньше и не больше, чем сотоварищи его – христиане. Мир будет повергнут в соблазн, а на удрученных и угнетенных обрушатся новые испытания, если его будут судить не так, как других. Из глубины скорбящих и смиренных сердец просим мы вашу светлость смилостивиться над одним евреем и над всем еврейством.
И сказал Исаак Ландауер:
– Что сделал реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер, так это причинил убытки деньгами и добром отдельным людям и всему Вюртембергскому герцогству. Но денежный урон может быть возмещен теми же деньгами. Все еврейство, все мы соединились и собрали деньги, большие деньги, огромные деньги. И вот мы пришли и просим вашу светлость: отпустите на свободу реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Мы же согласны возместить все, в чем он когда-нибудь нанес урон, согласны возместить щедро, чтобы Вюртембергское герцогство отныне и впредь цвело и благоденствовало. Если вы отпустите на свободу еврея Иозефа Зюсса Оппенгеймера, мы внесем добровольный штраф в пятьсот тысяч дублонов.
Молча выслушали евреев герцог-регент и оба министра. Предложение Исаака Ландауера ошеломило их. Предложение было вызовом. Но сумма была так грандиозна, настолько выше самых крупных цифр, когда-либо стоявших в бюджете герцогства, что такими словами, как наглость и дерзость, нельзя было попросту отделаться от этого предложения. Пятьсот тысяч дублонов. Пятьсот тысяч золотых дукатов! Мысль выкупить Иозефа Зюсса дерзка и глупа. Но мысль выкупить Иозефа Зюсса за такую громадную сумму – проста и смела до гениальности и способна потрясти своим грандиозным размахом. Вот на это и рассчитывал Исаак Ландауер, на этом он и строил свой план. Он с самого начала не сомневался, что хитростями и логическими доводами, призывами к справедливости, мольбами о пощаде здесь ничего не добьешься. Быть может, больше действия окажет такая неуклюжая, наивная прямолинейность. За деньги можно купить все на свете: землю и скот, горы, реки, леса, императора и папу, кабинеты министров и парламенты. Почему же нельзя откупить у этих швабских гоев их жажду мести и нелепую болтовню о правосудии? Этому герцогу дорога его глупая, неправая справедливость. Хорошо, так и плата за нее дорогая. Пятьдесят тысяч золотых дукатов! За такие деньги в случае чего можно купить целое небольшое герцогство: неплохая цена за малую толику так называемого правосудия.
Прежде чем герцог и министры успели прийти в себя, Исаак Ландауер продолжал:
– Мы платим не векселями, мы платим не обязательствами, мы платим золотом, чистым золотом. Золотыми дукатами, круглыми, полновесными. – Не спеша подошел он к двери и с невозмутимой, на диво независимой улыбкой сделал знак своим людям. Безмолвно, точно завороженные, смотрели регент и его министры на вошедших молодцов. Они втащили мешки, небольшие, очень тяжелые мешки, и по знаку старика в засаленном кафтане стали высыпать их содержимое. И потекло золото, испанское, африканское, турецкое, золото всех стран света. Сыпалось, скоплялось, не иссякая, громоздилось в человеческий рост, разрасталось многолетним дубом, горой золота. Сосредоточенно смотрели кособокий старый скупой герцог и тучный Бильфингер. Дон Бартелеми Панкорбо высунул костлявое сизо-багровое лицо из допотопных брыжей, тощие пальцы протянулись, словно когти хищника, не могли устоять, прильнули к золоту, к милому золоту, окунулись в безбрежный поток. Исаак Ландауер стоял рядом в засаленном кафтане с нечесаными пейсами, в некрасивой, неестественной позе и загадочно улыбался, локоть одной руки он прижал к туловищу, а ладонь выставил вперед, другой рукой он расчесывал рыжеватую седеющую козлиную бородку.
Предложение Исаака Ландауера было отклонено. Но речи престарелых мужей оставили отклик в сердце герцога. Он несправедлив! На пороге смерти ему пришлось стать несправедливым. Не только к Зюссу, но и к другим евреям. Алчность не владела им, золото не трогало его. Но эти-то люди дорожили своим золотом. Золото, золото было их жизнью и целью. И все-таки они добровольно принесли такую неслыханную дань, дабы отвратить его, герцога, неправоту. Долг его ясен: прежде всего он обязан быть справедлив к своим швабам, а потому несправедлив к еврею. Но эта гора золота давила его, ранила до крови.
Он отправил письмо к герцогу Карлу-Фридриху Вюртембергскому с настоятельной просьбой посетить его. Он намеревался передать ему опекунство и регентские права. Он сделал все возможное, чтобы вытащить страну из болота, в котором она погрязла, и, пожалуй, добился своего. «Справедливость! – говаривал он. – Долг, авторитет!» Но, видно, немыслимо в нынешние времена править страной, руководствуясь такими принципами. Ему пришлось смотреть, как выпускают на волю достойных казни плутов, как незаконно вешают еврея. Ему стукнул семьдесят один год, он устал. Он чувствовал, как слабеют его душевные и телесные силы. Ему трудно, писал он императору и заявлял вюртембергским тайным советникам, самолично вникать в столь сложные и важные дела правления. Ему, этому кособокому, прижимистому честному солдату, хотелось деревенского покоя в его маленьком цветущем Нейенштадте, хотелось мирной кончины.
Ввиду того, что Зюсс при объявлении приговора проявил такую дерзость и строптивость, его тут же, в здании палаты, где ему надлежало пробыть до того, как приговор будет приведен в исполнение, заковали крест-накрест и, оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас стих и, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу, у стены пустой, но не совсем темной комнатушки. Аман, министр Артаксеркса, посетил его; у него был крючковатый нос и жестокий, надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф, жестом господина фон Гайсберга неловко, игриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили и другие, те, что поприветливей, беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Елеазар – Пфефле, Авраам в образе Иоганна Даниэля Гарпрехта спорил с Богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми, Исайя-пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел Авессалом; только волосы были седые, а лицо под ними – его собственное.
Но вот на пороге кто-то затявкал, заскулил, зарычал. Ах, опять это городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугсбургского исповедания. Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз. Однако Зюсс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос викария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое; он готов завещать евангелической церкви десять тысяч талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь.
На смену явился другой нежданный посетитель. Изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно; у него узкий, вытянутый, как у борзой, череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн-и-Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится, нельзя допустить, чтобы казнили Зюсса. Человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку. Человека, от которого католическая церковь хоть и не официально, но на виду у всех дворов принимала услуги. Нет, нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность, он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличия, правила света требуют, чтобы его не допустили до соприкосновения с виселицей. Старый князь сам, инкогнито, под именем барона Нейгофа отправился в Штутгарт. Он всегда терпеть не мог еврея, он так и не простил ему, что желтая гостиная в Монбижу убила его желтый фрак, а темно-малиновая ливрея слуг во дворце на Зеегассе – его темно-малиновый кафтан. Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью; и, уж во всяком случае, ему больше нечего опасаться, что антураж Зюсса затмит его.
Он явился с определенным планом. Он поможет Зюссу бежать, как помог бегству Ремхингена. С евреем дело будет сложнее; но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле регенту в конце концов даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюсс не может оставаться евреем. Он должен, – и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямиться, – он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика; кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов.
С отвращением отшатнулся элегантный князь, после того как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что ж это такое? На полу сидел старый сгорбленный жид. И это финанцдиректор? И это знаменитый селадон? Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюсс увидел лицо посетителя.
– Да, – сказал он с еле уловимой усмешкой, – да, это я, ваша светлость.
В чулан поставили нары, стул и стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти. Быть может, еврей опять собрался одурачить всех? Быть может, это только ловкий фортель? У него было такое же неприятное чувство, как тогда в желтой гостиной и перед темно-малиновыми ливреями. Неужто же еврей достиг невозможного и затмил его здесь, в этой камере, при таких обстоятельствах? Но пусть все другие идут на удочку: он не из таких. Его-то уж еврей не поймает в ловушку. Он, владетельный князь Турн-и-Таксис, многоопытный скептик, не поддастся обману.
– Передо мной вам нечего прибегать к симуляции, ваше превосходительство, – начал он вкрадчиво и учтиво, как в светском салоне. – Ведь не думаете же вы, что я способен поверить в подобный маскарад. Это, конечно, фортель. Под виселицей вы внезапно скинете мерзкую бороду и явитесь рассудительным, светским кавалером со всем своим прежним апломбом. А это просто маневр, – заключил он торжествующе. – Просто-напросто маневр. Милейший господин экс-финанцдиректор, в такую комедию могут поверить разве что господа члены парламента. Но не я. Меня вы не проведете.
Зюсс молчал.
– У вас, наверное, имеются еще козыри на руках, – продолжал допытываться князь. – И вы думаете козырнуть в последнюю минуту. Сейчас вы, должно быть, хотите разыграть великомученика, чтобы потом воскреснуть в сугубом ореоле. Будьте осторожны! Настроение здесь опасное. Возможно, что вам не дадут опомниться. Возможно, что вас – прошу прощения – повесят, а козыри так и останутся у вас на руках.
Но Зюсс молчал по-прежнему, и князь потерял терпение.
– Ваше превосходительство! Почтеннейший! Сударь! Поймите же вы! Отвечайте же! Я вам добра желаю. Вряд ли вам когда-нибудь снилось, что германский владетельный князь будет так стараться для вас. Послушайте! Говорите же! – Раздосадованный поведением Зюсса, старый князь без всякого подъема изложил ему свой план и свое условие. Когда он кончил, Зюсс не шевельнулся и не раскрыл рта. Сильнее, чем когда-либо, чувствовал себя униженным изящный старый князь. Он-то побеспокоился приехать сюда, а еврей сидит себе и даже не возражает с пафосом, а просто молчит. Князь вдруг почувствовал себя старым и усталым, это молчание было ему нестерпимо.
– Вы в тюрьме разучились хорошим манерам, – с насильственной иронией вымолвил он. – Когда о вас так хлопочут, вы могли бы хоть сказать mille merci[35]35
Тысяча благодарностей (фр.).
[Закрыть].
– Mille merci, – повторил Зюсс.
Князь поднялся. Тот факт, что еврей не желает принять из его рук спасение, а предпочитает идти на виселицу, он воспринял как личную обиду.
– Вы круглый дурак, милейший, – сказал он, и любезный голос его стал неожиданно резким. – Ваш стоицизм порядком устарел. Теперь уж не умирают, чтобы заслужить похвальный отзыв в школьных учебниках истории. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом, справедливо заметил ваш царь Соломон. – Он отряхнул пыль с кафтана и закончил, стоя уже в дверях: – По крайней мере сбрейте бороду и оденьтесь поприличней, если вам уж так не терпится, – он поморщился, – очутиться в поднебесье. Хотя бы этого можно требовать от человека, который был любезно принят в интимном светском кругу. Вы собрали многочисленную изысканную публику. До сих пор вы с достоинством играли свою роль. Не бросайте же тени на свою светскую репутацию, уходя с подмостков жизни. – С этими словами он удалился.
Виселица, на которой намеревались повесить Зюсса, была сооружена сто сорок лет назад. Устройство ее стоило очень дорого, при тогдашней дешевизне она обошлась в три тысячи оберландских гульденов и представляла собой нечто совершенно особенное, совсем не похожее на обыкновенную деревянную виселицу. Вышиной она была с башню и достигала тридцати пяти футов. Вся она была построена из железа, из тридцати шести центнеров и восемнадцати фунтов железа, отобранных алхимиком Георгом Гонауером для того, чтобы превратить их в золото для герцога Фридриха; попытка эта стоила герцогу двух бочонков золота. В честь злополучного Георга Гонауера виселицу и воздвигли, окрасили в красный цвет, отделали позолотой и повесили на ней Гонауера.
За ним подряд последовало еще несколько алхимиков, водивших за нос герцога Фридриха. Первый был итальянец Петрус Монтанус. Через год после него Ганс Генрих Нейшелер из Цюриха, прозванный слепым алхимиком. Еще через год-другой Ганс Генрих, по прозванию Мюлленфельз. Ему везло дольше; он часто потешался над тремя собратьями, парящими в поднебесье; а теперь воспарил и он. Потом виселица долго стояла без дела. Но вот какой-то кузнец из графства Эттинген надумал разобрать ее и унести по частям. Он уже отвернул три бруса и в ночное время успел стащить свыше семи центнеров железа, когда его схватили и покарали орудием его преступления.
Свыше столетия бездействовала виселица. Теперь господин фон Пфлуг, которому было поручено организовать казнь, назначил еврею, шестому по счету, такой же род смерти. С самого начала процесса жестокий и надменный тайный советник предвкушал это торжество своей ненависти. Теперь же он готовился так отпраздновать его, чтобы помнила вся Европа.
С изощренным издевательством обдумывал он подробности казни. Сластолюбие еврея, его плотские грехи, растление обрезанным псом христианских немецких женщин не было, к его великому сожалению и против его воли, включено в мотивировку приговора. Зато теперь, когда дело дошло до казни, у него руки развязаны. Уж он припомнит еврею его похотливость и наглое распутство.
Он решил вздернуть его не просто на виселице, а в птичьей клетке, намекая на его гнусные развратные петушиные похождения.
Следственная комиссия не скупилась на расходы, чтобы поторжественнее обставить экзекуцию. На месте казни, на так называемом Тунценгофском холме, или, иначе, лобном месте, были построены комфортабельные ложи для кавалеров и дам. Военный отряд, назначенный эскортировать осужденного и поддерживать порядок, репетировал свою роль. Железную виселицу тщательно отремонтировали, повозку смертников снабдили более высокими колесами, колокол, возвещающий о казни, – новой веревкой, палача и его помощников – новой формой.
Много внимания было уделено точному выполнению хитроумной затеи господина фон Пфлуга. Еврей острил, что выше виселицы его все равно не могут вздернуть. Вот ему и покажут, могут ли. Захотят, так поднимут птичью клетку над виселицей.
Постройка клетки и всего сложного подъемного механизма была поручена мастерам Иоганну Кристофу Фаусту и Фейту Людвигу Риглеру. Клетка разбиралась на две части, высотой была в восемь футов, шириной в четыре фута, по окружности ее шло четырнадцать обручей, а в вышину семнадцать брусьев. С помощью остроумного механизма ее можно было поднять много выше виселицы. Сооружение ее стоило огромных денег. Под конец к ней пришлось приложить руку всему цеху слесарей. За два дня до казни шестерка лошадей втащила эту махину вверх по круче на Тунценгофский холм. Школьники столицы бежали следом. Весь Штутгарт побывал за эти дни на лобном месте. В наскоро сколоченных лавчонках продавали вино и пиво. Разносчики навязывали летучие листки с изображением еврея и сатирическими стишками. Толпа весело прогуливалась по морозцу, с любопытством смотрела, как сколачивают ложи, любовалась лоском виселицы, замысловатым устройством клетки.
Впечатление, произведенное на обывателей птичьей клеткой, превзошло ожидания господина фон Пфлуга. Неистовый гогот и хохот разносился по городу, по всей стране. Бесчисленные куплеты о птичнике облетели все герцогство, распевались ребятишками на улицах. Но никто не желал верить, что автор этой удачной шутки – господин фон Пфлуг; народ единогласно приписал блестящую выдумку своему любимцу, всеми почитаемому майору фон Редеру. А потому куплеты о птичнике распевались обычно с известным припевом: «Воскликнул сам фон Редер тут: „Стой иль умри, презренный плут!“
В камере Зюсса сидели рабби Габриель и рабби Ионатан Эйбешютц. Внушительный паспорт на имя подданного Генеральных штатов без всяких разговоров открыл перед мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном двери тюрьмы. Теперь они сидели все трое и завтракали. Рабби Габриель привез фруктов, фиников, фиг, апельсинов, а также печенья и крепкого южного вина. На Зюссе был пунцовый кафтан, седые волосы покрывал берет, над переносицей у него, так же как у обоих раввинов, врезались в лоб три борозды, образуя букву Шин, зачинающую имя Господне – Шаддаи. Он макал фиги в вино. Это была его последняя трапеза. Рабби Габриель толстыми пальцами делил на дольки апельсин. Они сидели все трое и ели фрукты, молча, сосредоточенно. Но мысли их мощным потоком струились от одного к другому. Рабби Габриель и Зюсс были теперь одно, и впервые рабби Габриель воспринимал эту зависимость не как неволю и злой рок, а как дар. Третий из них, рабби Ионатан Эйбешютц, тоже ощущал связующий их ток, только он был вне его, он стоял на берегу, и волна не несла его. Он сидел с ними, он пил с ними, он был, как и они, отмечен знаком Шин, он был доступен познанию и откровению, как и они; но волна не несла его. Рабби Габриель не спеша посыпал апельсин сахаром и разделял на дольки. Разливал густое, черное южное вино. В камере невысказанным витало слово, мысль, образ, Бог. Но рабби Ионатан терзался горько, мучительно, жестоко. Он пытался успокоить себя циничной шуткой: легко парить над землей, когда тебя вешают. Но это злое утешение не имело силы, он, богатый мудростью и всеми благами мира, чувствовал себя неприкрытым завистником и почти предателем. И, повторяя за теми двумя слова застольной молитвы, он, во всем великолепии шелкового кафтана и белой как кипень волнистой бороды, величавый, всезнающий, всеми почитаемый, был попросту жалкий, печальный, конченый человек.








