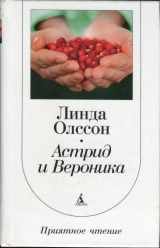
Текст книги "Астрид и Вероника"
Автор книги: Линда Олссон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
– Ты где? – спросил Джеймс.
– В Стокгольме. Тут Рождество, – добавила я, понимая, что звучит это глупо. – Решила съездить домой на праздники.
Он засмеялся, и я вспомнила, какой у него чудесный смех. И каково это – смеяться самой.
– Приезжай в Новую Зеландию, Вероника. Приезжай ко мне! – предложил он. – У нас тут тоже Рождество. Раз в году. Да и в остальное время тут неплохо. Приезжай и будешь со мной жить в совсем новом мире.
Я отняла телефон от уха и посмотрела на дисплей. Похоже, Джеймс отрастил волосы. Я подняла голову и ощутила, как снежинки покалывают кожу.
Когда Джеймс заговорил вновь, я уже приняла решение.
Я двинулась через сад Кунгстрэд-горден, где вязы маячили белыми кораллами, опушенные снегом. Маленький каток был полон фигуристов, которые ловко кружились под музыку, что лилась из репродуктора. А над ними кружились снежинки. Я миновала Оперный театр, перешла по мосту, в Старый город. Над водой зыбился белый пар, утки и лебеди теснились на тонком льду, окружавшем прорубь, переминались с лапки на лапку и ждали от прохожих подачки.
На площади Сторторгет было многолюдно. Над рынком витали запахи глинтвейна, горячих пряников, свечей, копченостей. В центре площади, сбившись тесной кучкой, маленький хор выводил рождественские песнопения без аккомпанемента, а капелла, и с каждой нотой над головами поющих взлетали облачка белого пара.
У меня внезапно обострились все чувства. Я словно собирала мельчайшие подробности и наблюдения, копя их на будущее. Потому что я уезжала. Повинуясь прихоти, я уезжала на край света, к тому человеку, которого едва знала. Уезжала, чтобы вновь обрести способность смеяться.
Вечером мы отправились в «Бла Портен» – Йохан заранее заказал столик. В ресторане на столах горели свечи, и меню ничуть не изменилось. У Йохана волосы промокли от снега. Пришел он, нагруженный пакетами из магазинов, и задвинул их под стол. Мы заказали бутылку красного вина. Йохан сидел напротив меня, потирая руки, и я вспомнила – у него всегда мерзнут пальцы.
«Руки замерзли», – смущенно признался он, улыбнулся и подышал на них. Я всматривалась в лицо Йохана, как недавно – в уличные подробности, чтобы и его запомнить на будущее. Серые глаза с невероятно яркими белками, даже голубоватыми. Изогнутые светлые ресницы, прямой длинный нос, тонкие белокурые волосы, которые скоро поредеют. Мне вдруг подумалось, что мы, должно быть, со стороны выглядим счастливой и дружной четой, которая пришла в ресторан посидеть за предпраздничным ужином. Влюбленной парой, которой вместе хорошо и уютно.
За едой мы беседовали. В теплом свете свечей можно было на некоторое время забыть о промозглом мире снаружи. Но вот мы заказали кофе со взбитыми сливками, и миг объяснения надвинулся неотвратимо.
Когда я сообщила Йохану, что уезжаю, то поняла: никогда и никому больше не хочу причинять такую боль. Может, виноват был зыбкий свет, но Йохан мгновенно помертвел. Он сидел в оцепенении, молча, широко распахнув глаза. Только руки его шевелились – стискивались и разжимались пальцы. Потом по лицу Йохана покатились слезы, закапали на эти стиснутые пальцы. Он даже не утирал глаза. Я не знала, что и сказать, и мы сидели молча, а публика за соседними столами беззаботно ела, смеялась и болтала. Словно ничего и не изменилось. Наконец Йохан сказал: «Прости, я сейчас» – и ушел в туалет. Я расплатилась по счету и подождала его у выхода, взяв все пакеты.
Обратно мы поехали на такси. Дома выпили виски – в молчании, обменявшись едва ли несколькими словами.
– Наверно, мне лучше завтра не ехать с тобой на остров к твоей маме, – сказала я.
Йохан ничего не ответил. Потом бросил:
– Давай завтра решим, – и ушел на кухню.
Но утром ничего не изменилось, мы оба приняли решение. Оба знали, что я с ним не еду. Йохан принялся паковать вещи.
– Я провожу тебя до парома, – предложила я.
Он даже не обернулся, но попросил меня вызвать такси.
Снегопад перестал еще ночью, но расчистить улицы не успели. Город будто обложили толстым слоем белой ваты, приглушавшей все звуки. Мы стояли на пирсе перед Гранд-отелем, по щиколотку в снегу, и ждали, пока откроются ворота на трап к парому. Вставало солнце, и лучи его падали на старые здания вдоль Скеппсброн на противоположном берегу. Йохан сжимал пакеты с подарками, потому что поставить их было некуда. Когда ворота распахнулись, он обнял меня, и пакеты легонько стукнули меня по спине.
– С Новым годом, с Рождеством, Вероника, – шепнул Йохан мне на ухо. Потом отступил на шаг, глядя себе под ноги – на пятачок снега, на расстояние между нами. – Я ошибся, Вероника, понял, что ошибся. – Йохан поднял глаза. – Радоваться только сегодняшнему дню с тобой – этого мне мало. Мне было нужно и будущее. – Он пошел на паром и больше не оглядывался.
Глава 19
Астрид не шелохнулась. Дышала она легко и ровно. Где-то на подоконнике жужжали упорные мухи, и это был единственный звук в полнейшей тишине. Вероника закрыла глаза и докончила:
– Так я покинула Йохана, и для меня он замер в том прощальном мгновении, будто вмерз в прошлое. Я вижу лишь его спину. Лицо мне теперь не представить, не вспомнить.
Она помолчала.
– Забыть любимое лицо, потерять его – это так печально, – тихо откликнулась Астрид. – Казалось бы, вроде и легче, если забудешь лицо, ан нет.
Вероника видела затылок Астрид, седые пряди, рассыпавшиеся по подушке. Захотелось погладить Астрид по голове, но Вероника так и лежала, подсунув руку под щеку.
– Нет, если лицо забываешь, так тебе еще и горше, еще и хуже. – Астрид перевернулась на спину и потеребила пуговицы на своей рубашке. Потом посмотрела на Веронику. – Я забыла лицо дочки. Оно пропало из моей памяти. Описать могла бы до мельчайших подробностей, но видеть – не вижу.
Дальше она рассказывала с закрытыми глазами, и напряжение сошло с ее лица, а на губах заиграло слабое подобие улыбки.
– Волосы у нее были мягкие, а цветом – что твоя медь. Будто солнце на них играло – у матери моей точно такие же были. Уродилась она глазастая, и глаза получились черные и ясные-ясные. Наверно, с возрастом они бы стали зелеными – в мою мать. А как доверчиво дочка смотрела на меня… Я водила пальцем по ее лобику – никогда не встречала ничего нежнее и шелковистее. Когда я ее пеленала, то клала ладонь ей на грудку и на живот, и она заглядывала мне в глаза. Я носила ее, прижав к себе, ручки ее лежали у меня на груди, и казалось, она все еще остается частью меня. Ножки ее брыкали меня так, будто малышка все еще находилась у меня в утробе. – Астрид помолчала. – С тех пор как она появилась на свет, не было дня, чтобы я о ней не думала. Но лица ее я не вижу. Забыла.
Вероника, как и Астрид, перевернулась на спину и сложила руки на животе.
– Расскажите мне о ней, – попросила она. – Хочу увидеть вашу дочку.
Глава 20
С тобой одной о том я говорила,
Что более никто и угадать не в силах.
И на путях-дорогах бесконечных
Была ты одиночеством мне вечным[24]24
Карин Бойе. Посвящение. Сборник «Очаги» (1927). Карин Бойе (1900–1941) – знаменитая шведская поэтесса так называемой новой волны. Рано начала писать и публиковаться. После увлечения буддизмом пришла к христианству. Помимо поэзии, прославилась романом-антиутопией «Каллокаин». Покончила с собой вследствие острого душевного кризиса, вызванного любовным треугольником, состоявшим из смертельно больной подруги и постоянной спутницы жизни.
[Закрыть].
АСТРИД
Я назвала ее Сарой, в честь мамы. Родилась она здесь, в этой самой комнате. В ту февральскую ночь случился настоящий буран; деревню, дом, дороги – все замело снегом. Я лежала без сна и прислушивалась, как воет ветер, как снег стучит в окно, и знала, что вот-вот родится мое дитя. Под утро ветер стих, взошло солнце. Я смотрела за окно, и мне казалось – мир тоже только что родился. Будто снег и ветер в одну ночь сотворили для моего ребенка новый мир.
Повивальная бабка все-таки добралась до нас, невзирая на снежные заносы и запорошенные дороги, и поспела как раз к родам. Она положила мне на руки запеленутое маленькое тельце и с улыбкой сообщила:
– Девочка у вас.
Я распеленала малышку и провела рукой по ее гладкой коже. Протянула ей палец – она крепко ухватилась за него. Ноготки у нее были как крошечные блестящие рыбьи чешуйки. Я заглянула в ее темные глаза, и меня затопило небывалое ликование. Я остро чувствовала, что мы с ней непобедимы, нам вместе ничто не страшно. Мне и моей дочке. Моей Саре.
Я зарылась носом в ее шейку, вдохнула ее запах. Гладила ее по волосикам, по щекам, приложила губы к ее лбу.
И только потом, подняв голову, заметила, что в комнату вошел муж. Он давно уже стоял у изножья кровати, сложив руки на груди. Повивальная бабка объявила ему:
– У вас дочка. Хорошенькая малышка!
Он не ответил ни слова. Желваки у него на скулах задвигались, губы шевельнулись, но он молчал. И пристально смотрел на младенца.
– Рыжая, – произнес он наконец. – У нее рыжие волосы.
И вышел.
Дочку я таскала с собой везде, не оставляла ни на минутку. Я чувствовала, что угадываю малейшее ее желание, любую потребность, и она у меня никогда не плакала. Когда потеплело, я стала брать ее с собой в лес, на свою заветную полянку в чаще. По дороге я беседовала с ней, рассказывала ей только о хорошем и прекрасном, старалась, чтобы Сара видела вокруг только красоту. Мне хотелось, чтобы у нее была чудесная жизнь и чтобы мир был к ней добр. Чтобы она любила и ее любили.
Добравшись до полянки, мы садились на солнышко, и я снова попадала в зачарованный мирок, как раньше. Вновь высокие темные ели сплошным караулом охраняли того, кого я любила. И мир ненадолго и правда стал добрым и чудесным.
В тот год май выдался дождливый, по крайней мере мне так показалось. Но дождик в солнечную погоду – совсем не то что в пасмурную, он ласковый. Теплое весеннее утро начиналось для нас с мягкого перестука дождевых капель. Нет, даже не перестука. Капли падали легко, беззвучно. Морось наполняла воздух, тихо питала все растения. Я гуляла с малышкой, носила ее на руках, спрятав под свой дождевик. Муж почти всю весну отсутствовал – у него были дела в Стокгольме, но, когда начались банковские каникулы, вернулся.
И почему я так ясно вижу все это, а лица моей девочки различить не могу?
Я вошла в дом и мгновенно поняла – муж вернулся. Дверь была не заперта, от моего толчка она отворилась легко и беззвучно.
Он склонился над кроваткой Сары. Я вижу эту сцену так отчетливо, будто это было вчера. Сквозь занавески пробивалось яркое солнце, словно нарочно заглянуло в окно, чтобы я различала каждую мелочь.
Я подбежала к кроватке, взяла дочь на руки, прижала к груди и вышла вон.
Мы уселись с ней за домом, у земляничной грядки. Был летний вечер, солнце еще стояло высоко в небе. У нас над головой метались ласточки, охотясь на комаров, которые так и роились в воздухе с той поры, как настали теплые деньки.
Сидели мы прямо на траве, я прижимала Сару к груди и касалась губами ее макушки. И рассказывала ей о землянике. Обещала, что нанижу ягоды на стебелек травы-тимофеевки и будет сладко-пресладко. Каждый день я буду собирать для тебя землянику, говорила я. Но на грядке еще только завязался земляничный цвет, и я знала, что не успею. Знала, что времени не будет.
Глава 21
В комнате потемнело. Солнце скрылось за облаками, и оконные стекла задребезжали на ветру, предвещавшем дождь.
Вероника повернулась к Астрид, нежно погладила ее по голове, заправила седые пряди за ухо. Положила руку старушке на плечо. Так они и лежали, а ветер с шорохом теребил жалюзи.
– Канун Иванова дня, а, похоже, будет дождь, – произнесла Вероника. – Я-то думала, мы пойдем в деревню, посмотрим на гулянья и на шест. Мне казалось, неплохо было бы пройтись. Если дождь перестанет.
Астрид не ответила, лишь глубоко вздохнула. Вероника села на постели, спустила ноги на пол. Глянула на часы и заметила:
– Уже перевалило за полдень.
За спиной у нее заворочалась Астрид, Вероника подвинулась, но та не встала.
– Да, – ответила старушка, – сегодня хорошо бы прогуляться в деревню на праздник.
Вероника тихонько выскользнула из спальни. Астрид так и не встала.
Когда Вероника зашла за Астрид днем, та сидела на скамье у своего крылечка. Старушка переоделась в белую рубашку, на плечи накинула синюю шерстяную кофту, а влажные вымытые волосы зачесала со лба. Она как-то иначе выглядит и держится, подумала Вероника. У нее изменилась осанка. В Астрид появилась уверенность. Достоинство. И, кажется, облегчение.
Они не торопясь зашагали с холма в деревню. Дождь перестал, но в воздухе разлилась сырость, а небо занавесили облака. От дождя сильнее запахло травой и клевером. Вероника вела Астрид под руку – та охотно согласилась и, когда обе зашагали в лад, слегка оперлась на локоть спутницы.
На лугу у реки, за местной церковью, толпились деревенские. Многие нарядились в яркие национальные костюмы. Красные юбки женщин развевались на ветру. Все предвкушали праздник, настроение царило взволнованное и даже восторженное; к берегу подходили лодки, доносилась музыка. По реке вереницей двигались четыре гребные лодки, и на каждой в такт гребцам наигрывал скрипач.
Вероника и Астрид встали несколько в стороне. Они молча наблюдали, как лодки пристают к берегу, как высаживаются из них на луг новые участники праздника и присоединяются к радостной толпе, как поднимаются по лугу к шесту, увитому березовыми ветвями и полевыми цветами. Шест покамест лежал на траве. А скрипачи с лодок двинулись к оркестрантам, только и ждавшим, чтобы заиграть всем вместе. Компания мужчин принялась дружно и сноровисто поднимать шест. Музыканты настроили инструменты и заиграли. От происходящего веяло языческой древностью, показалось Веронике. Народная музыка слегка отдавала печалью, но звучала живо, так и звала танцевать. Как только шест водрузили и укрепили, взрослые и дети выстроились вокруг него хороводом и танец начался.
Астрид стояла, обеими руками запахнув на груди кофту, и внимательно наблюдала за хороводом. Потом слегка кивнула и слабо улыбнулась Веронике. Вновь облокотилась на руку спутницы.
– Пойдемте посидим у реки? – предложила Вероника через некоторое время. – Оттуда музыку тоже слышно, и у воды хорошо.
Она чувствовала, что Астрид притомилась стоять – старушка опиралась на ее руку чуть тяжелее, чем поначалу. Вместе они неспешно спустились к реке, сели на траву. Сквозь облака наконец-то пробились солнечные лучи. Астрид, усевшись, руку спутницы не выпустила, но, кажется, ей полегчало. Вероника закутала ноги подолом юбки – назойливые комары не давали покоя. Она отмахивалась от них, но тщетно.
– Вот, возьмите. – Астрид протянула ей роликовую мазь от комаров. – Я летом без мази из дому ни на шаг, заедят ведь. – Она усмехнулась. Вероника сказала «спасибо» и поспешно намазала ноги, руки и шею.
– Не забыть бы на обратном пути нарвать семь цветов, – сказала Вероника. – Помните из песни, какие именно надо?
Астрид ответила ей понимающей улыбкой.
– Как же, незабудку, тимофеевку, колокольчики. Вроде еще фиалки? – Она задумалась.
– Да, и красный клевер, – добавила Вероника. – И пушицу. И еще какой-то… всегда забываю название!
– Тысячелистник, – напомнила Астрид. – Я когда-то читала о нем, что в Китае его применяли для ворожбы. Значит, для гадательного букета на Иванов день – самое то.
Вероника удивленно глянула на старушку, но та рассматривала, как играют солнечные блики на речной воде. Яркие зайчики так и стреляли во все стороны.
– А кто вам приснится, Вероника? – спросила Астрид. – Вот положите вы цветы под подушку, погадать, и кого увидите во сне?
Вероника не ответила. Она обхватила колени руками, оперлась на них подбородком.
– Я и приехала сюда, чтобы спастись от снов, – ответила она наконец.
Глава 22
ВЕРОНИКА
Но океан мне все еще снится. Мой враг. Да, мне снится мой враг, а не моя любовь. Во сне я снова и снова вижу бесконечную сверкающую водную гладь, переливы зелени и синевы – от непроницаемой чернильной темноты глубин до яркого изумруда отмелей.
Именно таким океан предстал передо мной впервые, когда самолет начал снижаться над Новой Зеландией. Океан все тянулся и тянулся без конца. Оторвись на миг от иллюминатора – и не заметишь крошечный клочок суши посреди океана. Новая Зеландия. Аотэроа. Но я не отводила глаз от иллюминатора ни на секунду. У меня было ощущение, будто я начинаю все сначала, будто я омыта морем и овеяна ветром, как земля внизу. Будто я шагнула со скалы, не зная, где и как приземлюсь. Прижавшись лбом к стеклу, я смотрела, как приближается Новая Зеландия.
В аэропорту по причине утреннего времени оказалось немноголюдно. Я быстро миновала таможенный досмотр и с багажной тележкой двинулась вперед, высматривая знакомое лицо в толпе встречающих. Но Джеймс увидел меня первым. Подошел сзади и положил руки мне на плечи, повернул к себе, и мы замерли – остров в бурном потоке пассажиров, текущем мимо, и мы стояли так, пока какой-то вежливый азиат не попросил нас отойти с дороги. Я оглядела Джеймса: волосы, кажется, отросли и еще больше вьются… линялая бейсболка, потертая белая майка, мятые шорты, загорелые ноги в резиновых сандалиях. Жадно всмотрелась в лицо Джеймса, узнавая, вспоминая мельчайшие подробности. Взгляд мой обежал по контуру его губ, по бровям, скулам. Я сравнивала Джеймса, которого хранила в памяти, с нынешним. Он снова стал моим. Где-то в глубине груди разгорался островок тепла, нет, жара, он ширился, рос, вот уже жар разлился у меня по всему телу, растекся по рукам и ногам до кончиков пальцев, добрался до губ. Я улыбалась, но мне казалось – я смеюсь.
Мы вышли из аэропорта, и меня ослепил солнечный свет и яркие краски. По бесконечному небу тянулись легкие белые облачка. Свежий ветер подталкивал нас в спину.
По дороге в Окленд я смотрела в окно машины, разглядывала мелькавшие мимо пейзажи, но не всматривалась. Джеймс что-то говорил мне, то и дело что-то показывал, высунув левую руку в приоткрытое окно, а потом клал ее обратно мне на колено. Я изучала его профиль, руку, лежащую на руле, босые ноги на полу машины. Здесь он был у себя дома, единое целое с окрестными видами, со своей одеждой, машиной. Здесь были его корни. Внезапно я остро осознала, насколько крепки узы, связывающие меня со Старым Светом. Как я неуместна здесь: тяжелая, теплая, темная одежда, по-зимнему бледное лицо… даже пахну и то неправильно. В этом ярком, новеньком, только что сотворенном мире, где веет свежий ветер, я слишком старая, слишком усталая, чужая этому миру.
Мы поехали прямиком домой к его матери в Сент-Мери-Бэй. Когда машина остановилась, я в изумлении воззрилась на дом. Белая деревянная вилла, такая же как и соседние, – тут, на тихой улице, они выстроились в ряд. Причудливое строение, будто сошедшее со страниц сказки с картинками, этот дом оказался больше, чем я ожидала. Джеймс рассказывал, что его мама живет в небольшом домике в центре Окленда, но передо мной был просторный дом, с огромными окнами до пола, с открытой верандой по всему периметру. Белопенные розы вздымались из-за штакетника, а еще подле дома росло какое-то большое дерево, усыпанное гроздьями ярко-красных цветов – они веселыми помпончиками колыхались и подскакивали на ветру.
Мы выгружали мой багаж, когда из дома нам навстречу вышла мать Джеймса. Она ждала нас на верхней ступеньке крыльца – изящная, невысокая, просто, но изысканно одетая: белые льняные брюки и бежевая майка. Волосы стянуты на затылке. Босая, ненакрашенная. Поднимаясь по ступенькам, я искала в ее лице сходство с сыном. Длинноватый нос, большие серые глаза, пухлые губы. Ничего общего. Она тоже рассмотрела меня очень внимательно, но на губах ее играла улыбка. Казалось, она готова рассмеяться.
– Вероника, – произнесла она, нарочито четко выговаривая мое имя по слогам, – добро пожаловать в Новую Зеландию, Ве-ро-ни-ка. А меня зовут Эрика.
Она обняла меня и тотчас отпустила. Объятие было быстрым и легким, будто дуновение ветра. Едва ощутимо подтолкнула меня в спину – мол, входите, не стойте на пороге.
Мы прошли через дом на заднее крыльцо. Все комнаты напоминали хозяйку дома. В них был свет, простор, притягательность, но и только. Приятное жилище, однако чересчур уж гостеприимным его не назовешь.
Джеймс, как выяснилось, устроился в отдельной пристройке, в дальнем конце сада. Туда он и провел меня, без труда неся оба моих чемодана. Мы шагали по траве, и я не могла оторвать взгляда от фигуры Джеймса. Он переменился. Или, может, здесь, дома, он был раскованнее, больше был собой. Он и ступал как-то по-особенному, словно земля и трава охотно и ласково принимали его шаги. А за ним по траве топала своими тяжелыми кожаными ботинками я. На веранде у меня ноги сразу подкосились от усталости, и я села на двуспальную кровать. Мне было не по себе. Джеймс поставил чемоданы и спросил:
– Устала?
Я кивнула.
– Душ принять сумеешь или тебе помочь? – с улыбкой поинтересовался он и, поскольку я не ответила, добавил: – Да-а, сдается мне, сама ты не справишься.
Он плюхнулся рядом со мной и принялся расстегивать мою блузку.
…У Эрики мы прожили с месяц. Джеймс нашел себе временную работу на лето – в местном океанариуме и подыскал какую-то постоянную на осень. Работа в океанариуме, правда, не относилась к пределу его мечтаний, но на жизнь хватало. Я понемногу работала над книгой, писала небольшие отрывки. Постепенно обрисовывалась идея книги в целом, принимая все более четкие очертания.
Эрика частенько уезжала на несколько дней – то навещала друзей на побережье, то отправлялась на экскурсии, так что мы подолгу оставались в доме вдвоем. Я проводила сладостные праздные часы на террасе позади дома, расположившись в тенечке со стареньким рыжим котом Эрики, а попозже к вечеру выходила пройтись по магазинам, купить еды. Мы часто бывали в ресторанах и кафе, предпочитали одно заведение на Понсонби-роуд. Я постепенно привыкла к неспешному укладу местной жизни, к простору, удобству, радушной обстановке, тихим улицам, не перегруженным транспортом. Меня забавляло, что местные жалуются на пробки. Окленд виделся мне не городом, а скорее зародышем города. Ему еще предстояло развиться. С нашего холма я смотрела на город внизу, где телебашня словно бы отмечала центр будущего мегаполиса.
После ужина мы обыкновенно возвращались в тихий дом и сидели на террасе в плетеных креслах лицом к саду и любовались, как заходящее солнце щедро окрашивало город сначала розовым, золотым и оранжевым, затем сиреневым и лиловым, а потом победу одерживала темная ночная синева. Потом мы любили друг друга на старой кровати в комнате Джеймса, и дверь-гармошка в сад стояла нараспашку. Все было как раньше.
– Я и родился в море. Оно окружало меня всю жизнь, – рассказывал Джеймс. Он лежал в постели нагишом, а в саду неумолчно свистели и стрекотали цикады. – Для меня море, океан – сама жизнь. Его запахи, звуки… я без них не могу.
Джеймс приподнялся на локтях.
– Ты только представь себе волну – огромную, высокую, бледно-изумрудную стену, и косяк лосося гонится за рыбешкой помельче. Красивее этого ничего в мире нет.
Он притянул меня к себе, взял мое лицо в ладони и заглянул мне в глаза.
– Хочу, чтобы ты познакомилась с океаном, узнала его поближе, чтобы вы полюбили друг друга.
На следующий день Джеймс повез меня на берег океана, в Пиху, посмотреть, как он катается на серфе. Побережья на западе Новой Зеландии фотографировали и снимали в кино много раз. Можно сколько угодно смотреть на них на экране и фото, сколько угодно читать об опасностях, непредсказуемых подводных течениях, смертельных воронках под обманчиво тихой поверхностью воды. О силе прибоя. Но все равно я была не готова к тому, что увидела.
Мы вынесли из машины пляжные подстилки, корзинку с провизией и Джеймсову доску для серфинга. Бесконечность океанского побережья потрясла меня. Пляж тянулся и тянулся и не кончался, и лишь кое-где темнели крупинками человеческие фигурки. Чайки вились высоко в небе, но близко не подлетали. Пляж и океан заливал ослепительный солнечный свет. Океан был повсюду, куда ни глянь. Я вошла в воду по колено и ощутила пугающую силу океана – он толкал меня, дергал, сжимал в тисках, пытался сбить с ног. Джеймс засмеялся – я видела это по его лицу, но сам смех не слышала, все заглушал неумолчный, непрерывный шум прибоя. Джеймс потянул меня за руки, обрызгал водой, он смеялся, тормошил и теребил меня, звал играть, резвиться, но я стояла в оцепенении, ощущая, как песок уползает у меня из-под ног, увлекаемый прибоем.
Потом я уселась на пляжную подстилку, положила на колени книгу, но мне не читалось – я не спускала глаз с Джеймса. А если и отводила взгляд от сверкающей стены прибоя и смотрела на книжные страницы, то силуэт Джеймса все равно проступал перед глазами, впечатывался под веки. Джеймс был там, среди громадных водяных валов, – крошечная черная фигурка на белой доске для серфинга. Он нырял между гребнями волн, исчезая на несколько минут, и каждый раз эти минуты казались мне вечностью. Кучка купальщиков держалась у берега, в пределах, огороженных флажками и буйками, а вот серфингисты уплывали дальше и правее. Когда Джеймс наконец вернулся, весь мокрый, смеющийся, я обнаружила, что только теперь разжала затекшие руки, которыми до этого намертво вцепилась в книгу.
Январь выдался солнечный, жаркий, погожий, так что мы почти каждые выходные проводили на пляже у океана. Но привыкнуть я так и не смогла, и легче мне не становилось. Океан сделался моим врагом. Мы с ним соперничали за одного и того же мужчину.
В феврале мы переехали в съемный дом – всего в нескольких улицах от матери Джеймса. Эрика не оспаривала наше решение и вообще никак не показала, по нраву ли ей наша идея или нет. И все же, когда мы поселились отдельно, я ощутила виноватое облегчение. Дом оказался типичным для Понсонби коттеджем – гостиная, спальня и кабинет. За домом имелся запущенный садик, и в нем рос лимон. С заднего крыльца, если встать на цыпочки и вытянуть шею, виднелся океан.
В первый вечер на новом месте мы с Джеймсом устроились на крыльце – пили пиво и курили. Весь день провозились по хозяйству, вымотались и взмокли. Меня разморило от упоительной телесной усталости, когда тело расслаблено, а ум сохраняет ясность. И я была совершенно счастлива.
– Тут можно всю жизнь прожить, – сказал Джеймс. – С детьми, кошками и собаками.
– С детьми? – спросила я и сама удивилась тому, как легко, просто и охотно приняла эту мысль о детях. О наших с ним детях.
– Ну да, с нашими детьми, – кивнул Джеймс, наклонился и прижался ухом к моему животу, но сначала поцеловал его. – Вот сюда-то мы их и посеем, здесь-то мы их и вырастим. Наших детей.
Я закрыла глаза и прислонилась к стене, перебирая его волосы.
– Хочу, чтобы всегда все так и было, – поглаживая мои ноги, пробормотал Джеймс. – Я люблю тебя, – добавил он, и тело мое впитывало его слова каждой клеточкой.
Солнце спускалось все ниже за холм, и город терял свои яркие краски – его накрывала ночь. Свист бесчисленных невидимых цикад становился все громче, а воздух наполнялся ароматом невидимых в темноте цветов. И в этой темноте мы с Джеймсом слились в целое – друг с другом и с окружавшей нас ночью. Потом мы лежали на деревянном полу, и я смотрела в небо, испещренное незнакомыми звездами. Голову я положила Джеймсу на плечо и уткнулась носом ему под ухо. Вдыхала запах его тела и поглаживала свой живот. Я думала о детях, которые у нас появятся.







