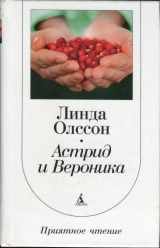
Текст книги "Астрид и Вероника"
Автор книги: Линда Олссон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Глава 8
Вероника осторожно поставила чашку на стол – тонкий фарфор внезапно показался ей особенно хрупким. Да и Астрид держала свою чашечку двумя руками, точно защищала.
– Позвольте, я покажу вам остальной дом, – предложила старуха, встала и поманила Веронику за собой. Из просторной кухни они вышли в прихожую. Астрид кивнула через плечо.
– Живу-то я там, в кухне и задней комнатке, – пояснила она. – А в гостиной даже не топлю и наверх почитай и не подымаюсь. Гостиная там. – Она указала на запертую дверь в конце коридора.
На второй этаж вела широкая лестница полукругом. На первой ступеньке Астрид задержалась и указала на еще одну закрытую дверь.
– Тут у отца был кабинет, а я теперь устроила кладовку.
На втором этаже дверей было пять. С широкой площадки второго этажа из больших окон виднелся из одного дом Вероники, а из другого – склон холма и дорога в деревню. Добрую часть лестничной площадки загромождал старый ткацкий станок; у правого окна – пара плетеных стульев и столик. Но первое, что бросалось в глаза, – это пестрые домотканые половики, устилавшие пол. Один, скатанный, был отодвинут под самый край крыши.
– Когда отец умер, я изрезала всю его одежду на лоскутья и принялась ткать половики, – призналась Астрид. – А когда мужа увезли в дом престарелых, взялась вот за этот. – Астрид повозила ногой по одному из половиков. – Мне приятно по ним ходить, приятно наступать на них.
Взяв Веронику за руку, хозяйка распахнула одну из дверей.
– Это когда-то была моя комната.
Полутьма, застоявшийся воздух, опущенные шторы.
– А потом, когда я вышла замуж, отец устроил тут себе спальню. Здесь он и умер.
Астрид метнула взгляд на узкую кровать, застеленную белым вышитым покрывалом.
– Я обнаружила его уже мертвым. С открытыми глазами. Я опустила ему веки и закрыла лицо простыней.
Астрид захлопнула дверь, а соседнюю и отпирать не стала, просто пояснила:
– Тут была вторая спальня. Наверно, для гостей, хотя гостей у нас сроду не бывало. А вот тут ванная.
Они пересекли лестничную площадку, и Астрид остановилась, словно не решаясь надавить на дверную ручку.
– Вот там, дальше, просто маленькая спаленка. Я… – Она осеклась, не договорила и лишь кивнула на крайнюю дверь. – А тут большая хозяйская спальня.
Дверь распахнулась. Глазам Вероники предстала комната, заставленная потемневшей старинной мебелью. Широкая двуспальная кровать, письменный столик, стул, массивный гардероб. Воздух здесь был прохладный и ничем не пахнул. Точно в музее, подумала Вероника. Выставка, посвященная далекому прошлому.
– Раз в неделю я проветриваю комнаты, но в остальное время сюда не хожу, – сказала Астрид. Она прошла к окну, распахнула двери на балкон, который тянулся вдоль всего второго этажа. Они с Вероникой облокотились на перила. Внизу, в саду, тянули вверх корявые ветви яблони. Дальше расстилались поля, еще покрытые прошлогодней жухлой травой, а за ними виднелась деревня и на горизонте – холмы. Воздух был холоден и промозгл, и из долины поднимался легкий туман – будто наползала, колыхаясь, прозрачная серая дымка.
– Отсюда прекрасный вид, знаю. Но, представьте, он никогда не доставлял мне ни малейшей радости. – С этими словами Астрид вернулась в дом и, дождавшись Вероники, заперла балкон.
Позже, по дороге к себе домой, Вероника глубоко вдыхала холодный воздух. Весенняя трава только-только начала проклевываться, а почки на березах распустятся недели через две, не раньше, и все же в воздухе пахло зеленью и весной. Дни становились все длиннее, вечера – все светлее.
Оставалась неделя до Троицына дня. За утренним кофе Вероника написала пригласительную записку и опустила ее в почтовый ящик Астрид. Потом она спохватилась: да ведь старуха навряд ли проверяет почту! Вероника решила подождать денек-другой. В последнее время она часто видела Астрид: та копалась в крошечном садике по южную сторону дома – вскапывала землю, возилась с семенами. Вероника соседку не тревожила, просто жила своей обычной жизнью – с утра ходила гулять, а потом до самого вечера писала, засиживаясь допоздна, поскольку вечера делались все светлее.
На следующее утро Вероника заглянула в почтовый ящик. Записка исчезла. Но Астрид не дала знать о себе, и в саду Вероника ее в этот день не видела. Однако, проходя мимо по своим делам, заметила приоткрытое окно и решила: должно быть, старушка дома, заняла наблюдательный пост. И вдруг Вероника увидела, как прекрасны когда-то были и этот старый дом, и этот сад – ряд высоких берез, чьи бледно-фиолетовые почки уже набухли, готовясь распуститься, и плавный скат холма, обращенный к деревне. На западной стороне сада росло несколько черемух, а под ними – запущенная живая изгородь из сирени. Когда все это зацветет, будет очень красиво, подумала Вероника. А позади дома располагался маленький фруктовый сад, тоже заросший и неухоженный. Стволы яблонь покрывал серый лишайник, и лишь кое-где на голых ветках виднелись набухшие почки. Похоже, когда-то вдоль изгороди тянулись клумбы – Вероника заметила несколько нарциссов, пытавшихся пробиться сквозь поросль сорняков. Да ведь и мой сад тоже зарос, вдруг осенило Веронику. Потом она спросила себя: что значит «мой сад»? Ведь дом-то не ее, и сад тоже. Временами она спрашивала себя, как вообще очутилась здесь и что тут делает. В этой деревне. И в этом доме.
Целыми днями она перелистывала и освежала в памяти свои записи, что-то подправляла и добавляла. И каждый раз занятие это мгновенно затягивало ее, уносило в совершенно иной мир, который с каждым днем удивительным образом оживал, делался все яснее, будто течение времени придавало ему четкости.
Каждую ночь Веронике снился океанский пляж, но к утру она помнила свой сон какими-то крошечными обрывками. Однако воспоминание о нем сопровождало ее весь день.
Веронику поражало, что здесь, где ничто не связывает ее с прошлым, воспоминания сохраняют такую отчетливость и настолько реальны и полны жизни. Она наблюдала, как с каждым днем заброшенный соседский сад оживает и хорошеет, готовясь к лету, но перед ее внутренним взором снова и снова вставала и заслоняла все новозеландская растительность – вечнозеленые деревья похутукавы с красными цветами и новозеландский лен. Может быть, так и надо было – уехать от них так далеко, потому что издалека все покинутое видится отчетливее. Может быть, воспоминания и оживают на расстоянии. Но хотя Вероника и начала воскрешать прошлое, облечь его в слова пока еще не удавалось. Она просиживала за компьютером часами, и – безрезультатно. Задуманная книга упорно ускользала. С одной стороны, Веронику преследовали навязчивые воспоминания. С другой – она погрузилась в местную деревенскую жизнь. Это уже два мира, а третьим была книга, и вот получалось, что Вероника живет в трех мирах, тремя жизнями одновременно, но все они никак не связаны между собою.
Прошел еще день, и Вероника получила от соседки ответ – обнаружила его утром в своем почтовом ящике, хотя и не заметила, чтобы Астрид его туда клала. Конверт пожелтел от времени, полоска клея высохла, а почерк у Астрид хотя и оказался каллиграфический, все же было заметно, что она давно не бралась за перо и писала с трудом, да и слова, похоже, подбирала с трудом. Но главное – она ответила согласием.
«Милая Вероника, спасибо. Я так удивилась, когда обнаружила ваше письмо. Почта в моем ящике редкость, поэтому я отвыкла его проверять. Только представьте себе, как я обрадовалась: письмо, мне, лично, да еще приглашение. Конечно же, я его принимаю. От всей души».
Астрид согласилась прийти к Веронике на ужин.
Глава 9
Поразмыслив, Вероника решила обойтись без мяса. Погода выдалась совсем летняя, и лучше уж приготовить что-нибудь легкое. Она съездила в соседнюю деревню и в тамошней маленькой приречной коптильне купила три форели горячего копчения. А в местной лавочке накануне появились упаковки молодой картошки, правда привозной и потому непомерно дорогой, но Вероника все равно купила.
Теперь все было готово. Вероника решила, что лучше накрыть в кухне, у окна – приятнее есть при мягком вечернем свете. В распахнутое окно вливался весенний воздух, полный звуков и запахов близкой ночи: сильнее запахли цветы, потянуло сыростью – на траву выпала роса. Умолкли дневные насекомые и завели свою песенку ночные. К запахам травы и цветов примешивались кухонные ароматы – петрушка томилась в кастрюльке с картошкой, исходившей паром, остро пахли нарезанный лимон и сыр. Вероника откупорила бутылку новозеландского шардоне и налила себе бокал. Она встала у окна в ожидании гостьи и отхлебнула вина – и знакомый терпкий вкус распустился на языке. Яблоко, грейпфрут, ананас, фейхоа, масло, трава… даже специалистам не удавалось найти точное определение вкусу этого вина. Вероника смотрела в окно. Поля и холмы все еще заливали солнечные лучи, но солнце уже клонилось к закату, и природа по-вечернему притихла. Вероника впивала эту вечернюю тишь. Потом закрыла окно, оставив лишь небольшую щелку. Стекло тотчас запотело, и по нему побежали капли. В кухне играла музыка – «Förklädd gud», «Неузнанный бог» Эрика Ларссона[11]11
Эрик Ларссон (1908–1986) – известный шведский композитор. «Неузнанный бог» – сюита для смешанного хора, солистов и оркестра; текст для нее написал поэт Яльмар Гулльберг. (Прим. ред.).
[Закрыть]. Внезапно Веронике показалось, что все ее чувства слились в единое целое. Вечерняя тишина, кухонные запахи, вкус вина, музыка. Вероника с удивлением поняла, что на душе у нее мир и покой – и благие предчувствия.
Отставив бокал, она занялась приготовлением майонеза. Мутовкой взбила в миске масло, горчицу и желтки, для удобства опершись коленом на табуретку. Руки ее мерно двигались, играла музыка. И вдруг, без всякого предупреждения, на Веронику нахлынуло, а вернее сказать, обрушилось воспоминание. Они с Джеймсом на кухне в доме его матери. Смеются. Джеймс взбивает майонез. Готовит для нее. Это было в той, иной жизни, которая оборвалась. Его загорелые руки двигались непринужденно, ловко и проворно, просто загляденье, а сам Джеймс в это время рассказывал Веронике о том, какое чудесное будущее их ждет. Вероника замерла, ее рука бессильно повисла, сжимая мутовку.
Тут-то и раздались на крыльце шаги соседки. Вероника отложила мутовку и пошла отворять. В неярком свете лампочки в прихожей она увидела, что на Астрид белая мужская рубашка, от которой лицо ее казалось еще бледнее. Астрид протянула Веронике бутылку с темно-красной жидкостью и две маленькие рюмки, держа их за тонкие ножки. Вероника приняла подарки и под локоть ввела гостью в дом, а дверь захлопнула ногой.
В кухне Астрид отказалась садиться, подошла к окну и, привычным жестом заложив руки за спину, стала рассматривать свой собственный дом. А Вероника тем временем рассматривала Астрид, ее поредевшие седые волосы, сутуловатую спину. Белая рубашка была ей так велика, что полностью скрывала фигуру – как и та клетчатая, в которой Астрид ходила на прогулку, она свисала чуть ли не до колен. Рукава Астрид закатала, и оказалось, что кисти у нее неожиданно изящные и тонкие. Великоваты ей были и темные толстые шерстяные носки (она разулась еще в прихожей). Штанины мешковатых брюк потемнели от росистой травы. Вероника спросила:
– Будете вино?
Астрид чуть вздрогнула, но бокал взяла – осторожно, двумя руками. Пила она медленно, прикрыв глаза. И хозяйка и гостья молчали, лишь музыка заполняла кухню.
Они устроились за столом друг напротив друга. От миски с горячей картошкой поднимался горячий пар, и сквозняк из окна сносил его в сторону. Ярко розовела на блюде форель, обложенная ломтиками лимона, а рядом белел майонез в особой чашке. Был тут и кнекебрёд, и, в маленькой корзинке, ломти ржаного каравая местной выпечки, и масло, и сыр – такой зрелый, что крошился. За ужином Вероника немного рассказала Астрид о Новой Зеландии и о своей книге.
– Мне казалось, что на этот раз я напишу историю любви, но теперь вижу – получается что-то иное, – призналась она. – Текст как будто ускользает из рук… или с монитора, он зажил своей жизнью. Мне уже кажется, что история будет совсем о другом.
Старуха слушала молча, не поднимая глаз от тарелки. Паузы между фразами Вероники сразу же заполняла музыка, и потому молчание никого не тяготило. Вдруг Астрид сказала:
– Я знаю, в деревне обо мне ходят разные пересуды… – Она кривовато усмехнулась. – Впору подивиться, как это деревенские находят, о чем еще про меня сплетничать. Но ведь находят. И не надоедает им. А ведь на самом деле они не знают обо мне того, из чего можно высосать настоящую сплетню. – Она повертела в пальцах бокал. – Уверена, вы слышали, что они прозвали меня ведьмой. Я не против. Может, они и правы. – Уголки ее рта снова дернулись в усмешке. – В последнее время я уж думаю, не сказать ли им всю правду – какое мне будет облегчение! Ну, правду не правду, а как я ее понимаю. – Астрид наконец-то глянула Веронике в лицо. – Но если я не расскажу, то кто же?
Вероника ничего не ответила, и ужин продолжился в молчании – лишь позвякивали приборы. Вероника откупорила вторую бутылку вина. Потом сменила диск – поставила песни на слова Эрика Акселя Карлфельдта. Постояла у проигрывателя, вслушиваясь в текст.
Послушав немного, Вероника вернулась за стол. Обычно бледное лицо Астрид разрумянилось, и Вероника вдруг подумала: да ведь в старушке сейчас проглядывает та девушка, которая с жадным любопытством глядела за окно и гадала, что лежит за горами и лесами. Вероника всматривалась в лицо Астрид, пытаясь отыскать следы былой красоты, погибших надежд на будущее. Она вспомнила, что в современной науке есть способы, позволяющие просчитать, каким станет лицо ребенка, когда он вырастет. Иногда к этим способам прибегали, чтобы составить фоторобот пропавших детей. А Вероника сейчас пыталась проделать нечто обратное – по старческому лицу реконструировать молодое.
Она отчего-то вспомнила, как в первые дни по приезде зашла в деревенскую лавку и как кассирша толковала про местную ведьму и непременно хотела показать Веронике черно-белую открытку. На той фотографии изображена была юная, прелестная белокурая девушка в национальном костюме. Застенчиво улыбаясь, она позировала на фоне деревянного забора.
– Вот она. Правда-правда. А ведь ни за что не поверишь! – бодро воскликнула кассирша.
Но теперь Веронике легко верилось в то, что Астрид и девушка на фотографии – одно лицо. Стоило лишь присмотреться. Глаза Астрид все еще сохранили яркую синеву, только вот смотрели на мир подозрительно и настороженно. То ли потому, что к старости у нее испортилось зрение, то ли еще почему, Астрид все время щурилась, будто не доверяла жизни. Зачесанные назад седые волосы открывали восковой лоб, и что-то в этом было тревожное – и младенческая уязвимость, и старческая хрупкость; казалось, под кожей явственно проступает череп. Веронике вспомнились толстые белокурые косы, которые у девушки с той фотокарточки спадали из-под чепца на грудь. Точеный нос, белоснежные зубы. Улыбка. А сейчас, в зыбком мерцании свечей, Вероника видела, что нос у Астрид длинный и тонкий, а по сторонам рта пролегли глубокие складки, да и губы привычно сжаты в ниточку, скрывая почти что беззубый рот. Неужели она была той белокурой девушкой, с улыбкой, исполненной надежд? Или и надежд-то особенных и не было никогда?
Музыка стихла. Астрид сидела неподвижно, облокотившись на стол. Перед ней стоял недопитый бокал. Теперь старуха смотрела в окно. Еле слышно, потихоньку, она замурлыкала себе под нос песенку про луга в Сьюгарби. Астрид закрыла глаза, и тотчас голос ее окреп и зазвучал увереннее. Вероника решила, что и слушать лучше с закрытыми глазами. Удивительно – говорила Астрид медленно, с запинкой, но песня лилась у нее свободно. Старуха допела до конца, и некоторое время царило молчание.
– Когда-то я любила петь, – произнесла Астрид. – Мама, бывало, пела мне, всякие песни, а я не понимала, о чем они, с детьми ведь часто так. Я просто слушала ее голос и запоминала звуки. Потом, позже, в школьные годы, я учила местные песни. Вот такую, к примеру. – И она негромко запела:
Пока Вероника варила и разливала кофе, Астрид переставила на стол принесенную бутылку и рюмочки.
– Я уж давненько ее не собирала, – сказала она, кивнув на бутылку. – Дикую землянику. – Села, повертела в пальцах штопор. – Я ее посадила за домом лет шестьдесят назад. Принесла из лесу. Местные говорили – не приживется, мол. А у меня прижилась, я за грядкой хорошо ухаживала. Весной только снег стает, я сразу в сад, грядку расчищать. Потом летом за новыми отростками в лес ходила, в горшки их высаживала, а когда окрепнут – уже на грядку. И все лето за ними приглядывала. Дожидалась, пока ягоды поспеют, спелые они вкуснее всего. Маленькие, красные и пахнут так, что соберешь, а от рук потом долго еще земляникой веет. Я и варенье делала, и компоты, и вино. А иногда и такую вот наливку.
Она соскребла воск, которым была запечатана пробка, и откупорила бутылку. Сначала понюхала горлышко, потом разлила по рюмкам густо-алую жидкость.
– Я и забыла, что у меня осталась еще одна бутылка. Очень уж давно делала ликер, столько времени прошло. Думала, что и земляничная грядка давно погибла, а на днях поглядела – целехонька, только сорняками ее заглушило.
Подняв рюмку, Астрид продолжала:
– С секретами то же самое. И с воспоминаниями. Можно сколько угодно уверять себя, что они исчезли, но они никуда не делись, стоит лишь присмотреться. И извлечь их на свет божий.
Вероника разглядывала рюмку на просвет. Густая рубиновая жидкость таинственно алела, будто настоящее ведьмино зелье. А понюхать – и правда благоухает земляникой. Вероника сделала маленький глоток. Как сладко!
Так они сидели и смаковали земляничный ликер. Тихо наигрывала музыка. Астрид все смотрела в окно, туда, где виднелся за полем ее дом и где стелилась над травой белесая пелена тумана.
– Дикая земляника, – произнесла она, теребя ножку рюмки.
Глава 10
АСТРИД
Далеко в холмах было одно заветное местечко, куда я часто ходила. Дорогу только я одна и знала, потому что в самую чащу леса даже и тропинки не вели. И вот в непролазном лесу вдруг открывалась прогалина – небольшая полянка, заросшая серебристой травой и дикой земляникой. Я набрела на нее, когда однажды осенью пошла по грибы, и с тех пор полянка стала моим тайным убежищем. Высокие ели словно охраняли ее, да и меня заодно. Иногда я проводила на полянке целый день – расстилала одеяло и лежала себе. Мне казалось, что я одна во всем мире и здесь меня никому не найти.
В год, когда мне исполнилось шестнадцать, лето пришло поздно. Но после Иванова дня совсем распогодилось, день за днем стояла теплынь, пригревало солнце. Я не задумывалась о будущем, и никто не наставлял меня, чем заняться по окончании школы. Жила как жилось, каждое утро спозаранку уходила потихоньку в свое лесное убежище и возвращалась, когда солнце уже пряталось за верхушки елей, а полянка погружалась в тень. Никто меня ни разу не хватился.
Но однажды на полянку вторгся чужой. Он собирал ягоды, стоя на коленях, и нанизывал их на стебель тимофеевки. Я увидела его еще из-за деревьев и замерла как вкопанная, прячась за еловым стволом. Хотя я изо всех сил старалась не шуметь и затаилась как мышка, чужак почувствовал мое присутствие – он поднялся с низкой ягод в руке, будто с ярко-красным ожерельем. Улыбнулся, развел руками, словно прося прощения. Всем своим видом он говорил: да, я вторгся незваным гостем и прошу прощения у законной владелицы этой поляны.
Лицо чужака показалось мне смутно знакомым. Как его зовут, я не знала, но вроде бы парень был из соседней деревни. Высокий, крепкий, явно привычный к тяжелому труду, конопатый, с волосами, выгоревшими на солнце едва ли не до белизны. Глаза у него оказались ясные, серые, с янтарными крапинками, но это я разглядела гораздо позже. А тогда он приветливо улыбнулся, и я, осмелев, выступила из-за елки на солнце. Повернулась к нему спиной, привычно расстелила на траве одеяло, уселась, натянула юбку до самых щиколоток и обхватила колени. Мгновение парень колебался, потом сел на траву – у самого краешка моего одеяла. Протянул мне низку ягод. Я медлила, но он кивнул, мол, угощайся, и ягоды придвинулись ближе, так что отказаться не получилось. Мы молчали. Я медленно стягивала ягоду за ягодой с травяного стебля и одну отправляла в рот, а другую отдавала ему.
С тех пор привычное желание забраться в свое убежище на поляну стало постепенно превращаться в желание увидеть нового знакомого. А может, поляна и парень слились для меня в единое целое.
Звали его Ларс, и был он на год старше меня. Путь до поляны у него выходил дальше, он ведь шел из соседней деревни, и, пока не убрали урожай, Ларс появлялся на поляне лишь изредка. Так что я не знала заранее, придет он или нет. По дороге я всегда останавливалась в одном и том же месте, на подходе к поляне – у гранитного валуна. Там я затаивала дыхание, сжимала кулаки и шептала: «Пусть он придет сегодня, пусть придет, пусть придет!» И лишь потом шла дальше. И если Ларс не являлся, я считала, что виновата – сделала что-то не то. Мне казалось, я должна заслужить такую радость, но не знала как. Полянка была все та же, но мне ее уже было мало – без Ларса она не приносила радости.
Как-то раз я пришла позже Ларса, а он уже сидел на траве, сложив ладони домиком и прикрывая что-то на земле. Я приблизилась и услышала, как у него под ладонями кто-то возится и попискивает. Присела рядом. Ларс слегка развел ладони. Я различила только комочек серого пуха.
– Совенок, – объяснил Ларс. – Прямо тут и нашел, должно, из гнезда выпал. – Он обвел взглядом окрестные деревья. – Ему на свету вредно, да и опасно без мамки. Мало ли ястреб утащит или лиса.
Мы молча рассматривали птенца, сблизив головы так, что едва не соприкасались лбами.
– Вроде не раненый. – Ларс бережно погладил пальцем серую пушистую головенку. – Напугался только. – Поднес птенца к лицу и подышал на него. – Положу-ка я его в тенек под елку, может, уцелеет до вечера, а там его мамка отыщет.
– Лучше убей, – сказала я и отвернулась от птенца. Села, положив голову на колени, и зажмурилась. – Убей прямо сейчас, – повторила я.
Глаз я не открывала, хотя и знала, что Ларс смотрит на меня.
– Да не отыщет его мать, ни за что не отыщет! – Под веками у меня закипели слезы, и я изо всех сил сдерживалась, чтобы не разрыдаться. – Очень тебя прошу, ну убей ты его!
Минута, другая… Вот он поднялся, вот пошел прочь, вот зашуршали еловые ветви, пропуская его вон с поляны. Лишь тогда я расплакалась. Сжалась в комочек, уткнулась носом в колени. Подол платья вскоре промок от слез. Мне казалось, Ларса не было долго, очень долго, и я всё пыталась не рыдать в голос. Наконец он вернулся – с пустыми руками. Я все-таки разрыдалась. Ларс сел рядом, обнял меня. Ничего не сказал. Солнечные лучи пригревали поляну, воздух был тих и неподвижен, и казалось, в мире нас только двое – он и я. От рук Ларса исходило тепло. Наши босые ступни запутались в траве, его – сильные, загорелые, мои – белые и нежные.
Всё на свете рано или поздно меняется, так уж устроен мир, так уж суждено. Мне кажется, мы чутьем понимаем, когда наступает пора перемен, пора перейти какой-то рубеж. Откуда нам известно, что лето идет на убыль? Что служит знаком? Уже не так пригревает солнце? Легчайшее дуновение холодка появляется в утреннем воздухе? Иначе шуршит листва? Так или иначе, а вдруг, в разгар лета, сжимается сердце, и понимаешь – осень не за горами, лето рано или поздно закончится. И тогда еще ярче летние краски леса, особенно жарок солнечный свет, ласкающий кожу, еще острее все лесные запахи.
В тот день мы с Ларсом сидели рядышком на поляне, и солнце пригревало нам спину, и вокруг было лето. Но мы оба чувствовали – что-то уже не так.
Мы легли бок о бок, взявшись за руки, и смотрели в синеву неба. Ларс успел набрать для меня пригоршню земляники – поздней, переспелой, – и я все еще ощущала ее вкус. Ларс положил голову мне на плечо, прошептал мое имя, и мне почудилось – эхо отдалось до самого неба. Его ладонь, его пальцы все еще пахли земляникой. Я притянула его к себе, погладила по лицу и сначала заглянула ему в глаза, а уж потом поцеловала.
Мне казалось – все чувства будто обострились, словно слезы дочиста промыли меня, и я с особой четкостью видела, как много вокруг прекрасного. Над головой расстилалось бескрайнее синее небо, подо мной поблескивала трава, поляну высокими стражами окружали ели. Все это было прекрасно. И все в молодом крепком теле Ларса тоже было прекрасно – белизна незагорелой груди и опаленные солнцем руки, пушок на затылке… И когда Ларс расстегнул мою блузку и губы его коснулись моей груди, я ощутила себя частью вселенской красоты и благости. Я тоже прекрасна. Я живая.
Но я знала – долго это не протянется.
Всю следующую неделю я чуть ли не ежедневно навещала поляну и по дороге, у заветного валуна, сжимала кулаки и молилась, чтобы Ларс пришел, но он всё не появлялся. Я же упорно ходила туда до самой осени. Как-то раз, в середине сентября, я сидела на поляне, по обыкновению обхватив колени, и смотрела на ели. Шуршала сухая трава. Вдруг я уголком глаза уловила какое-то движение. Повернула голову. Что-то серое беззвучно и мягко взлетело в воздух и исчезло за деревьями. Я вспомнила пушистого серого совенка, которого Ларс так бережно держал в ладонях – больших, крепких крестьянских ладонях. Так, значит, он не убил птенца, а нашел ему безопасное место в лесу.
Лишь позже я узнала про несчастный случай. Во время сбора урожая Ларс упал с балки на сеновале и сломал шею. Он умер мгновенно.
Новой весной я опять вернулась на поляну за ростками земляники. Я была уверена – они у меня приживутся, кто бы что ни говорил.
С тех пор миновало больше шестидесяти лет, а земляника моя лесная так и растет в саду. Не знаю, цела ли та поляна и есть ли там по-прежнему земляника. Скорее всего, поляна заросла, лес взял свое. И должно быть, земляника с той поляны только у меня и осталась.
Жаль, что я не сберегла как следует память о том далеком лете. Надо было хранить ее, заботиться о ней, как я заботилась о своей земляничной грядке. Дать ей расти, пускать новые побеги, плодоносить… Может, тогда многое сложилось бы иначе. А я ею не дорожила – и позволила другим воспоминаниям заслонить все. Но я вот думаю: а вдруг земляничная грядка и память о том лете – это одно и то же? Я наконец вернула их себе.







