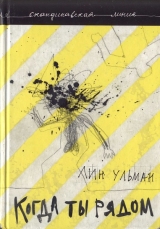
Текст книги "Когда ты рядом. Дар"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Родители этих детей ничего не знали ни о лесном чудовище, ни о злом колдуне господине Поппеле. А дети один за другим исчезали. Родители звали и звали их, но без толку. Наконец они решили, что их дети умерли, и горько заплакали, и плакали они семь дней, а может, и больше.
Но дети не умерли, а только стали невидимыми. Они забирались к родителям на колени, брали их за руки, гладили им щеки, а по ночам пробирались в родительские сны.
«Мы не умерли, – кричали они, – мы живы!»
Но хотя родители слышали эти крики, они по-прежнему думали, что дети умерли. Они думали, что их горе над ними издевается и поэтому они слышат своих детей.
И постепенно утихли детские крики и родительское горе.
– Родительское горе утихло? – спрашивает Аманда.
– Да, постепенно, – отвечает Мартин. – Невидимые дети подумали-подумали и решили, что им надо опять стать видимыми. Тогда их родители опять будут любить их. А чтобы опять стать видимыми, надо отправиться в лес и найти злого колдуна. Сказано – сделано. Один за другим дети пробирались среди высоких деревьев в лесу. А злой колдун ловил их одного за другим и засовывал в мешок. Он своим черным сердцем чувствовал, что дети в конце концов придут к нему, потому что никому не хочется вечно оставаться невидимым.
А потом одного за другим он заживо варил их в котле…
– А потом? – перебивает Би.
– Ну а потом злому колдуну господину Поппелю оставалось только вырезать детское сердце, которое теперь билось не сильно и не слабо, а как раз так, как надо, и подать его чудовищу, – отвечает Мартин. – И крибле-крабле-бумс…
Аманда смотрит на Мартина. Взгляд у нее недобрый.
– Детей же заживо сварили, значит, сердца у них вообще не бились?
– И правда, – шепчет Би и забирается к Аманде на колени.
– Поппель – волшебник, – не соглашается Мартин. – Волшебники делают все, что захотят.
На следующий день – я как раз об этом собиралась рассказать – Мартин повел Би в лес. Сказка напугала ее, и я сказала ему:
– Своди ее в лес и покажи, что никакого колдуна и чудовища там нет.
Я стою у окна и смотрю, как они идут по тропинке. Худенькая Би с длинными темными волосами и большой Мартин. Они идут рядом. «Ты что, не можешь взять ее за руку? Возьми ее за руку, Мартин! Хотя бы возьми ее за руку!» —думаю я.
Я молчу.
Рядом со мной стоит Аманда. Она смотрит в окно:
– Он ведь бросит ее там, да?
– Нет, Аманда, – говорю я. – Он ее не бросит.
Мы все еще стоим у окна.
– Посмотри, – говорю я радостно и одновременно нетерпеливо, – он берет ее за руку! Аманда, он берет ее за руку.
Мартин взял ее за руку, и они скрылись за деревьями.
Моя Аманда. Иногда я ее так называю. Настоящего отца у нее нет. Я знаю, вы часто встречаетесь. В этом нет ничего плохого, хотя мне и хотелось бы, чтобы она больше общалась с ровесниками. Старик – так она тебя называет. Ее лучшая подруга Марианне теперь редко звонит, и, насколько я знаю, других друзей ее возраста у Аманды нет. Дома она лежит перед телевизором и играет в «Нинтендо». Это игра в принцессу, которая должна пройти один уровень за другим, она падает с одного уровня на другой и дерется в самых ужасных битвах, чтобы в конце концов найти ключ от замка, где живет король.
Я могу всю ночь просидеть на ее кровати. Она спит на животе, как в детстве. Сейчас Аманда выросла и повзрослела. Ее можно назвать красивой, но это неправильное слово, хотя мужчины на улице и оглядываются ей вслед. У нее округлые формы, у меня таких никогда не было. Я знаю, что ей снятся ужасные сны, хотя по ней не скажешь, не скажешь по ее лицу – она спит так крепко и с виду спокойно. Ей снятся призраки, калеки и умирающие. Мне хотелось бы обнять ее, прижать к себе и прогнать ночные кошмары.
Ты слышишь, Аманда? Когда тебе так плохо, я хотела бы оказаться рядом.
Когда Би была младше, она сосала соску. Она так цеплялась за эту соску, словно та была ее единственной связью с миром, и если не будет соски, то исчезнет ночь, день, мать, отец и даже сама Би. Аманда никогда не сосала соску, никогда не сосала большой палец, у нее не было плюшевых мишек, кукол или других игрушек. Но с самого раннего детства у нее появилась привычка осторожно поглаживать переносицу правым указательным пальцем. Она будто записывала ночные кошмары на собственном лице.
За завтраком она рассказывает свои сны, и тогда самые страшные кошмары становятся чуть забавными, а Би думает, что Аманда рассказывает сказки, и требует продолжения.
У Аманды есть отец. Я даже не уверена, жив ли он. То есть он, конечно, жив и здоров, но с тех пор, как он уехал в Австралию, от него нет никакого проку. Однажды он прислал нам открытку: «Дорогая Стелла. Дорогая Аманда. У меня все хорошо. Скучаю. Стелла, скажи Аманде, что я ее люблю! Целую, обнимаю и тому подобное».
Мы теперь редко занимаемся любовью. Мы больше не спим. После рождения Би мы лежим ночами на мокрой от пота простыне и прислушиваемся к дыханию Би в колыбельке. Она никогда не плакала, но все равно не давала нам спать.
Иногда, если мы не смотрим на темную шаль на окне, я тянусь к руке Мартина и сжимаю ее. Это наш условный сигнал. Мартин понимает, что он значит. В тот раз, когда он лег сверху и вошел в меня, я была еще не очень влажной. Он кончил молча и неожиданно. Потом он спустился на кухню, налил себе кофе, сел на диван и стал смотреть в темноту, пытаясь расслабиться. Во мне его семя. Из меня течет. В комнате очень тихо – слышно только дыхание Би в колыбельке. Я глажу свою грудь, вспоминая, как желание делало меня влажной, трогаю руками его сперму, сую пальцы внутрь – медленно, туда и обратно, представляю, что Мартин сейчас не внизу, в гостиной, а здесь, рядом со мной.
Здесь, со мной, и я больше не могу сдерживать слезы.
Когда Би исполняется пять лет, она начинает ходить в детский сад. Она мало говорит и пристально смотрит на всех нас: на работников детского сада, на детей, на Мартина и на меня. Взгляд ее мне непонятен. У нее большие глаза, и в них таится множество жалоб.
– Вряд ли мы успели что-то испортить, – шепчет Мартин, – но она смотрит так, будто я причинил ей зло или сделал что-то чудовищное.
У Би красивые длинные темные волосы, такие же, как у Аманды. Другие девочки в детском саду любят их расчесывать, перебирать и заплетать. Би им разрешает. Она сидит на синем ящике, а девочки вплетают красные ленты ей в волосы. Она терпелива, как собака. Но, когда я спрашиваю, кто вплел ленты ей в волосы, она не может точно ответить.
Однажды утром из комнаты Би доносится крик. Кричит Мартин. Я готовлю завтрак на кухне. Сегодня очередь Мартина будить детей. Услышав крик, я бросаюсь по лестнице, ведущей наверх. Би по-прежнему спит, она не проснулась от его крика. Темные волосы разметались по подушке.
– Подними ее голову, – шипит Мартин.
– Что ты сказал?
– Черт! – говорит Мартин.
Я сажусь на кровать, прижимаюсь щекой к Би, прислушиваюсь к ее дыханию. Такое тихое, почти не слышно. «Мой ребенок, – думаю я, – Господи, помоги». Я провожу рукой по ее волосам, шепотом бужу ее. На пальцы заползает маленькое темное насекомое. Я опять провожу рукой по ее волосам.
– У нее вши, – бормочу я. – Бывает, – добавляю я, увидев на лице Мартина отвращение.
Би просыпается и, прижав голову к моей груди, молча обнимает меня за шею. На подушке и простыне вши, и, когда я расчесываю ей волосы, они падают на пол.
– Это не кончится никогда, – говорит Мартин, – никогда.
Я не пускаю Би в сад, а Аманду – в школу. Аманда рассказывает сказку про принцессу, которая была так прекрасна, что, когда она расчесывалась, с ее волос падали золотые монеты. Вечерами она вплетает свои волосы в волосы Би. Они засыпают в одной кровати. Я так и нахожу их: привязанных друг к другу, двух девочек с одной косой. Моих дочерей.
В наследство от папы мне достались кое-какие деньги. Нам с Мартином хватает на то, чтобы взять ссуду в банке и купить часть дома на две семьи с садом на Хамбургвейен, около Дамефаллене. Мне кажется, мы переедем и все изменится. Мы станем почти обычной семьей. Я представляю себе: Мартин, Аманда и Би сидят на кухне или в саду, может, мы даже заведем собаку. Больше жизни. Да, именно так. Больше жизни.
И у меня наконец появится повод выставить за дверь водопроводчика. С собой мы его не возьмем. Не хочу, чтобы он жил в нашем новом доме.
– Ты слышишь, Мартин, я не хочу брать с собой водопроводчика!
Мартин смотрит на меня:
– Но я ему уже сказал, что он может снимать маленькую комнату на чердаке. Я думал, в этом нет ничего страшного. Он будет платить за съем. И не стоит недооценивать преимущества того, что в доме есть водопроводчик.
– Какие преимущества? – спрашиваю я.
– Стелла, водопроводчик в доме! Водопроводчик в доме! Что здесь еще объяснять?
Через несколько недель после того, как Би исполнилось шесть, мы переехали в наш новый дом на Хамбургвейен. Мартин, Аманда, Би и я. Водопроводчик поселился на чердаке.
Я не думала, что у отца есть деньги. Я почему-то всегда думала, что он весь в долгах. Наследство оказалось сюрпризом. Когда продавщица Андерсен умерла и посетители перестали приходить, магазин с безделушками на Майорстюен пришлось закрыть. Это было много лет назад. Последний год своей жизни папа провел в маленьком темном офисе в центре Осло. Мне никогда не было интересно, чем он там занимался. Если уж я об этом думала, то представляла себе, что он ничего не делает. Слова «ничего» было бы вполне достаточно для того, чтобы рассказать о папе. Есть такая песенка про мужчину, который умер в кофейне [10]10
«Мертвец в кофейне» – популярная норвежская песня, написанная и исполненная Оддом Борретсеном.
[Закрыть]. Когда я впервые ее услышала, то подумала о папе. Подумала, что это папа умер, сидя в кофейне.
Однажды я собралась с силами и пошла в его офис, чтобы навести там порядок. Мама сказала, что она не пойдет, у нее и так работы более чем достаточно: надо сложить его одежду в картонные коробки (коробок было две) и отвезти в Армию спасения. Мне нужно сделать все остальное.
Не знаю, горевала ли она. Сложно сказать. Была совершенно обычная среда. Они с отцом сидели по разные стороны кухонного стола под синей люстрой и ужинали. И во время ужина папа умер. Он не упал на пол, а вежливо остался сидеть, осанка его была по-прежнему прямой, а глаза – голубыми. Не похоже было, что с ним что-то произошло – если так можно сказать, – он просто-напросто перестал есть. Может, его лицо посерело на полтона, хотя я и не уверена. Во всяком случае, мама заметила, что он не двигается, только когда начала убирать со стола.
Его офис оказался таким, как я его себе и представляла. Письменный стол темного дерева, черный стол, коричневая этажерка для книг. Компьютер. Грязное окно выходит на грязный двор. На потолке белые лампы. Судя по каталогам и счетам, когда магазин на Майорстюен закрылся, папа начал заниматься рассылкой безделушек по почте. Хрустальные лебеди, блестящие латунные подсвечники, стаканчики для хереса, фарфоровые собачки, ангелы разных видов и стоимости. Я узнала, что он снимал маленький склад где-то в Аскере. И все, насколько я могу судить, было в идеальном порядке. Никаких неоплаченных долгов. Никаких недовольных клиентов. Никакой тайной возлюбленной. Никаких незаконнорожденных детей. Ничего.
Верхний ящик письменного стола был заперт. Мне потребовалось немного времени, чтобы найти ключ. Он лежал в керамическом горшке, где раньше, наверное, рос цветок – на донышке осталось немного земли. Очистив ключ, я открываю ящик. Там фотография и старое неоконченное письмо. На фотографии – полная светловолосая женщина, ей около пятидесяти лет. У нее пухлые красные губы. Трудно сказать наверняка, но, по-моему, она довольно рослая. Я переворачиваю фотографию. На обратной стороне зелеными чернилами написано «Элла». Маминым почерком. И год: 1979.
Я вскрываю письмо и сразу узнаю в мелких красивых печатных буквах папин почерк:
Дорогая Элла!
Это мое первое и последнее письмо к тебе. Эдит сказала, что ты решила навсегда уехать и она собирается последовать за тобой. Прошу тебя. Прошу вас обеих: не делайте этого. Стелла уже большая девочка, но все-таки она еще недостаточно взрослая. Ей нет и четырнадцати. Вы обещали мне подождать, пока она не повзрослеет.
Все они уже умерли.
Я пою для Би песню. Она лежит в кровати и с серьезной миной слушает, она не хочет играть с моими руками, как Аманда в ее возрасте.
– Спокойной ночи, Би, – говорю я, но ответа не слышу.
– Что же ты не отвечаешь мне, Би? – спрашиваю я.
Она отворачивается к стене.
Я сижу на краешке кровати и смотрю на ее худую потную шейку.
Потом я заглядываю к Аманде.
– Привет, – говорю я.
– Привет, – отвечает она.
– Заканчивай уже с «Нинтендо», – говорю я.
– Мама, я должна убить лесное чудовище, – говорит она, – и тогда принцесса перейдет на следующий уровень.
Я ложусь на диван и читаю. В нашем новом доме слишком тихо. Только короткая механическая мелодия из «Нинтендо».
Тишина и сюда добралась.
Я лежу на диване и читаю, когда Мартин заходит в гостиную и говорит:
– Стелла, я ухожу от тебя. Я собрал чемодан. Я снял маленькую квартиру. Здесь невыносимо… дом, дети, Би… невыносимо.
– Не верю, – говорю я, не отрывая взгляда от книги. Такое уже случалось.
Он садится на диван, кладет голову мне на плечо и плачет.
– Я больше не могу, – шепчет он. – Я исчезну, если останусь здесь.
– По-моему, ты от меня не уйдешь, – говорю я. – Я не верю, что ты собрал чемодан, и не верю, что ты снял квартиру.
Мартин плачет. Я глажу его по голове.
– Все это прах, – говорит он.
– Но я не верю, что ты уйдешь, – говорю я.
Подняв голову, он смотрит на меня, и я не могу определить, по-доброму он смотрит или нет. Но я знаю, что сейчас он не уйдет. Еще немного он побудет рядом со мной.
Когда Би исполнилось семь лет, я заболела. То лето было самым прекрасным. Солнце светило каждый день – все даже стали жаловаться на жару и ждать дождя. Обычно, когда кто-нибудь жалуется на жару, всегда находятся те, кто перебьет и скажет: не ной, хорошая погода может в любой момент испортиться.
Вот и Мартин такой. Вечно ему нужно меня одернуть.
– Не накаркай! – говорит он. – Придержи язык! Сплюнь!
Как-то ночью я сказала, что у меня болит живот, и добавила, что это, возможно, начало тяжелой болезни.
– Постучи по дереву, – ответил Мартин.
Мы сидели в садике около нашего нового дома и пили водку. Дело было поздно ночью, где-то в три или полчетвертого, небо с одной стороны уже начинало светлеть.
– В последний раз я болела в детстве, у меня была краснуха, – сказала я, рассмеявшись. – Глупости все это, я никогда не заболею. Никогда!
– Лето никогда не закончится, а ты никогда не заболеешь, – пробормотал Мартин.
– У меня просто живот чуть-чуть болит. Забудь, – сказала я.
На следующее утро боль усилилась. Я не могла встать с постели.
Меня вырвало на одеяло и на пол, но я подумала, что это из-за вчерашней водки.
Но это не из-за вчерашней водки, это что-то иное, оно проросло во мне и грызет меня изнутри. Да, так оно и есть: что-то грызет меня изнутри. Почему же я раньше не поняла? И на следующее утро Мартин отвез меня в больницу.
– У меня схватки, – сказала я врачу и заплакала. – Схватки, но я не беременна. Я умираю. Я умру, да?
И звуки исчезают. Я вижу, как врач шевелит губами, но не слышу, что он говорит. Я слышу только собственное дыхание – вдох-выдох, вдох-выдох – и на мгновение представляю, как каждый вечер я наклоняюсь над кроваткой Би и прислушиваюсь, как она дышит – вдох-выдох, вдох-выдох, вдох, – потому что смерть может отнять ее у меня. Би слишком хороша для этого мира. Я поворачиваюсь к Мартину и пытаюсь сказать ему, что Би слишком хороша для этого мира, – он-то этого никогда не понимал, – но не могу. Он не слушает. Он говорит. Мартин говорит, и доктор говорит, они оба смотрят на меня, и Мартин крутит в руках ключи от машины. Я знаю, что он сейчас уронит их на пол, и хочу сказать ему, чтобы он оставил ключи в покое. Но этого он тоже не слышит. А потом он роняет ключи, и грохот отдается у меня в голове. Он этого не замечает. Я наклоняюсь за ними, мои пальцы чувствуют маленький прохладный предмет, узнают в нем обычную связку ключей. Я встаю и хочу сказать что-то врачу и Мартину, потому что теперь никто из них не шевелит губами, они просто смотрят на меня. Оба такие серьезные, что я хихикаю, им бы еще черные фетровые шляпы и бороды. «Вы что, на похороны собрались? – пытаюсь сказать я. – Сейчас такой погожий денек». Я вытягиваю вперед руку, показывая, что ключи у меня, и улыбаюсь прекраснейшей из улыбок, а потом опять раздается грохот, и все погружается в темноту.
Однажды много лет назад ты сказал мне, что иногда разговариваешь с мертвыми или, во всяком случае, чувствуешь их. Что граница между вами почти стерлась. Милый Аксель. Я не хочу умирать. Попроси за меня. Попроси их держаться подальше. У меня двое детей. Дай мне еще немного времени.
В конце концов я выздоровела, но кровь в моих венах потекла медленнее, и я перестала чувствовать ароматы, даже когда в саду расцветала сирень. Иногда мне кажется, что я живу на этом свете слишком долго.
Я смотрю на свою фотографию, сделанную всего пару лет назад, и впервые замечаю, что была почти красива. А сейчас… не знаю.
Я хочу, чтобы он трахал меня, пока я не проснусь. Я хочу, чтобы он трахал меня до крови.
Я кладу под язык противозачаточную таблетку и глотаю только воду. Когда он отворачивается, чтобы поставить стакан на тумбочку, я выплевываю таблетку и крошу ее. Я ныряю под одеяло и беру его член в рот. Сейчас он меня не отталкивает. У него встает, он переворачивает меня на живот, я утыкаюсь лицом в подушку. Не дышать, думаю я, не дышать. Он входит в меня сзади и со всхлипом кончает.
Би исполняется восемь лет. Она просит собаку. Мартин собаку не хочет. Вообще-то я тоже не хочу. Но Би просит собаку. И Аманда просит.
– Теперь у нас свой дом, – говорю я, – с собакой будет не так уж и сложно.
Мартин пожимает плечами.
– Би не играет с другими детьми, – говорю я. – После школы к ней никто не приходит, и ее никуда не приглашают. Ей одиноко.
– Нам всем одиноко, – отвечает Мартин, – и собаки здесь ни при чем.
Мы находим объявление в газете. Семья, проживающая в Несоддене, хочет отдать свою годовалую дворнягу. Мы все время в разъездах, у нас на него нет времени, он добрый, чистоплотный и преданный, сказали они. Пес серый, лапы и кончик хвоста – белые. Он маленький и тощий, с большим сухим носом. Зовут его Хоффа – в честь американского профсоюзного деятеля Джимми Хоффа. Нам с Мартином это имя кажется не особо удачным, слишком уж напыщенное для такого маленького зверька, но имя есть имя. К тому же Хоффа делает все, что Би ему прикажет. Би говорит: «Сидеть!» – и Хоффа садится. Би говорит: «Лежать!» – и Хоффа ложится. Би говорит: «Ко мне!» – и Хоффа бежит к ней. Би говорит: «Дай лапу!» – и Хоффа кладет на руку Би свою лапу. По ночам Хоффа спит у Би под одеялом, а днем сидит у окна или в саду и ждет ее.
Однажды Хоффа пролез на улицу через дыру в заборе. Он сел на тротуар и потянулся носом к двум проходящим мимо девочкам. Девочек я знаю, они живут рядом и учатся в одном классе с Би. Мы как-то даже решили, что Би будет ходить вместе с ними в школу, но из этого ничего не вышло. Девочки не захотели, и их родители извинились за то, что так ничего и не получилось. Давно уже это было.
А сейчас Хоффа сидит на тротуаре перед нашим домом. Он тянется носом к проходящим мимо девочкам, может, он хочет, чтобы его почесали за ухом, как он любит. Но девочки не хотят чесать его за ухом, вместо этого они отшвыривают его с дороги, и Хоффа плюхается на спину.
Я ничего не видела. Единственный свидетель – Би. Когда это случилось, она стояла вдали на дороге.
– Нет! – закричала она и бросилась к девочкам. – Не бейте! Не бейте! Пожалуйста!
Девочки поворачиваются и смотрят на нее. Они хихикают.
– Тупая собака! – выкрикивают они. – Тупая собака! Тупая!
Хоффа поскуливает. Он лежит распластавшись, будто пытаясь спрятать свое худощавое тельце на тротуаре, слиться с асфальтом. Он закрывает лапами нос.
Девочки опять с силой пинают его, на этот раз в живот, а потом убегают.
Би резко останавливается, запрокидывает голову вверх и кричит. Если не слышать ее крика, а только смотреть на нее – как я вдруг увидела ее из окна гостиной, – то может показаться, что она стоит там, на тротуаре, запрокинув голову, и поет. Но потом я поняла: она кричит, и только тогда выбежала на улицу, чтобы узнать у безутешного ребенка, что случилось.
Иногда я думаю – нет, вслух не говорю, но думаю, – что Би не мой ребенок, хотя, ясное дело, именно из моего тела она вышла восемь лет назад, что доставило нам обеим немало хлопот. Иногда я будто… иногда в мою голову лезут посторонние мысли, картинки, которые я не хочу видеть. Это странный ребенок! Би не похожа на нас! Она чужая!Я смотрю на нее, на этого маленького, нескладного и молчаливого ребенка, у которого всегда немного дрожат руки, и чувствую только раздражение, почти гнев из-за того, что мне вообще приходится на нее смотреть. Разве я могу так думать? Нет! Нет! Все не так просто. Как только я начинаю чувствовать раздражение, я люблю Би еще сильнее, прижимаю ее к себе и уверяю в том, что люблю.
Может, желание сильно любить – тоже своего рода любовь?
Через какое-то время родители соседских девочек извинились за то, что произошло с Хоффой, но параллельно подчеркнули, что собака гуляла без присмотра и девочки, испугавшись, просто защищались.
Каждую ночь я сижу у кроватки Би. Она накрылась с головой одеялом и стала похожа на маленького зверька, который спрятался в своей норке. Я пытаюсь приподнять одеяло и погладить ее по щеке, но она кричит: «Нет!» – и опять натягивает на себя одеяло.
Правда ли, что нос у собак теплый и сухой?
Правда ли, что Би никогда не плачет?
Правда ли, что сирень в саду не пахнет?
Правда ли, что Аманда переходит с одного уровня на другой?
Правда ли, что в доме так тихо?
Правильно ли поселить на чердаке водопроводчика, выставляющего нам счета за починку водопровода, которые мы не можем оплатить?
Правильно ли, что мама хочет быть деревом?
Правильно ли, что я прихожу к тебе в гости и, глядя в зеркало в позолоченной раме, вижу не свое лицо, а твое?
Правильно ли, что мы с Мартином никогда не спим?
Правда ли в лесу живет чудовище, которое питается детскими сердцами?
Чтобы свет не проникал в спальню, мы повесили на окно темную шаль. Шаль местами потертая и пропускает свет. Свет рисует на темной поверхности узоры и картинки, которые мы разглядываем, лежа в постели.
Иногда на шали появляется лицо. Мартин считает, что лицо женское. Я считаю – мужское.
Мы зовем его господином Поппелем.
Когда-то давно, когда я была беременна Би, мы называли Би господином Поппелем. До этого господином Поппелем мы называли водопроводчика. В глубине души, Аксель, я называю господином Поппелем тебя. По-моему, кто угодно может быть господином Поппелем. Добрым и злым, маленьким и большим, мертвым и живым.
Я виделась с мамой незадолго до ее смерти. Она лежит в моем отделении, но не хочет, чтобы за ней ухаживала я, она стыдится своей болезни и своего тела. Но я все равно добилась этого, не знаю, что меня заставило. Мы мало разговариваем, я ухаживаю за ней, мою ее, кормлю, простукиваю грудь – все, что положено по профессии. Мама говорит: «У меня есть дочь, и это руки моей дочери», – а я говорю: «У тебя есть дочь-медсестра, и она ухаживает за тобой так же, как и за другими, ничего удивительного здесь нет». Однажды утром я подхожу к ее кровати и смотрю на нее, пока она спит. Болезнь изменила ее, но сейчас ее лицо прекрасно, как прежде. Может быть, из-за морфия. Или, может, смерть поставила на него свою печать, сказав: «Так выглядела твоя мать, когда ее красота была в самом расцвете. Прости ее или уходи. Но запомни такой, как сейчас».
Я сажусь на кровать и долго смотрю на нее. Наконец она замечает, что я рядом и что мне что-то от нее нужно. Она замечает это, хотя тело ее накачано морфием. И, как только она открывает глаза, я наклоняюсь к ней и шепчу:
– Расскажи об Элле!
– Нет, – говорит она.
– Да, – говорю я.
Я достаю из кармана потрепанную фотографию полной женщины с пухлыми красными губами.
– Я нашла эту фотографию у отца в письменном столе, – говорю я. – Как по-твоему, сколько лет он ее хранил? Пятнадцать? Двадцать? Сколько раз на дню он вынимал ее из ящика и рассматривал?
Мама поднимает свои старые худые руки, которые предают ее лицо. Они говорят, что лицо на подушке – мираж. Мама тянет к себе фотографию, зажав ее между указательным и средним пальцами. Мне ничего не стоит отнять у нее фотографию, но я не делаю этого. Она не смотрит на Эллу – не может или не хочет.
– Наша привязанность друг к другу была болезненной. Вот и все, Стелла. Попроси она меня, и я бы осталась с ней до конца дней.
Мама выдыхает, вдыхает, выдыхает, вдыхает.
– Больно? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает она.
– Да, больно, – говорю я.
– Нет, – говорит она.
Я сижу на краю кровати и держу ее за руку. Она пытается отнять руку, но я не выпускаю. У нее урчит в животе. Мы обе вздрагиваем. Я никогда не слышала, чтобы у мамы урчало в животе. Она сжимается, точно хочет спрятаться под одеялом. Она умоляюще смотрит: «Оставь меня в покое, ступай своей дорогой». Но я не ухожу.
– Ты не умрешь в одиночестве, – говорю я.
– Но я так хочу, – шепчет она.
– Я побуду с тобой, – говорю я, сжимая ей руку.
А потом она пукает. Мама пускает вонючие, хриплые, хлюпающие газы, которые, должно быть, спрятались в ее теле, еще когда она в детстве решила стать деревом. Мама пукает, смотрит на меня и говорит: «Уходи», а потом закрывает глаза, сглатывает и умирает. Я наклоняюсь к ее уху.
– Теперь ты стала деревом, – шепчу я.
Я снимаю туфли и ложусь на кровать рядом с ней. Полежу здесь немножко. Позже надо будет погладить белую блузку, обмыть ее старое тело и расчесать красивые длинные волосы, с которыми я любила играть в детстве, хотя ей и не нравилось, когда я дотрагиваюсь до нее.
Сейчас ночь. В ванной повсюду зеркала, и я вижу свое бледное, пошедшее пятнами лицо. Я достаю тест на беременность, просовываю его между ног и мочусь на него. Моча попадает мне на руку. Сидя на унитазе, я жду, когда проявится результат. На тесте медленно проступает голубая полоска. Голубое небо, думаю я. Голубое платье. Голубая простыня. Я поднимаюсь с сиденья, встаю перед зеркалом и делаю вдох, так что живот надувается. Пройдут месяцы, прежде чем станет заметно. На бедре видна голубая жилка. Когда я вдыхаю, то видны ребра. Мама как-то сказала, что я такая тощая, что похожа на узника Берген-Бельзена. Я понятия не имела о Берген-Бельзене, но мне было приятно, что мама вообще хоть что-то сказала о моем теле. Во мне зародыш. Я представляю фотографии, сделанные Леннартом Нильссоном [11]11
Шведский фотограф, в 1965 году первым заснявший на пленку момент оплодотворения яйцеклетки.
[Закрыть]. Голубой зародыш. Голубая вода. Голубые руки. Я начну медленно пробуждаться. Я начну медленно пробуждаться, а Мартин опять сможет заснуть без снов.
Сейчас я спущусь к Мартину и скажу: «Послушай! Отложи камеру. Я выплевывала противозачаточные таблетки, которые ты мне давал. Хочу, чтобы в этом доме хоть изредка раздавались детские крики. Я не выношу тишины».
Я думаю о тебе, Аксель. Ты такой старый. Сейчас я не вижу твоего лица. В зеркале не твое лицо, а мое. Я Стелла. Мне тридцать пять лет. Я живу здесь, в этом доме. Сегодня 27 августа 2000 года. Скоро наступит утро. Следующей весной у меня родится ребенок, тебя тогда уже не будет в живых. Так все и будет.







