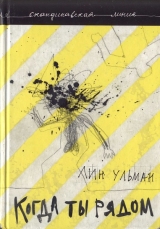
Текст книги "Когда ты рядом. Дар"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Ну нет так нет, – сказал он. – Но надень ночную рубашку.
Коринне
Ледяная зимняя ночь. Идет дождь вперемешку со снегом, и угольно-черные улицы пусты. Трамвай почти пуст. Я сижу в самом конце, а через несколько сидений впереди меня сидит незнакомый мужчина. В моем попутчике мне чудится что-то знакомое – может, спина или волосы, тоже угольно-черные. Трамвай остановился, и мужчина направляется к выходу. Я наконец решаюсь и окликаю его. «Мартин Волд, – говорю я. – Это ты?» Мужчина оборачивается и, улыбаясь, качает головой. Не он. Не Мартин. У этого маленькие зеленые глаза, а на подбородке ямочка. Извиняясь, я говорю, что обозналась, и мы желаем друг другу спокойной ночи.
В последнее время я много думаю о нем. После похорон Стеллы он пропал из поля зрения. Мое расследование было закончено, Мартина ни в чем не заподозрили, во всяком случае, никаких доказательств его вины не было. Он мог делать что заблагорассудится и решил исчезнуть, а для меня и моих коллег его дело было закрыто. Правда, потом оказалось, что для меня его дело остается открытым. Как влюбленная женщина, я брожу по городу, и он мерещится мне на каждом углу. К счастью, я никогда не была влюблена. Однако благодаря своей профессии я достаточно повидала влюбленных женщин, чтобы знать, как примерно это бывает. Куда бы они ни пошли, везде им чудится их избранник: вот он садится в машину, стоит, прислонившись к стене, или сидит за столиком в кафе, или идет по другой стороне улицы.
* * *
Иногда на темной шали, которой занавешено окно в спальне Стеллы и Мартина, появляется лицо. Мартин говорит, что это женское лицо, а Стелла – что мужское. Но оба сходятся в том, что это лицо с ними разговаривает. Они придумывают ему имя – господин Поппель.
– Хотя я и уверен в том, что лицо женское, я согласен называть его господином Поппелем, – говорит Мартин.
Сегодня 2 сентября 2000 года, похороны Стеллы начнутся через несколько часов. Мы с Мартином сидим напротив друг друга за большим обеденным столом. Скоро утро.
– А кто такой господин Поппель? – спрашиваю я. – Чем он или она занимается?
– Она раскрывает свой большой рот и поет, – отвечает Мартин.
– Поет?
– Да, поет, – говорит Мартин, – про нас, про Стеллу и про меня.
– И о чем она пела в последний день в жизни Стеллы, 27 августа 2000 года?
– Господин Поппель редко поет днем.
– Вот как. О чем же господин Поппель поет в последнюю в жизни Стеллы ночь?
– Она поет колыбельную, – говорит Мартин. – Ту самую, что Стелла пела для Би, когда та была младше. Теперь кажется, что это опять Стелла поет, но голосом господина Поппеля, глухим и искусственным. Она лежит в кровати рядом со мной, и я прошу ее замолчать. Я прошу ее замолчать, а она отвечает, что тот, кто таким тоном разговаривает с господином Поппелем, будет наказан. Она говорит, я должен вежливо попросить. Я вежливо прошу: «Пожалуйста, господин Поппель, не пойте больше сегодня вечером». Во всяком случае, не эту песню, которая напоминает нам о странных маленьких детях, которые никогда не плачут, но все равно не дают нам спать по ночам. Стелла отворачивается. Провались ты к черту, говорит она. Провались ты к черту, Мартин. А потом, повернувшись друг к другу спиной, мы на пару часов засыпаем.
– Так значит, сколько было времени, когда вы уснули?
– Думаю, шестой час, – говорит Мартин. – Мы всю ночь снимали видео.
– Кстати, о видео, – перебиваю я. – Я все хотела у тебя спросить. На этой пленке Стелла несколько раз повторяет, что хочет тебе что-то сказать.
– Я такого не помню.
– Той ночью она тебе о чем-то рассказывала?
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Нет, не знаю… Ничего особенного не припомню, если ты об этом. Нет, не думаю. У Стеллы всегда в голове крутилось не меньше тысячи мыслей, о которых ей немедленно надо было рассказать. Но ничего особенного она не сказала, я бы запомнил.
– Может, что она была беременна?
– Нет.
– В каком смысле? Нет – она вообще ничего не говорила? Или нет – она не была беременна?
– Нет, нет, нет!
Я смотрю на Мартина и говорю:
– Большое количество желтого тела, маленький сгусток плоти, покрытый слизистой, небольшой вздувшийся холмик, малютка не крупнее одного сантиметра.
* * *
Мы добрались до последнего дня.
Повернувшись друг к другу спиной, Мартин и Стелла засыпают, через несколько часов просыпаются, и начинается последний день. Мартин уже много раз описывал его. Он разговаривал с моими коллегами, разговаривал со мной. И что мы имеем?
У нас есть мужчина и женщина на крыше дома на Фрогнере. Как канатоходцы, циркачи или воздушные гимнасты, они ходят прямо по краю, туда и обратно. У нас есть объятие и падение. Женщина вырывается из рук мужчины и падает. Или он толкает ее, и она падает. Оба они устали, смертельно устали.
– Несчастный случай, – говорят мои коллеги. – Да, они получили по заслугам. Да, поступок безответственный. Но это не преступление. Знакомые Стеллы и Мартина – а таких немного – подтверждают, что их брак был вполне благополучным. Вполне благополучным!
– Большинство браков не относятся к вполне благополучным, – говорят мои коллеги. И я согласилась бы с ними, если бы каждый раз, сталкиваясь с Мартином лицом к лицу, меня не пронизывала эта боль в животе…
– Давай обсудим это еще раз, Мартин.
Смерив меня взглядом, Мартин зажигает сигарету.
– А нужно ли?
– Что?
– Обсуждать это еще раз? Мне больше нравится рассказывать истории.
– Позволь напомнить тебе, что я представляю закон, а пока толстая певица не спела, опера не закончена.
– Что тебя интересует?
– Все. Жили-были и так далее. Шесть дней назад жила-была Стелла, и 27 августа 2000 года она все еще была жива.
– Примерно в восемь утра мы проснулись, – говорит Мартин. – Проснулись мы оттого, что собака, которая никогда не лаяла, вдруг подала голос.
– Хоффа, да?
– Да.
– Странное имя для собаки.
– Его назвали в честь американского профсоюзного деятеля Джимми Хоффа.
Мартин оглядывается на дверь, словно ожидая, что собака сейчас ворвется в гостиную.
– Его здесь нет, – говорит он. – В смысле – собаки. Ее нет. Я ее… отдал.
Я сверяюсь со своими записями.
– Итак. Собака лает, и вы просыпаетесь, проспав… Сколько? Три часа?
– Да, но это обычное дело. Мы редко спим дольше. Я по-прежнему больше боюсь снов, чем бессонницы.
Мартин умолкает, закуривая сигарету.
– Мы со Стеллой просыпаемся и бежим вниз, в коридор. Хоффа нагадил по всей квартире. Это какая-то убогая собака. Я об этом говорил? Всякий раз, когда он поднимает голову и смотрит на тебя, его хочется ударить. Такие уж у него глаза. Взгляд такой. Он ждет, чтобы его ударили, а защищаться ему и в голову не придет. И вот тем утром собака обделалась прямо дома, встала перед дверью и начала лаять. Мы просыпаемся, а вокруг все… перевернуто вверх тормашками. Все разбросано. Мы оба шатаемся, как лунатики. Я тру глаза, но не могу прогнать сон. Стеллу вдруг стало тошнить, и она побежала в ванную. Воздух сырой, теплый и влажный, все залито солнечным светом. Собака, которая никогда не лаяла, сейчас лает. Весь пол вымазан собачьим дерьмом. Звонят колокола. Воскресенье, поэтому они и звонят. По лестнице сбегает Аманда, ее волосы взлохмачены, а на лице какие-то красные пятна… На ней мятая белая футболка, ноги у нее длинные и загорелые, у нее большая грудь. «Что происходит? – спрашивает она шепотом у Стеллы. – Что происходит?» – «Меня тошнит», – отвечает Стелла. Мы все – Аманда, Стелла и я – стоим в коридоре, посреди куч собачьего дерьма, и собака с нами. Би исчезла. Поэтому собака и лает. Би ушла и не взяла с собой пса. По утрам она обычно гуляет с ним. Это ее собака. Это ее обязанность. Но сейчас она исчезла.
Через какое-то время она нашлась. Она стоит в своей голубой ночной рубашке возле забора и смотрит в соседский сад. Глазастый ребенок! За оградой батут, и на нем прыгают две девочки. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Школьные подружки Би. Хотя «подружки» – не самое подходящее слово. Несколько месяцев назад девчонки пнули Хоффу в живот. И с тех пор Хоффа сам не свой. Би ведет себя так, будто это ее пнули. Иногда она исчезает, и обычно мы находим ее на этом самом месте: она стоит, уставившись в соседский сад. Би по эту сторону забора, а девочки – по ту. Вверх-вниз на батуте, вверх-вниз, вверх-вниз. Это на удивление яркое зрелище – дети, прыгающие на батуте. Ни Стелла, ни Аманда, ни я – никто не может глаз отвести от прыгающих девочек.
Мартин закуривает.
– На нас тоже занятно посмотреть, – говорит он. – Семейство из четырех человек и убогая собака в придачу, и все стоим у соседского забора. Все четверо – в пижамах, лохматые, и все четверо, – тут Мартин задумывается, – какие-то выбитые из колеи. По-другому не скажешь. Мы выбиты из колеи. Нас выбили. Мы сломлены. Мы как беженцы в чужой стране. Когда мать одной из девочек на батуте заметила нас с веранды и пошла к нам с дымящейся чашкой в руках, мы и с места не сдвинулись. Мы стоим возле ее дома, прижавшись друг к другу, словно бродяжки. Гордо подняв голову, она подходит ближе. Почему вы здесь стоите? Что вам нужно? Почему вы не дома? Почему вы в пижамах?
И тут Стелла опомнилась. Она прокашливается и показывает на двух девочек.
«Эти две пнули собаку моей дочери, – тихо говорит она. – И мне кажется, они должны извиниться за это».
Мать батутовых девочек ошарашена.
«Но, Стелла, – говорит она, делая ударение на ее имени. – Мы же разобрались с этим несколько месяцев назад. Собака была без поводка, девочки испугались… Никто из нас не знает, что там случилось на самом деле».
Мать батутовых девочек смотрит на Би так, будто намекает, что уж на ее-то слова полагаться никак нельзя.
«Я точно знаю, что случилось», – устало вздыхая, говорит Стелла. Она опять почти заснула, стоя прямо возле соседского дома. Такой она стала после болезни: вспыхнет на миг – и быстро угасает.
«Какая разница», – произносит она и отворачивается от женщины.
«Пойдемте отсюда», – говорит она нам.
Она берет Би за руку и уходит.
Мы с Амандой и собакой тоже разворачиваемся и идем домой вслед за ней.
Остаток дня прошел в каком-то сонном тумане. Мы со Стеллой много спали, нам никак не удавалось по-настоящему проснуться. На окне слабо колыхалась темная шаль. Раньше Стелла требовала, чтобы днем мы убирали ее и впускали солнечный свет. Теперь мы больше этого не делаем. Шаль висит на окне, и внизу ее прикрепляют к подоконнику четыре кнопки: одна синяя, две красные и зеленая. Из комнаты Аманды доносятся механические звуки «Нинтендо». В собачьей корзине клубочком свернулась Би. Они часто лежат вместе: собака обнимает лапой Би, или Би обнимает собаку. В доме тишина. Только из комнаты Аманды слышится бесконечное пиип-пиип-тюуум-пиип-пиип-тюуум. Мы со Стеллой лежим бок о бок на кровати, прямо поверх одеяла, и глядим в потолок.
– Слышишь, какая тишина, – говорит она.
– Угу, – в дреме отвечаю я.
– Сразу и не подумаешь, что в этом доме живет семья из четырех человек, – говорит она, – двое из которых дети.
Я зеваю.
Легкий ветерок с улицы колышет шаль.
– Смотри, вон господин Поппель, – говорит Стелла, приподнимаясь.
– Ага, – отвечаю я, – она самая.
А потом начинается дождь.
– В конце концов мы засыпаем, – рассказывает Мартин. – Мы спим, а дождь идет. Так приятно засыпать под звуки дождя. Дети привыкли к тому, что днем, когда мы не на работе, мы спим, поэтому они нас не беспокоят. Но Би все же заходит к нам в спальню.
– Мама, – говорит она.
– Дай мне поспать, – отвечает Стелла.
– Но мне нужно тебе что-то сказать, – говорит Би.
– Давай попозже, дружок, – отвечает Стелла.
Потом Стелла берет Би за руку и тянет к себе.
– Полежи-ка чуть-чуть со мной, – говорит она. И мы засыпаем все трое.
Где-то через полчаса мы просыпаемся. Дождь по-прежнему стучит о подоконник. Би ушла к Аманде. Мы одни в комнате. Мы разговариваем. Стелла напомнила мне про тот день, когда я привез ей диван и чуть не выпрыгнул в окно с девятого этажа. А потом она начинает плакать.
Хочу начать все заново, говорит она. Хочу опять увидеть тебя за окном. Хочу, чтобы мы опять поехали праздновать семидесятипятилетие твоей бабушки, хочу, чтобы у нас опять родилась Би. Больше всего хочу, чтобы у нас был… Я не хочу, чтобы было так тихо.
Я глажу ее по голове. Мне непонятно, о чем она говорит, поэтому я спрашиваю: «Хочешь, я спою тебе?»
– И я стал для нее петь, – рассказывает Мартин, – песни, которые ей нравятся. Которые я ей пел, когда она болела. Песни, от которых она радуется.
– Не знала, что ты умеешь петь, – говорю я.
– Когда я был маленьким, Харриет мне пела. Стелле она не нравится. Но как-то я рассказал ей, что дед бросил Харриет, когда она была беременна, и Стелла вдруг смягчилась. Она слышала эту историю уже тысячу раз, но тогда она словно иначе ее услышала. «Дед влюбился в актрису, – рассказывал я, – хотя лично с ней не встречался. И не только в актрису, он мечтал стать звездой и влюбился в свои собственные мечты. Он был не создан для земледелия. И плевал он на бабушку и ребенка в ее утробе».
Внезапно Стелла поднялась с постели и сказала: «Вот уже и солнце светит. Поехали купим нам всем чего-нибудь вкусненького».
Я согласился, и мы стали собираться. Детям сказали, что поедем за продуктами и скоро вернемся. Мы проезжали мимо дома на Фрогнере, где мы первое время жили, и я сказал: «Ты, кажется, хотела начать все заново?»
«Да, хотела», – помолчав, ответила Стелла.
«У нас есть такая возможность», – сказал я.
«Давай без глупостей, – сказала Стелла. – Я есть хочу. И дети ждут».
Но я ее не послушал. Я остановил машину и заставил Стеллу выйти и подойти к подъезду. Я спросил ее, помнит ли она, какой вид открывается с крыши. Она кивнула. Раньше мы часто забирались туда через чердачное окошко.
«Давай опять залезем туда», – сказал я.
Она кивнула.
Вскоре из подъезда кто-то вышел, и нам удалось проскользнуть внутрь. На лифте мы не поехали, поднялись пешком.
Мартин что-то вертит в руках. Оказывается, это маленькое серебряное сердечко.
– Не могу объяснить по-другому, – говорит Мартин, – знаю только, что там, наверху, с нами что-то происходит. Мы пробуждаемся. Мы вновь становимся собой. Может, это из-за прекрасного вида, может, из-за головокружения, может, из-за осознания, что мы действительно можем начать все заново. Мы движемся из стороны в сторону, туда и обратно, прямо по самому краю. Дразним друг дружку, как тогда в магазине, когда у Стеллы начали отходить воды и все стало другим. Это игра. В этом нет ничего серьезного. Это игра. А потом мы поворачиваемся друг к другу, я протягиваю руки, и она идет ко мне малюсенькими шажками, будто по канату. Я однажды видел женщину, которая танцевала на канате, встав на цыпочки. В одной руке у нее был розовый летний зонтик, а другой она придерживала краешек платья. Она была похожа на куклу. И вот мы стоим обнявшись, а Стелла шепчет мне, что теперь все будет хорошо. «Я не дерево, – говорит она, – и мы действительно можем начать все заново». А потом мы оба смотрим на небо. Это все равно что лежать летним вечером на траве и смотреть, как над тобой бегут облака. Стелла смеется, отпускает меня, показывает на темное облако – нос, лоб, два или три глаза, огромный рот – и говорит: смотри, Мартин, это же господин Поппель!
Видео
На лестнице слышны шаги. Кто это шагает по моей лестнице? Аманда? Нет, Аманда спит. Би? Нет, Би спит. Водопроводчик? Нет. Водопроводчик тоже спит. Может быть, Стелла?
– Убери камеру, Мартин.
Это Стелла. Моя жена. У нее своя красота. Она тут рассердилась на меня и убежала наверх. Сейчас она вернулась. Приятно снова видеть тебя, Стелла. Мы со страховым агентом Гуннаром Р. Овесеном приветствуем тебя.
– Убери камеру, Мартин!
– Мы же еще не закончили.
– Разве?
– Нет, Стелла, не закончили.
– Мартин, убери камеру и иди спать. Скоро утро.
– Подержи-ка камеру.
– Ну давай. И зачем?
– Что ты сейчас видишь, Стелла?
– Вижу твое лицо.
– И что скажешь?
– Скажу: это Мартин.
Это Мартин, скажу я. Мой муж. У него голубые глаза, но иногда, когда он думает, что его никто не видит, они становятся почти зелеными. На подбородке у него небольшая царапина, которая никогда не заживает.
Сейчас он сидит на диване цвета авокадо и смотрит в потолок. Интересно, о чем он думает?
Наверняка он о чем-то думает.
Может, он думает обо мне.
Может, он думает, что все превратилось в прах. Что внутри мы выгорели.
– Убери камеру, Стелла, и пойдем спать.
– Пожелай страховому агенту Гуннару Р. Овесену спокойной ночи!
– Спокойной ночи, Гуннар Р. Овесен.
– Спокойной ночи, Гуннар Р. Овесен.
– Спите крепко. Приятных вам снов.
V. ПадениеСтелла
Когда опора выскользнула у меня из-под ног, я обхватила живот своими длинными руками и сказала: «Вот мы с тобой и полетели». Ты такой маленький, не больше ногтя. Ты – сгусток плоти, покрытый слизистой оболочкой, небольшой вздувшийся холмик, пузырчатое образование. Для тебя нет пределов. Ты можешь стать кем угодно. Даже деревом, если захочешь. Но этого я тебе не советую. Я была знакома с некоторыми деревьями, они не очень-то разговорчивые. Я даже нервничать начинаю, когда оказываюсь рядом с ними. От меня много шума и гама, я повсюду оставляю следы. Это так раздражает. Когда-то мне самой хотелось стать деревом. Чтобы мое тело не оставляло следов. Но уж как вышло, так вышло. У меня текла кровь. Я смеялась. Когда я была беременна Амандой, я все думала, какое у нее будет лицо. Это была самая большая тайна. Я не только рожу ребенка – у него еще и лицо будет. И, когда я была беременна Би, я тоже все время думала, какое же у нее будет лицо. А вот теперь твоя очередь.
Пришла твоя очередь.
Теперь ты – тайна.
И когда-нибудь – а ждать осталось недолго – у тебя будет имя.
Дар
Посвящается Янне Ульман (1910–1996)
I. Окно
Когда после всевозможных «если» и «но» молодой врач сообщил новый диагноз и как-то нерешительно изложил, какие варианты лечения имели бы смысл, – не скрывая, что в конце концов эта скверная болезнь отнимет жизнь у моего друга Юхана Слеттена, – Юхан закрыл глаза и представил волосы Май.
Врач, светловолосый молодой человек, ничего поделать не мог, его большие небесно-голубые глаза подошли бы скорее женщине. Он не произнес слово «смерть». Он употреблял выражение «тревожные симптомы».
– Юхан! – сказал врач, пытаясь заглянуть пациенту в глаза. – Будьте любезны, выслушайте меня.
Юхан не любил, когда к нему обращались просто по имени. К тому же у врача был скрипучий голос. Такое впечатление, что голос у него до сих пор ломается, а может быть, в детстве родители кастрировали его, надеясь, что если он будет евнухом, ему откроется великое будущее, подумал Юхан. Ему хотелось указать врачу на неуместное обращение по имени, особенно принимая во внимание разницу в возрасте. Тот был моложе, чем сын Юхана, с которым он не разговаривал уже восемь лет. И дело здесь было не только в воспитанности, не только в том, что младшему по возрасту не пристало обращаться к старшему просто по имени, нет, дело было в том, что Юхан всегда стремился сохранять определенную дистанцию. Любые формы фамильярности – например, свойственную многим людям дурную привычку слегка приобнять человека (скорее, это даже не объятие, а легкое соприкосновение щек) – он воспринимал как некое неудобство, да и просто отсутствие уважения. Он предпочитал, чтобы собеседник, если этим собеседником не была его собственная жена, называл его Слеттен. Не Юхан. А именно Слеттен. Это ему и хотелось сказать врачу, но не рискнул, поскольку теперь портить отношения было бы неразумно. Он не хотел оскорблять врача. Разговор может принять иной оборот. Врач, чего доброго, начнет уточнять те подробности относительно состояния Юхана, о которых он умолчал, – просто потому, что почувствует себя оскорбленным, кому понравится, чтобы его обучали хорошим манерам.
– Я надеялся, что результаты будут несколько иными, – продолжил врач.
– Гм, – сказал Юхан, выдавив из себя улыбку. – Я ведь чувствую себя гораздо лучше.
– Иногда тело ведет себя вероломно, – тихо сказал врач, видимо не уверенный в том, что стоит так говорить больному.
– Гм, – повторил Юхан.
– Таким образом, – сказал врач, повернувшись к монитору, – как я уже сказал, есть причины для беспокойства.
Далее последовал небольшой монолог, который сводился к докладу о результатах обследования и выводах, в частности, о том, что теперь Юхану необходимо новое лечение, возможно, еще одна операция. Одновременно Юхан, который лишь изредка успевал вставить слово, пытался убедить врача в том, что он же действительно чувствует себя лучше, а это уж точно можно рассматривать как добрый знак. Даже если тело, как было сказано, ведет себя вероломно. Но когда врач в конце концов мимоходом произнес слово «метастаз», Юхан перестал убеждать его в чем бы то ни было. Метастаз! Всю свою взрослую жизнь Юхан ждал, что услышит это слово, ждал, боялся и предвидел. Даже теперь, после его смерти, нет причин скрывать, что Юхан Слеттен был безнадежным ипохондриком, человеком катастрофическим, и эта сцена – вечный кошмар ипохондрика, – разыгравшаяся сейчас между ним и врачом, репетировалась в его голове снова и снова со времен его молодости. Но в противоположность этому вечному кошмару, любовно срежиссированному и беспрестанно редактируемому в его собственной голове, сцена, произошедшая в действительности, была далека от того драматизма, каким Юхан наделял ее в своих фантазиях.
– Метастаз? – переспросил Юхан.
– Это не значит, что… – начал врач.
– Метастаз, – повторил Юхан.
Врач еще раз подчеркнул, что это вовсе не обязательно означает того, что оно означает в подавляющем большинстве случаев. Именно это он и сказал, но, разумеется, в других выражениях. Симпатичный молодой врач, сидевший лицом к лицу с Юханом. Он хотел дать пациенту время переварить диагноз, ведь он вершил чужую судьбу, и его наверняка учили эмпатии в медицинском институте, подумал Юхан.
– Как вы думаете, как долго еще я… – начал Юхан.
– Об этом я не думаю, – ответил врач. – Все здесь очень индивидуально, и, как я уже говорил, остаются неплохие возможности.
– Но в среднем, – перебил его Юхан. – Сколько может прожить человек с подобным диагнозом? Чисто статистически?
– Мне кажется, что не…
Юхан снова перебил его:
– Если бы перед вами сидел не я, если бы я был не я, а вы были бы не вы и мы бы оказались случайными собеседниками, тогда вас – то есть вовсе и не вас – попросили бы на самых общих основаниях… ну вы понимаете… что бы вы тогда сказали?
– Повторяю, я не хочу делать подобные прогнозы.
Юхан ударил кулаком по столу:
– Скажите сколько! Дайте мне хотя бы честный ответ, дайте мне за что-нибудь ухватиться. Назовите срок! Понимаете? – Юхан сунул врачу в лицо часы. – Я хочу знать срок.
Врач не отпрянул, он посмотрел Юхану в глаза.
– Полгода, может быть, больше, может быть, меньше, – ответил он. И, помолчав, добавил: – Но, как я уже говорил… – Он не закончил предложение.
В кабинете повисло молчание. Глядя в пол, Юхан теребил правую бровь – дурная привычка, которая тянулась с детства, поэтому черты лица у него были несколько искривлены: над левым глазом росла пушистая бровь, а над правым – ощипанная. Он попытался прислушаться к своим ощущениям. Слова врача не вернешь обратно, но это всего лишь слова – не удары или ласковые прикосновения, – а чтобы слова начали действовать, должно пройти большее время. Юхан об этом знал. Он пока еще не чувствовал разницы, ему действительно было лучше, вот уже неделя, как ему было лучше, впервые за долгое время. Ничто не мешало ему встать и покинуть кабинет. Он мог бы теперь прогуляться по городу, насладиться весенней погодой, заглянуть в книжный, в магазин грампластинок, купить себе подарок или просто немного пройтись, глазея по сторонам. Разговора с врачом никто не слышал. Это могло остаться в тайне. И все бы было как раньше. Прогулка по городу взбодрила бы его, в кабинете было жарко и душно. От врача пахло потом, Юхан почувствовал это, как только переступил порог.
Он встал и сказал:
– Я немного растерян, мне пора удалиться, поговорим позже.
Врач кивнул.
Юхан добавил:
– Мне поможет жена. Май мне поможет.
Он снова вспомнил про волосы Май, которые – это было удивительно – лучились светом, когда в комнате становилось темно.
Май была женой Юхана. Женой номер два.
Жену номер один звали Алисе.
В тяжелых ситуациях, как, например, сейчас, на приеме у врача, Юхан вспоминал жену номер один и жену номер два. Он пытался сосредоточиться на мысли о Май, но что-то внутри заставляло его вспоминать об Алисе.
Юхан и Алисе поженились в 1957 году. Тогда Юхану было двадцать пять, а Алисе двадцать шесть. Через два года у них появился сын Андреас.
Это был несчастливый брак. Многие жалуются на свой несчастливый брак. Многие пишут об этом. Часто несчастливый брак объясняют тем, что между супругами царит глухое молчание. Однако у Юхана и Алисе такой проблемы не было. Молчание, ни глухое, ни какое-нибудь еще, не воцарялось между ними никогда. Хотя это бы им не помешало, однажды сказал Юхан. Их брак был громогласным. Тишины тут не было и в помине.
Часто Юхан думал о том, что если б Алисе после двадцати лет их совместной жизни не сбила бы машина, если б она не погибла, замолчав под колесами черного универсала на Фрогнервейен, он задавил бы ее сам. Был такой случай: Алисе стояла на краю пирса. Она не умела плавать, так и не научилась в детстве, не решалась плавать, после того как две ее маленькие сверстницы топили ее в луже, совсем неглубокой, это был всего лишь растаявший в канаве снег, но они окунули туда ее голову и крепко держали там до тех пор, пока Алисе не удалось вырваться и убежать. И вот она стояла перед ним – взрослая женщина, жена номер один, стояла на пирсе в солнечных лучах и щурилась, глядя в небо.
Юхан никогда не мог объяснить, почему он так поступил, но вдруг он положил руку ей на спину и толкнул ее. Не легонько, а с силой призера чемпионата, что и принесло ожидаемый результат: Алисе с криком упала в море. Юхан заметил, что она была больше удивлена, чем испугана.
Он тотчас прыгнул за нею следом и вытащил ее на берег, невредимую, но кричащую.
– Зачем ты это сделал? Ты что, псих?
Она плакала, кричала и размахивала кулаками. Платье прилипло к телу, по волосам, щекам и глазам стекала вода, правую туфлю она потеряла в воде. Прихрамывая, она носилась по пирсу, растерянная и оторопевшая; она похожа на курицу, которой отрубили голову, подумал Юхан, испытывая странное удовольствие.
Но вот она остановилась перед ним, сжала руку в кулак и ударила его в глаз:
– Зачем ты меня столкнул?
– Я… не знаю. Прости меня. Не знаю… что-то на меня нашло.
Юхан потрогал ушиб. Позднее он стал синим, фиолетовым, а потом желтым.
Алисе не двигалась с места:
– Почему?
– Не знаю.
Юхан попытался сосредоточиться, придумать какое-то объяснение.
В конце концов он сказал:
– Наверно… наверно, потому что люблю тебя.
Они неподвижно стояли, глядя друг на друга. Правда, он смотрел только одним глазом. Алисе нагнулась, сняла другую туфлю и бросила в море. С пирса она ушла босиком. Юхан стоял, глядя ей вслед. Когда она обернулась и окликнула его, она улыбалась.
Он называл ее Лошадью. Например, когда она, не переставая болтать или кричать, плюхалась на диван рядом с ним. Всей тяжестью своего тела она неожиданно плюхалась прямо рядом с ним, и у Юхана возникало ощущение, словно он лежит на тихом берегу и внезапно его накрывает гигантской волной, какие опустошают целые поселения. Или когда она раскрывала рот и улыбалась, обнажая передние зубы. Именно ее передние зубы наводили Юхана на мысль о том, что он женат на лошади. Если он иногда, хотя случалось это нечасто, сталкивался с настоящей лошадью, он просил у нее прошения. Лошади – красивые животные, и они вовсе не заслуживают сравнения с моей женой номер один, думал Юхан.
В тот раз, когда на пирсе Алисе обернулась, улыбаясь ему, она не напоминала лошадь. И дело не только в ее улыбке, дело во взгляде, глаза у нее смеялись, и этот смех зазвенел глубоко в его сердце. Тогда Юхан подумал – подумал против своей воли, – что Алисе самая прекрасная женщина на земле.
Но потом случилась еще история с деньгами. У них почти не было денег. У Алисе было немного больше. Когда они испытывали нужду, ей давал деньги отец. Немного, их хватало только на то, чтобы заплатить по счетам и купить еды. Однажды, когда они приготовили вкусный обед, поели, выпили хорошего вина и насладились десертом – разумеется, все это было оплачено из отцовских денег, – она вдруг сказала:
– Я тебя купила. Я заплатила за тебя. Понимаешь?
Он всегда помнил об этом.
Когда отец скончался и Алисе получила в наследство 150 тысяч крон, Юхан предложил ей развестись. Он сказал:
– Теперь вы с Андреасом справитесь и без меня.
Но она была мягкой и обходительной и сказала, что деньги ничего не значат. Забудь про деньги. Забудь все, что было. Теперь будем жить в свое удовольствие. У тебя будет все, чего ты пожелаешь.
А потом она попала под машину и умерла.
Многие оплакивали Алисе. Она, бесспорно, была любима многими, с удивлением думал Юхан. Говорили, что Алисе была довольно-таки красивой женщиной. И молодой! Слишком молодой, чтобы умереть, говорили люди. Так ведь всегда говорят о тех, кто умер до определенного возраста. Если человек умер, не дожив до семидесяти пяти, значит, он умер слишком молодым; если не дожив до сорока пяти – это уже трагедия. Ужасная и непостижимая трагедия. Алисе было еще далеко до семидесяти пяти и чуть больше сорока пяти лет. Многие, взяв Юхана за руку, шепотом говорили ему, что смерть Алисе – это ужасная и непостижимая трагедия. И каждый раз он испытывал непреодолимое желание прокричать, что все совсем не так. Вы не понимаете! Она мешала мне жить!
Больше всех горевал об Алисе Андреас.
В первое время после похорон Юхан пытался сблизиться с сыном, с этим убитым горем, прыщавым и чужим юношей, который называл его папой. Они вместе ходили обедать, Юхан много раз навещал его на снятой им квартире, однажды в воскресенье после обеда они даже пытались прогуляться вместе на лыжах. В один прекрасный день после бифштекса с соусом беарнез в «Театральном кафе» сын посмотрел на отца и сказал:
– Папа!
Юхан кивнул. Вечная история. Насмешливая улыбка всякий раз, когда сын произносил слово «папа». Юхан не мог с уверенностью сказать, кто из них насмешливо улыбался или у кого впервые появилась эта насмешливая улыбка – у сына или у него.
– Папа, – повторил Андреас.
Юхан положил вилку с ножом в тарелку.
– Ты хочешь что-то сказать, Андреас?
И так всегда. Беседы ни о чем. Парень никогда не мог довести мысль до конца.
– Не знаю, – ответил Андреас. – Конечно хочу. Хочу что-то сказать. Только у меня не получается.







