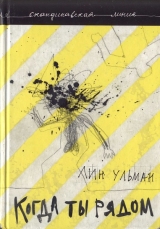
Текст книги "Когда ты рядом. Дар"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Черт, – пробормотала она, – черт, никак не найду.
Поискав еще чуть-чуть, она воскликнула:
– Нашла! Оно под кроватью!
Она выпрямилась, волосы ее были растрепаны, а на лице сияла улыбка.
– Под кровать закатилось!
Она отряхнула одежду и протянула серебряное сердечко мне. Я взял его. В моих руках оно выглядело таким крошечным. Оно лежало на моей ладони и переливалось. Как, должно быть, это маленькое и такое женственное сердечко оскорбилось, оказавшись в моей старой лапище! Стелла села на кровать и наклонила голову, откинув волосы с длинной белой шеи. Я отвел взгляд.
– Такая хитрая застежка. Ты не поможешь мне?
Я посмотрел на подвеску, лежавшую в моей ладони. Взглянул на ее шею. А потом еще раз на свои руки:
– Я, знаешь ли, не очень умею обращаться с такими мелкими штучками…
Я выдавил смешок.
– Ну что ты, это же очень просто, – сказала она. – Сложно, только когда их прямо на себе застегиваешь.
Все еще придерживая волосы рукой, она объяснила мне, как застегнуть замочек. Я посмотрел на ее шею. Ощутил слабый запах пота и тот странный, но ненавязчивый пряный аромат, который всегда от нее исходил. Я осторожно повесил цепочку ей на шею. Руки дрожали, и мне никак не удавалось открыть замочек.
– Что, не получается? – спросила она.
– Потерпи! – буркнул я.
Наконец замочек открылся. Теперь оставалось только зацепить им другой конец цепочки, и – щелк – дело было бы сделано, но тут мой здоровый глаз стал предательски дергаться и заслезился. Руки задрожали еще сильнее, и перед глазами все поплыло.
В конце концов я выпустил цепочку из рук, и сердечко скользнуло ей на колени. Она повернулась ко мне и улыбнулась. Я опустил глаза.
– Подожди чуть-чуть, – сказала она, поднимаясь, – пойду попрошу Лене застегнуть ее. Это в мамином духе – подарок с таким мудреным замком. Она, похоже, надеялась, что я буду носить его не снимая.
Стелла подмигнула мне.
Я кивал головой, пока она не исчезла за дверью.
– Старые коряги! – прошептал я, глядя на свои согнутые пальцы.
Я откусил кусочек бутерброда. Долго пережевывал его, но проглотить так и не смог.
Аманда
После похорон страусовый король Мартин возьмет Би за руку и приведет домой. Мартин мне не отец. Мой настоящий отец в Австралии. Но Мартин – отец Би, поэтому он и приведет ее домой. Би заснет и проснется в этой комнате. А мамы здесь нет. И меня здесь нет. И водопроводчика тоже нет.
Однажды, когда Би была совсем маленькой, мы со страусовым королем поехали в Копенгаген на мой день рождения. Он обещал, что мы покатаемся на колесе обозрения. Старик мне рассказывал, что, если бы не его американский двоюродный дед, мир бы никогда не увидел колеса. Старик сказал, без колеса обозрения мир много бы потерял. Даже не знаю. Этот старик много странного говорит. Но у нас тогда ничего с колесом не вышло. Вместо этого мы со страусовым королем катались на американских горках. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я так испугалась тогда. Сейчас я ничего не боюсь, а вот тогда испугалась. Страусовый король только смеялся надо мной. Мы еще раз прокатились на горках и вернулись в гостиницу. Я лежала на кровати и смотрела телевизор, а страусовый король лежал на другой кровати и спал. Окна были закрыты шторами.
На свой день рождения я заказала в номер картошку фри с сосисками и газировку.
Страусовый король спал три дня. Он сказал, что никогда еще так хорошо не спал.
Сны ему не снились.
А потом мы поехали домой.
Аксель
Перед похоронами я принял ванну.
Ухаживать за телом, следить за собой – все это так утомительно, но если у меня хватает времени и терпения, то мне это удается, несмотря ни на что.
Помню, как много лет назад я поехал в Италию, в Ареццо. Это была одна из последних моих поездок за границу. Там я познакомился с одним археологом. Паоло? Массимо? Забыл, как его зовут. Однажды я зашел к нему в мастерскую посмотреть, как он работает с каменными черепками каких-то посудин. Мне они показались обычными булыжниками, но он очень гордился своей коллекцией, говорил, что это древние камни. «Если их правильно сложить и понять, как они совпадают друг с другом, – объяснял этот Паоло или Массимо, – то поймешь что-то исключительно важное». Уж не помню, что именно. Но меня поразила не мысль об удивительных совпадениях. Меня поразило, как он работал. Его аккуратное, бережное отношение к каждому камню. Предельная сосредоточенность, потому что камни могут треснуть, превратиться в крошку и погибнуть. Сцена была красивой: руки археолога, древние черепки и удивительная гармония его движений и взгляда.
Сейчас объясню, к чему я веду. Иногда я отношусь к своему телу, как тот археолог – к камням. Отношусь к своему телу так, словно оно представляет собой коллекцию камней. Словно эту мою коллекцию тоже надо приводить в порядок, выставлять напоказ или даже на чей-то суд («Нет, ну ты подумай, он все еще жив!») и мне за нее не должно быть стыдно. Все из-за того, что я боюсь, как бы мое тело, эта коллекция булыжников, не предало меня. А она все время хочет унизить меня, сделать смешным и ничтожным.
Мне все время страшно.
Археолог ничего не рассказывал про свои страхи. Камни не были его телом. Он говорил, что в камнях – его жизнь, но телом его они не были. А это большая разница. На прощание он подарил мне один камень и велел беречь его, потому что камень был очень старый. Ему по меньшей мере две тысячи триста лет. Я привез древний булыжник домой и положил его в пепельницу, которая стояла под лампой на тумбочке. Перед тем как лечь спать, я с уважением смотрел на этот камень и думал об археологе, сидящем в его мастерской. Я пытался представить, где этот камень побывал и что он мог бы увидеть, если бы был не камнем, а живым существом. Но камень был и оставался камнем и, значит, ничего не видел.
А потом случилось непоправимое. Однажды вечером, недели через три после моего возвращения из Италии, камень пропал. Камень исчез, а вымытая пепельница стояла в серванте на кухне. «Старая карга!»– догадался я. Ну конечно, Монета здесь прибиралась и выкинула какой-то убогий булыжник – в ее представлении мусор.
Она всегда все мне портила.
Я сразу понял, что бессмысленно говорить с ней об этом, она только оскорбится и будет тупо таращиться на меня. Что она знала о камнях, которым две тысячи триста лет, и о великих совпадениях? Сам я с отчаянием думал об археологе. Несколько ночей подряд я не мог заснуть. Вообще-то со мной такое постоянно бывало, но в этот раз я только и думал о руках археолога, его пальцах, взгляде и древних сокровищах. Мне казалось, что из-за моего равнодушия утрачена небольшая частица жизни. Археолога, а не моей собственной. Он обязательно почувствует, что камень пропал – а ведь он подарил его мне, доверил, – и пропажа отзовется болью в его теле.
В конце концов мои мучения стали такими невыносимыми, что я нашел итальянский номер телефона археолога, позвонил и на довольно хорошем английском объяснил недоумевающему собеседнику, что я изо всех сил старался сберечь свой камень, но старая карга его все равно выкинула, скорее всего в мусоропровод. Археолог долго молчал. А потом сказал:
– О-о…
– Yes? [5]5
Да? (англ.).
[Закрыть]– забеспокоился я.
– It is all right! – ответил он. – Not to worry! [6]6
Все в порядке! Не беспокойтесь! (англ.).
[Закрыть]
– Not to worry? – прошептал я.
– No, – подтвердил он, – not to worry!
– No?
– No!
После этого он сказал: «Ciao!» – и повесил трубку.
Бесчисленное количество раз меня разрезали, переделывали и сшивали заново. Это причиняло боль. Даже сердце мое не оставляли в покое. Из моего тела больше ничего не вынешь. Его больше не разрежешь и не сошьешь заново. С меня больше нечего взять.
Раньше мои страхи были отвлеченными, теоретическими и очень сложными. Я часто грустил и даже находил это весьма удобным. Герд всегда связывала мое поведение с меланхолическим характером и иногда относилась к моим… слабостям снисходительно. Сейчас мои страхи стали более прозаическими и конкретными. Возьмем, к примеру, сегодняшний случай в ванной. Я довольно успешно погрузил свое полумертвое тело в ванну, мне удалось не упасть, но мысль, что придется снова вставать, не позволяет мне как следует расслабиться в горячей воде. Я боюсь поскользнуться и удариться головой о бортик ванны. Боюсь, что, одурманенный паром, потеряю сознание. Боюсь, что Монета найдет меня здесь беспомощным и раздетым. Боюсь, что меня вообще никто не найдет, пока тело мое не начнет разлагаться, о чем будут с отвращением перешептываться соседи. Боюсь, что в моем некрологе напишут: «Пожилой мужчина найден мертвым в собственной ванной. Смерть наступила в результате падения. Полиция, взломавшая дверь в квартиру, обнаружила тело спустя неделю после смерти». (Как на это отреагирует моя дочь? Закроет глаза хотя бы на миг? Вспомнит ли, как в детстве бежала ко мне, вытянув ручонки вперед? Или она по-деловому быстро организует похороны, закажет венок и вернется к своим обычным делам, к насыщенной и спокойной жизни пожилой замужней дамы с двумя взрослыми детьми и внуком на подходе?)
Когда я был моложе, я любил принимать ванну. Мне нравилось, как вода обволакивает кожу и расслабляет мышцы. Прежде мне многое доставляло радость, которую я не ценил. Я любил вкусно поесть. Сейчас для меня хлеб из муки грубого и тонкого помола одинаков на вкус. Раньше мне нравились хорошие вина. А сейчас что бордо, что американское каберне – все одно и то же. Радость исчезла, хотя я и не лишаю себя возможности вкусно поесть или выпить хорошего вина.
Аманда
Во что я верю:
1. Я верю в Снипа, Снапа и Снуте. Я верю в то, что они запускают пальцы в мои волосы и волосы становятся все длиннее и длиннее. Я верю в то, что три десятка пальцев перебирают мои волосы, шесть рук ласкают мое тело, три пары губ целуют меня. 2. Я верю в то, что могу найти себе парня, когда захочу.
Но Би я об этом не рассказываю, она ведь совсем маленькая, у нее даже груди еще нет.
Аксель
Радость исчезла.
Мне нравилось смотреть, как колесо обозрения медленно совершает свои обороты. Однажды я рассказал Аманде про своего родственника, инженера Джорджа Вашингтона Ферриса, изобретателя колеса. Его мать, Марта Феррис, приходилась троюродной сестрой моему отцу. Когда я был маленьким, мы с отцом поднялись на колесо обозрения. Оно было не таким уж высоким, но у меня все равно кружилась голова. Когда мы оказались на самом верху, отец посмотрел вниз и сказал: «Встать бы сейчас, вытянуть руки и прыгнуть! Здесь, наверху, я все время об этом думаю».
Я рассказал Аманде, что Джордж Вашингтон Феррис сконструировал свое колесо для Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году – на радость своей милой женушке Маргарет Энн Феррис. То первое колесо было самым большим из всех когда-либо построенных, его диаметр составлял семьдесят пять метров. Сооружение обошлось в четыреста тысяч долларов, его ось – а это, Аманда, самое сердце колеса обозрения – весила шестьдесят три тонны и была самым большим куском железа, когда-либо отлитым в топке. Две тысячи сто пассажиров могли подняться на этом колесе в воздух и вновь опуститься, подняться и опуститься, вверх и вниз.
17 июня 1893 года Маргарет Энн Феррис стояла в кабинке на самой вершине этого колеса. За ее спиной раскинулся Чикаго. Она подняла бокал шампанского в честь своего мужа и произнесла: «То the health of my husband and the success of the Ferris Wheel…» [7]7
«За здоровье моего мужа и успех колеса Ферриса…» (англ.).
[Закрыть]
– Аксель, переведи! – прервала меня Аманда.
– Она произнесла тост за мужа и его потрясающее изобретение, которое в Европе ошибочно называют колесом обозрения, а вот в США – колесом Ферриса. Он был куда более талантлив, чем Густав Эйфель, а имя его забыли.
– Но жене-то его хоть понравилось, что он специально для нее сделал такое колесо?
– По-моему, она только один раз на него забиралась, – продолжал я свой рассказ. – Через три года она бросила Ферриса. Ее чувства увяли. Он задолжал денег всем и каждому. Колесо обошлось слишком дорого, а интерес к нему вскоре пропал. По указанию властей Феррис разобрал колесо, и даже желающих купить железные детали не нашлось. Говорят, что их в конце концов продали немцам, а те потом, во время Первой мировой войны, переплавили их на оружие.
– А что было с изобретателем? С Феррисом? – спросила Аманда.
– Он умер. Как говорят, от горя. Его милая женушка, его изобретение – все обратилось в прах. Радость исчезла.
* * *
Беседуя с Амандой, я вспоминаю, что когда-то очень давно мне нравилось преподавать. В молодости я хотел стать кем-то вроде лектора, рассказывать о вдохновении, традициях и… да… о радости. Но отношения с коллегами не сложились. Те, кто был постарше, не смогли простить мне мое так называемое предательство во время войны. Молодые презирали меня. А с учениками я… не смог найти общего языка. Они не желали меня слушать. И мало-помалу я начал срываться, стал язвить и запугивать. Они от меня отдалились. И прозвали Страшилкой.
– Аксель, а почему они тебя не любили? Что ты такого сделал? Что случилось во время войны?
Стелла стояла в коридоре перед зеркалом в позолоченной раме и смотрела на меня.
– Ну расскажи, Аксель, я же тебе все рассказываю.
Пару дней назад я прочитал в газете интервью с какими-то стариками. Им задавали один и тот же вопрос: если бы представилась возможность, прожили бы они свою жизнь так же? Большинство отвечало «да». Не понимаю я их. Пережить все снова? Опять надрываться? Надо сказать, тот журналист вовсе не хотел в своей статье рассказывать про жизнь норвежских стариков. Это была так называемая позитивная статья про human interest [8]8
Общественные интересы (англ.).
[Закрыть], осуждавшая молодежь, которая с головой уходит в работу и не ищет радости в мелочах, в семье, детях и тому подобном. (Никогда не понимал, какую радость можно найти в семье. Во всяком случае, мне это никогда не удавалось.) Старики, у которых брали интервью, нужны были только как подтверждение этой идеи, как пыльные доказательства того, что жизнью надо наслаждаться, пока она есть. Наслаждаться жизнью? Прожить ее опять? Ни за что! Ни за что! Я и так уже боюсь, что мне придется жить вечно, если я сам с собой что-нибудь не сделаю. Бог, если он существует, позабыл про меня, а Смерть в своей постоянной спешке меня не замечает.
Я искупался, вылез из ванны и теперь стою перед зеркалом, закутанный в желтый махровый халат. Я уверенно бреюсь. Рука не дрожит. Движения аккуратны, нежны, осторожны и медленны. Потом я оденусь. Я еще с вечера приготовил костюм, а белую рубашку погладил пять дней назад, в тот день, когда узнал о смерти Стеллы. Надену темно-синие брюки, темно-синий пиджак, эту рубашку и синий галстук. Трость мне не нужна: для своего возраста хожу я прекрасно. И еще я надену мою любимую зеленую фетровую шляпу.
Одна радость у меня все же осталась. Музыка. Я не играю на музыкальных инструментах и пою только ночью, лежа под одеялом. Или когда кабинка колеса обозрения поднимается на самый верх – тогда я встаю, раскидываю руки и пою. Музыка доставляет мне удовольствие. Она рассказывает, что вне нашей печальной жизни есть другие существа, которые хотят нам что-то поведать. Может, нерожденные дети, которые так и не начали ходить, говорить и дышать, дети, убитые при абортах или так и не зачатые, становятся музыкой, услышанной каким-нибудь чутким композитором.
Я знаю, что существуют другие реальности. Я слышу их, они там, за окраиной нашей жизни.
Однако и этой радости я часто лишаюсь из-за соседа. Вот уже много лет из его квартиры доносится шум, который он называет музыкой, и я стучу ему в стену. Но этот старик глух как пень. Как-то утром я позвонил ему в дверь и очень вежливо порекомендовал пользоваться таким же слуховым аппаратом, как у меня, с наушниками и без всяких маленьких кнопочек, с которыми невозможно управиться. Тем не менее мой совет показался этому болвану оскорбительным.
Он сообщил, что, во-первых, прекрасно слышит. А во-вторых, замечательно управляется со своим слуховым аппаратом.
Естественно, я поинтересовался, зачем ему вообще тогда слуховой аппарат, если он прекрасно слышит.
Он захлопнул дверь прямо у меня перед носом.
– В любом случае большое спасибо! – крикнул я.
Я слышал, как он что-то буркнул, а потом потащился к своей стереосистеме (подозреваю, очень дорогой) и прибавил звук. Думаю, это был какой-то захудалый оперный певец. А звуки, которые он издавал, представляли собой жуткую пародию на либретто из моцартовского концерта для кларнета.
Тут я почувствовал, что с меня довольно.
Я вернулся к себе и прибавил звук на своей стереосистеме. У меня есть диск Малера в исполнении Дженет Бейкер. Она прекрасно поет: кажется, будто Малер сочинял свои произведения специально для нее. Я прикрыл глаза.
Шум в квартире соседа усилился – он явно хотел заглушить Малера. Я открыл глаза и постучал в стену.
Сосед тоже постучал в стену.
Я прибавил звук.
Он тоже прибавил звук.
Теперь наша музыка играла на весь подъезд.
Иногда я как будто выпадаю из времени. Это очень неловкое ощущение. День только начался – и вдруг уже ночь. Где я был? Что делал? Я услышал топот и голоса на лестнице. Громкий стук в дверь. Мужской голос кричал:
– Грутт! Грутт! Что происходит?
Я встал, неторопливо прошел мимо зеркала в позолоченной раме, вышел на лестничную площадку.
– Что происходит? – спросил меня запыхавшийся темноволосый молодой человек. Я узнал его. Он жил двумя этажами выше и был вроде как писателем. Тщеславный дурак. Его было почти не слышно: все заглушал Малер.
– Ничего, все в порядке, – ответил я.
Хотя музыка играла очень громко, я сначала попытался не повышать голос. Должно быть, сосед выключил у себя музыку, и теперь играла только моя.
– Вы же всему дому спать не даете! – прокричал этот вроде как писатель и заглянул ко мне в квартиру, будто ожидая увидеть в гостиной танцующие пары.
– Это Малер! – прокричал я в ответ.
– Да, но нельзя же так…
Я хотел объяснить ему, что мне прекрасно известно, что музыка играет слишком громко. На мгновение все стихло, и мы оба смогли перевести дух. Мы опять посмотрели друг на друга. А затем музыка зазвучала снова, диск проигрывался сначала. Я вздрогнул.
– Это Малер, – повторил я, опустив голову. – Мой сосед так издевался над Моцартом. Это было невыносимо. Вы бы только слышали! Я понимаю, что играет очень громко. Прошу прощения. Но он так издевался над Моцартом… Заходите, я сейчас убавлю звук, и вы сами послушаете… я имею в виду Малера.
Вздохнув, молодой человек посмотрел на часы.
– Уже третий час, – сказал он. – Я давно лег спать. Я, моя жена, наши дети и собака. Вся семья. Сейчас ночь, понимаете? А этот ваш Малер крутится опять и опять! Вы что, забыли «повтор» выключить?
– Да нет вроде бы… или… не знаю…
Я был в полном замешательстве. Я сказал:
– Не могли бы вы зайти на минутку, давайте разберемся…
Молодой человек опять посмотрел на часы. Теперь он выглядел растерянным.
– Я хотел бы, чтобы вы зашли и послушали Малера по-настоящему, – продолжал я, теперь уже уверенно. – Это поет Дженет Бейкер… Она поет так, будто Малер писал специально для нее… Слушайте! Это про умирающего ребенка, его собственного ребенка, понимаете? Его собственного ребенка…
Молодой человек пожал плечами. Вид у него был такой, будто он сейчас развернется и уйдет, но, к моему удивлению, он прошел в гостиную и сел на диван. Я убавил звук. Голос Дженет Бейкер, будто дарованный небесами, заполнил собой всю комнату.
– Я посижу немного, – сказал молодой человек, – и послушаю вашу музыку, но только из вежливости. И больше такого не повторится.
– Хорошо, – ответил я.
Вот так мы и сидели в гостиной, слушая Малера. Молодой тщеславный дурак и я. Может, он был не такой уж дурак и с ним стоило познакомиться поближе. Но я не стал. Продолжения знакомства не последовало. Встречаясь на лестнице, мы вежливо кивали друг другу, а несколько месяцев назад он съехал. Один, бросив жену, детей и собаку. Не знаю куда. Мы с ним не попрощались.
Потом я думал, что, может, надо было поставить ему Шуберта. Не стоит слушать Малера, когда волнуешься. Может, Шуберт обрадовал бы его больше или успокоил бы. Иногда радость для меня – это покой.
Аманда
– Закрой глаза, Би, – прошу я.
– Закрыла, – отвечает она.
– Когда вы вдвоем со страусовым королем, думай о том, что мама где-то рядом. Не здесь, но рядом.
– Хорошо, – говорит Би, – но она же на самом деле умерла, да?
– Да, – отвечаю я, – так и есть.
Би смотрит на потолок.
– Но это не значит, что ее нет где-нибудь рядом, – говорю я. – Когда ты одна, думай о том, какие у нее длинные руки, в тысячу раз длиннее крыльев, в тысячу раз длиннее моих и твоих волос. Ее руки такие длинные, что она может тебя коснуться, когда захочет, и увести с собой.
Аксель
Она вернулась из поездки в Хейланд другой. Может, мне так казалось из-за смены обстановки – теперь мы виделись у меня дома, а не в стерильно чистой палате. Может, из-за чего-то еще, неуловимого и непонятного. Несколько раз я чуть было не отменил наше первое чаепитие. Всю ночь перед ее приходом у меня болел живот, и я не мог заснуть. Утром я принял ванну, оделся, сходил в магазин за свежим кофе и молоком, а потом зашел в кондитерскую и купил торт с кремом. Дома я постелил на стол скатерть, поставил свечи и фарфоровые безделушки. Потом прибрался, пропылесосил квартиру, аккуратно уложил на диване подушки и красный полосатый плед.
До ее прихода оставалось минут десять, когда я сел на стул и расплакался.
Ровно в час раздался звонок в дверь. Та февральская суббота была солнечной и холодной. Я вдруг сразу заметил, что мне приходится задирать голову, чтобы смотреть ей в лицо. Она была намного выше меня. Во время наших прежних встреч я полусидел-полулежал на кровати, заботливо обложенный подушками, а она в своем белом халате сидела рядом. Сейчас на ней были желтый вязаный свитер под горло и длинная черная юбка. На улице было ветрено, и по ее розово-персиковым щекам текли слезы, глаза блестели, а длинные светлые волосы были закручены в узел. Она положила мне руки на плечи и поцеловала в лоб.
– А я свежие булочки принесла, – сказала она, улыбнувшись. – Сама испекла!
Я отпустил ее руки и промычал, что мне надо пойти сварить кофе. Я прошел на кухню и застыл, глядя на блюдо с тортом. Слезы вновь подступили к горлу. Она посчитает это дурацким, излишне торжественным. Она-то принесла с собой свежие булочки, больше всего подходящие для того, чтобы просто попить кофе. Торт с кремом! Мы же не день рождения празднуем! Мы вообще ничего не празднуем. Торт будет означать, что я жду от нашей встречи очень многого, и это сделает и без того неловкую ситуацию еще более неловкой. Поэтому я взял блюдо, открыл шкафчик под раковиной и выкинул торт в мусорное ведро. Она вошла в кухню, как раз когда я слизывал остатки крема с пальцев.
– У тебя такая уютная квартира, Аксель.
Она посмотрела на меня, на пустое блюдо, потом на открытую дверцу шкафчика.
– Ты что, испек что-нибудь? – рассмеялась она.
Я мотнул головой.
– У тебя на щеке крем. – Улыбаясь, она провела пальцем по моей щеке и сунула его себе в рот.
– Ммм, – сказала она, жмурясь от удовольствия, – ванильный крем… Ты что-то вкусненькое припрятал, да?
– Нет, вовсе нет! – ответил я. – У меня вчера вечером были гости, и одна женщина испекла торт. А как раз перед твоим приходом я бессовестно съел последний кусочек, не мог же я угощать тебя вчерашним недоеденным тортом. Ты давай, Стелла, садись на диван в гостиной, а я положу твои булочки на блюдо, достану масло, сыр и принесу кофе.
– Я тебе помогу, – предложила она.
– Стелла, иди садись! Пожалуйста! Я сам.
Мне опять захотелось плакать. Она осторожно улыбнулась и вышла из кухни, а я вытер глаза, затолкал злополучный торт на самое дно мусорного ведра и начал варить кофе.
Следующий час прошел спокойно. Мы сидели на диване и пили кофе со свежими булочками. Она болтала. Она благоухала. Она смеялась. Я практически ничего не говорил. Этого от меня и не требовалось. Ее переполняли впечатления от поездки в Центральную Норвегию с новым молодым человеком.
– Мы вылетели в пятницу рано утром, – рассказывала Стелла, – рейсом из Форнебю в Варнес. Мы могли бы полететь и до Намсоса, ведь это ближе, но тогда бы вышло дороже. За все платил он…
– Еще бы! – перебил я.
– Скажешь тоже! – ответила она. – Ведь у нас обоих мало денег. По-моему, это прекрасно с его стороны. А в следующий раз я могу заплатить. Но я не об этом. Понимаешь, Аксель, я всегда так боялась летать!.. Это же противоречит человеческой природе. Люди должны ходить по земле, нельзя вот так бездумно и безоговорочно доверять свою жизнь другому человеку… то есть пилоту… И то, что множество людей поднимается в воздух, летит из одного города в другой, из одной страны в другую… Это ведь нарушение всех правил: гравитации, инстинкта самосохранения, того, насколько я могу доверять другим. Откуда мне знать, что те, кто конструировал мой самолет, действительно были профессионалами своего дела? Может, среди них был какой-нибудь чокнутый? И откуда мне знать, может, при проверке именно моего самолета как раз в этот день техник был пьян? А может, пилот как раз вчера вечером обнаружил, что жена ему изменяет, и решил ей отомстить, погубив и себя, и всех пассажиров?
– Может, тебе следует доверять людям? – предположил я.
– И это говорит Аксель Грутт, который не доверяет ни одной живой душе!
Я пробурчал что-то в ответ, а она продолжала:
– Во всяком случае, именно поэтому я стараюсь летать пореже. Ну и конечно, потому, что у меня мало денег. Но Мартин попытался помочь мне. Он знал, как меня уговорить. За несколько дней до отлета он сказал, что если я надену его мужскую шляпу, пиджак, другую его одежду и так пойду вместе с ним в магазин, то он приготовит мне сказочный ужин из семи блюд. А когда мы ехали в аэропорт, он сказал: «Стелла, если ты во время полета не будешь волноваться, то я подарю тебе страусовое яйцо». Я засмеялась и спросила, зачем мне, мол, страусовое яйцо, если самолет все равно упадет и от нас останется одно мокрое место. Все в таком духе. Понимаешь, Аксель, мне так не хотелось, чтобы он увидел, как мне страшно. Он был так уверен в себе, а я была так зажата и напугана. Вот с тобой, Аксель, я не чувствую страха, а с ним… Когда мы сели в самолет, я закрыла глаза. И хотя я не спала, мне приснился сон. Такое со мной бывает. Мне привиделась очередь на самый высокий трамплин для прыжков в воду на Фрогнере – десятиметровый – и что я стою в этой очереди. Передо мной множество раздетых женщин, которые собираются прыгать. И, как только раздается резкий звук трубы, кто-нибудь прыгает. При этом воды в бассейне нет, и все женщины разбиваются о дно. Все об этом знали, я тоже знала, но все равно мы стояли и ждали, когда подойдет наша очередь. И я видела, как женщины одна за другой вставали у края, делали шаг и летели вниз. Такой я видела сон, хотя я не спала. Закрыв глаза, я сидела рядом с Мартином в самолете и чувствовала себя совершенно беспомощной, потому что не могла прогнать эти видения. Но я не спала.
На минуту Стелла замолчала. Ее откровенность удивляла меня, но я не перебивал и внимательно слушал.
– Но это не главное, что я хотела рассказать, – продолжала она. – Потом, когда подошла моя очередь прыгать и я уже готовилась к падению, наш самолет накренился и начал по-настоящему падать. Пассажиры закричали, я тоже, но Мартин обнял меня и прошептал: «Все в порядке, Стелла, все в порядке, я тебя держу…» Конечно, все было в порядке, иначе я бы сейчас тут не сидела, правда? Живее всех живых и совершенно точно беременная. А это была всего-навсего турбулентность и ничего опасного. Но мне кажется, что именно в тот момент я перестала бояться. Летать. И всего остального. Аксель, я ведь всю жизнь боялась. Боялась всех мыслимых катастроф.
– А сейчас ты уже ничего не боишься? – спросил я с иронией.
– Почему же, боюсь, – ответила она.
– Мне послышалось или ты действительно беременна? – спросил я.
Она кивнула.
– Быстро же у вас получилось. Когда вы с ним познакомились? Месяц назад?
– Пять недель и несколько дней, – ответила она. – Я пока точно не знаю, беременна или нет. Но думаю, что беременна. Про Аманду я знала с того самого момента, как мы ее зачали. Хотя этот человек… отец Аманды… он для меня ничего не значил. Не буду о нем говорить! Не хочу рассказывать про ее отца!
– Ну и не надо, – сказал я. – Можешь не рассказывать мне про своих любовников. Не хочу про них знать.
– Да, что-то я разговорилась не о том.
– Да уж.
– Мне только хотелось, чтобы ты знал про ребенка. Я не уверена, но… я не могу ошибаться. Это произошло той ночью, я знаю.
– Да?
– Когда мы возвращались с праздника. В три часа ночи или полчетвертого, и нам надо было идти еще полчаса. Ночь была холодной и звездной. Как раз перед этим шел снег, и все вокруг казалось таким белым и спокойным. Мы играли, как дети, лепили снеговиков и прокладывали дорожки в снегу. Он стащил с меня шапку и закинул ее на елку, она там так и осталась висеть. А потом мы подошли к замерзшему озеру. Днем мы видели, как дети катаются по нему на коньках, но сейчас там было тихо… И вдруг мы услышали слабый шум и увидели на краю леса какие-то загадочные тени, которые быстро приближались к озеру. Мы с Мартином стояли совсем тихо. По льду эти темные фигуры побежали еще быстрее, даже не поскользнувшись. На мгновение мне показалось, что это какие-то странные доисторические лошади, но, приглядевшись, я заметила, что у них есть перья. Я вспомнила сказку о жар-птице, которую мне в детстве рассказывал отец, как она шумела и хлопала крыльями, и вдруг поняла, что это вовсе не лошади, а страусы. Это страусы бегали той ночью по ледяному озеру. «Они сбежали с фермы, – прошептал Мартин, – им кажется, что они опять в саванне. Надо что-то делать. Надо позвонить». Он позвонил на ферму, и вскоре к нам подъехал большой фургон. Из него выскочили родители Мартина и еще три человека с фонариками. Они побежали к страусам, и те вдруг замерли, так внезапно, будто примерзли ко льду. А мы с Мартином пошли домой.
Стелла посмотрела на меня и улыбнулась.
– Его семья разводит страусов, – объяснила она. – Тебе не кажется, что это немного дико? Разводить огромных африканских птиц в Центральной Норвегии… Я все думала об этом… Они же прикованы к земле, они слишком большие, чтобы улететь домой… Чтобы вообще летать. Никакой пользы ни от перьев, ни от крыльев.
Помолчав немного, она отвела глаза и продолжала:
– Той ночью Мартин взял меня за руку и сказал, что, если у нас родится девочка, мы назовем ее Би, в честь его бабушки-шведки, которую звали Бианка. Она была первой женщиной в Скандинавии, которая завела себе шляпку со страусовым пером.
* * *
Да, я сразу это заметил. Она изменилась после той поездки с Мартином. Что-то произошло. Может, оттого, что он дотрагивался до нее, обнимал, целовал, открывал ее для себя… не знаю… я никогда не мог понять. А она не рассказывала, да и не надо было. Я видел это в ее глазах, на ее щеках, по ее изменившейся улыбке.








