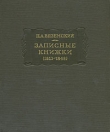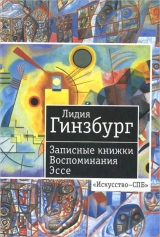
Текст книги "Записные книжки. Воспоминания. Эссе"
Автор книги: Лидия Гинзбург
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Сегодняшний наш авангард пользуется абсурдом для ухода от надоевших форм жизни. Состояние сознания одной разновидности изображает в своей прозе их теоретик Владимир Шинкарев. Сознание высоколобых, широко эрудированных работников котельных.
В журнале «Родник» напечатан «основополагающий документ» – «Митьки» Шинкарева. Митьки – группа художников; они же «художники поведения в мире, где всё только разводы на покрывале Майи...».
На покрывале Майи прочитывались разные разводы, иногда очень изысканные. Но художники поведения митьки запечатлели на этом покрывале умышленно убогий быт, с эстетикой пьянки и сквернословия, игру в идиотизм, речь простую, как мычание или как словарь Эллочки-людоедки. Шинкарев приводит образцы словоупотребления митьков. Например: «ДЫК – слово, могущее заменить практически все слова и выражения».
Но поведение митьков задумано как шифр, скрывающий и приоткрывающий то, что за покрывалом Майи.
А что за покрывалом Майи? – Высокая жизнь духа? Во всяком случае, искусство. Искусство возможно только как перевод на символический язык экзистенциальных ценностей. На худой конец оно – как единственную достоверную ценность – само себя переводит. Тогда образуется ценностная недостаточность.
Две встречи
У меня были две непосредственные встречи с органами. Первая в 1933 году. Тогда в первый раз прокручивали дело Жирмунского в качестве немецкого шпиона (в Германии как раз произошел гитлеровский переворот). Это было предвосхищение будущего, столь еще психологически неподготовленное, что, когда следователь сказал: «А вам известно, что Жирмунский шпион?» – я засмеялась. Арестовали Виктора Максимовича и разных людей (меня в том числе), знакомых с ним и даже почти не знакомых. Тогда, в вегетарианские – как говорила Анна Андреевна – времена, бывали глупые дела, которые кончались ничем. Потом таких уже не бывало. Мирное слово глупость неприменимо к кровавому абсурду обвинений, предъявляющихся в 37-м году.
В 1933-м обвинение мне, в сущности, не предъявили; преимущественно предлагали (попутно угрожая лагерем) «помочь нам в нашей трудной работе» (в тех или иных обстоятельствах «помочь» предлагали подавляющему большинству моих сопластников). Не получилось.
Убедились в этом и выпустили через две недели. Но две недели продержали в Доме предварительного заключения (на Воинова, рядом с Большим домом), в отделении строгого режима, – без книг, передач и прогулок и в одиночке. То есть в секторе, состоящем из одиночек, но, ввиду перенаселенности ДПЗ, превращенных в камеры на двоих. Меня сунули туда глубокой ночью, и я растерянно стояла у двери, пока они ходили за второй койкой. Я думала о том, что вот придется жить впритык с незнакомым существом, может быть истеричкой, да мало ли что может быть. Моя сокамерница внимательно рассматривала меня со своей койки, а рассмотрев, сказала:
– Ну, разрешите мне faire les honneurs de la maison*.
Помню это чувство огромного облегчения: ну, значит, договоримся. Ее звали Анна Дмитриевна Стена (есть такие украинские фамилии). Эрмитажница. Кажется, религиозное дело. О деле она не говорила; мне сказали об этом позднее, и о том, что ее выслали на несколько лет. Мы прожили две недели дружно, разговаривали, читали стихи (книги ведь не давали). Анна Дмитриевна знала наизусть неправдоподобное количество стихов. В том числе две главы «Онегина», «Медного всадника» и почему-то том сонетов Эредиа. Их она читала, естественно, по-французски, что приводило в беспокойство стража, который стучал в глазок.
Вторая встреча с ними была гораздо страшнее, хотя я была не в тюрьме, а на свободе. Это конец 1952 года, тогда уже арестованы были врачи, но мы еще не знали об этом.
Параллельно решено было сочинить дело о еврейском вредительстве в литературоведении и т. п. Организовывал дело Э., который был не рядовым стукачом, но крупным оперативным агентом. По поводу неудавшейся попытки исключить Э. из СП (после хрущевских разоблачений 1956 года) Твардовский сказал: «Как легко было исключить из Союза писателей Пастернака и как трудно Э.».
Э. же на своей проработке сказал, что никогда не клеветал, а только доносил, поступая так, как того тогда требовала партия. И закончил свою речь словами:
– Боюсь, что мне трудно будет восстановить свое доброе имя...
Э. был культурен и имел способности (его ранние работы о Герцене интересны). Внешность у него была инфернальная. Бухштаб говорил:
– Никогда не видал человека, у которого до такой степени все было написано на лице.
Я общалась тогда с Э., участвуя в герценовских изданиях, тридцатитомном и семитомном (единственный источник заработка после того, как меня выжили из университета в Петрозаводске). Э. почему-то считал меня овцой и учил, как надо отстаивать свои интересы в издательствах и редакциях. Получив задание сделать дело о вредительстве в литературоведении, он навел органы на меня (что явствовало из направления допроса). То есть с моих показаний должен был начаться процесс Эйхенбаума и его приспешников.
Тогда как раз в Гизе безнадежно валялась моя книга о Герцене. Программируя мою дальнейшую судьбу, Э. написал отрицательную рецензию (вторая, нужная издательству разгромная рецензия была заказана Марку Полякову) и одновременно мне личное письмо, в котором объяснял, что отрицательная рецензия необходима для моего благополучия. Рецензии Э. и Полякова захлопнули книгу о «Былом и думах» еще на пять лет. На личное письмо Э. я не ответила.
Вскоре приятный женский голос сообщил мне по телефону, что из Москвы мне привезли рукописи и что за ними нужно зайти в такой-то номер гостиницы «Октябрьской» (близ Московского вокзала). Макашин тогда часто пересылал мне герценовские материалы (тридцатитомное издание или «Литературное наследство») и любил почему-то пользоваться оказией. Так что выглядело все правдоподобно. Но какое-то подозрение во мне бродило, – время подозрений.
В потрепанном номере гостиницы «Октябрьской» меня ждала, разумеется, не моя телефонная собеседница, но трое предъявивших удостоверение мужчин разного типажа. Главный был с университетским значком в петлице, который должен был, очевидно, произвести на меня впечатление. Был еще молодой, маленький, дегенеративного вида. Он все время молчал, и я подумала, что такие, должно быть, пытают с удовольствием. Третий был в стиле военного коммунизма – в каком-то френче, какие тогда давно уже никто не носил. Из всех он был самый человекообразный.
Мы встречались три дня подряд. В первый день разговор продолжался десять часов, во второй – пять, в третий (они уже отвалились – не сработало) сорок минут и в основном свелся к подписке о неразглашении.
Пятнадцатичасовой разговор свинцово топтался на месте. Мне предлагали удостоверить, что Эйхенбаум враг народа; я отвечала, что этого быть не может. Они были вежливы (разговор в гостинице, без ордера на обыск и арест). Подавали пальто. В перерыве принесли из буфета бутерброды. Человек эпохи военного коммунизма мохнатым пальцем тыкал в бутерброд с красной икрой: «Возьмите вот этот»; остальные были с колбасой.
По ходу допроса главный (со значком) предложил мне в письменной форме изложить все, что я знаю о вредной деятельности ведущих сотрудников ГИИИ. Я писала долго какую-то вдохновенную ахинею. Вроде того, что, действительно, имели место методологические просчеты, например теория всецело имманентного развития литературного процесса. Главный просмотрел мои листочки и молча порвал их на мелкие куски. Так что ахинея в архив так и не попала.
В первый день я пришла домой поздно. В моей коммунальной квартире жила тогда С. Д. Она говорила очень много и очень забавно, но, как ни странно, умела молчать – когда надо. Я зашла к ней и объяснила положение вещей. Если завтра я не вернусь, пусть будет понятно, почему...
Потом я стояла у остывающей печки и думала сосредоточенно о том, что главная сила, единственная защита человека – это способность к самоубийству, что это последняя мера достоинства. Об этом Достоевский сказал Кирилловым. Но беспричинный акт Кириллова – это самоубийство как свобода. Тогда как наше самоубийство – это необходимость и для раба единственная возможность волеизъявления.
Я стояла у печки. Около часа ночи раздался звонок. Сомнений уже не могло быть никаких. В коридор вышли одновременно я и С. Д. Не знаю, какого я была цвета, но она была белого – я даже не предполагала, что так бывает на самом деле. Почтальон вручил мне телеграмму. Из далекой командировки телеграмма извещала меня о благополучном прибытии туда адресанта. Никогда их так поздно ночью не приносили.
Вообще же я была обречена. Дело о вредительстве в изучении русской литературы (в истоках – Институт истории искусств, в центре – Эйхенбаум) начали бы с какого-нибудь другого конца и дошли бы до меня в свое время. Да еще свели бы счеты за задержку. Смерть Сталина (через два с небольшим месяца) спасла и мою в несметном числе других жизней.
1988
Библер прислал мне свое эссе «Нравственность. Культура. Современность. Философское размышление о жизненных проблемах».
Я написала ему: «Вы говорите: основной этический акт – выбор, свободный поступок. Но почему исторически выбор всегда предстоял неразрешимым парадоксом. Для античности – в силу идеи рока; для средневековья – божественного предопределения. Для позитивизма XIX века – в силу биологического и социального детерминизма.
Для нас такие механизмы уже не срабатывают. И получается, что самый непредустановленный выбор у наших современников. Но это уже сверхпарадокс. Потому что никто еще не проходил через подобный опыт невозможности выбора».
Хобби
В Англии собираются издать Интернациональный биографический словарь. Мне прислали анкету для заполнения. Там есть даже графа «хобби».
Для образца заполняющим – в анкету включены ответы архиепископа Кентерберийского. Всевозможные должности и почетные звания занимают у него целый столбец. А в графе «хобби» написано: «Опера, чтение истории и романов и разведение свиней беркширской породы». Прелестное микроизъявление английского духа.
Давнишний разговор между двумя людьми, до пресыщения знающими друг друга.
– Так, так... Не обзавелся ли ты иллюзиями?
– Иллюзиями? Я уже даже не помню, как выглядят иллюзии. Из чего их делают. У меня, напротив того, подробное расписание будущих горестей.
– И ты встреваешь в психологическую авантюру с вычисленным страданием... Чего ради? Ради тени счастья.
– Но тень счастья – это страшно много. Огромно. «А эта тень, бегущая от дыма...» Подумай – давно омертвевшему сознанию возвращена печаль.
– Как-то у тебя все это подозрительно красиво. Когда человеку по-настоящему больно, он готов взвыть.
– Выть я не буду. Потому что все заранее хорошо известно. Воют от неожиданности, принимая ее за несправедливость. А тут все закономерности – на своих местах. Остается проиграть ситуацию.
– Проиграть... Слово имеет два значения...
– Годятся оба. Для каламбурной развязки. Смотри – «Как тень внизу скользит неуловима...».
* *
В «Вопросах литературы» напечатан московский дневник Ромена Роллана, который он вел в 1935 году. Против ожидания дневник оказался документом в высшей степени интересным.
Интересно не то, что ему вкручивали – это само собой, – а он клевал на наживку (к тому же подкупленный неслыханно почетным приемом), а то, что он многое знал, живя у Горького и тесно общаясь с Крючковым и Ягодой.
Роллан отчасти понимал, что ему вкручивают, он знал про поднадзорное положение Горького, про расстрелы, аресты и ссылки после убийства Кирова, про неприличное обожествление Сталина, про указ, узаконивший смертную казнь для детей с двенадцатилетнего возраста.
Он пишет, что сопротивление «богатых крестьян» было «яростным и фанатичным». И по ходу этого рассказа возникает замечательная своей уравновешенностью фраза: «На Украине крестьяне уничтожили огромные запасы зерна, весь урожай, и их оставили умирать с голоду». То есть Ромен Роллан знал то, о чем мы тогда не имели понятия, – что украинский голод был организован.
И все это не помешало знаменитому гуманисту толковать о «лучезарном будущем» советского народа и в личной беседе заверить Сталина, что под его руководством СССР указывает лучшим людям Запада выход из морального и экономического распада.
Ромен Роллан в самом деле гуманист, а убеждение в том, что «лучезарное будущее» требует жертв и оправдывает жертвы, было родовым грехом всего гуманизма, выношенного XIX веком. И все мы, интеллигенты старшего поколения, причастны этому греху.
Интеллигентам, впрочем, свойственно сомневаться. По поводу очевидной для иностранцев перлюстрации писем, которую отрицал Ягода, Роллан заметил: «Но даже зная все это, испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды».
1989
* * *
Двадцатым годам присуще интеллигентское поклонение жестокости. «Конармия» Бабеля вся проникнута уничижением интеллигента перед недоступной ему кровожадностью.
Платонов же, сам пройдя через соблазны утопического мышления, сумел понять, почем «лучезарное будущее»... И написал об этом «Чевенгур».
В альманахе «Зеркала» М. Эпштейн поместил эссе «Очередь». Оказывается, очередь можно дофилософствовать до положительного смысла. «Очередь – это воплощенная мечта социального математика, утописта-пифагорейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где каждый отличается от другого только порядковым номером... Если толпа – это хаос, то очередь – космос, устроенный по законам исчислимой гармонии. Но в отличие от античного космоса новейший вброшен в историю, и число обретает свойство самодвижения ».
Никакого отношения к экзистенциальному опыту стоящего в очереди – с ее телесным томлением, с хамством и ненавистью, с унижением человека.
Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит. Дело же писателя не говорить то, что никто не говорит, а говорить то, что все говорят, но так, как об этом никто еще не сказал.
1989
* * *
Разговор с Андреем Левкиным о возможностях прозы. Сначала говорим о том, о чем давно говорят разные люди. Современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до исчерпанности довел еще Толстой.
Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средостением встающая между писателем и читателем.
– Не только между писателем и читателем, но между писателем и писанием, – говорит Левкин.
Он говорит, что сейчас люди начинают делать то, что в двадцатых годах сделал Шкловский прекрасной книгой «Письма не о любви». Другое прекраснейшее явление новой прозы – тоже старое: «Разговор о Данте». Непосредственный разговор автора с читателем, хотя и не личностный... Не о себе...
Я: – В конечном счете: о себе... О своей поэзии больше, чем о поэзии Данте. Но не в том дело. Не в том, чтобы художественное высказывание было субъективным, а в том, чтобы оно было прямым; без средостения будто бы объективного мира или со средостением вполне прозрачным.
Прямой разговор о жизни – в разных его формах, есть и косвенные формы прямого разговора – единственное, что пока современно. Почему этот род литературы не устарел, как другие? Потому что жизнь продолжается, не устаревая, и тем самым продолжается ее осознание, истолкование. Научное и эстетическое высказывание – неотъемлемая функция мыслящего человека. А романы и повести он может и не писать.
По этому поводу Алеша Машевский сказал, что прямой разговор о жизни – такая же условность, как непрямой. Что как только люди привыкнут к тому, что это литература, появится литературный стереотип прямого разговора. Уже появился.
– Что же, по-вашему, прекратится тогда потребность в эстетическом осознании текущей и протекшей жизни? Едва ли. По Гегелю, правда, искусство отомрет, как способ познания, несовершенный по сравнению с наукой, философией, особенно религией. Но потребность эстетического переживания жизни изначальна, задана в устройстве человека. Значит, взамен прямого разговора придумают еще какую-то новую форму. Или изменят назначение старой. Прямой разговор о жизни существовал еще в древности. В XII веке проза – это и есть, в основном, прямой разговор – хроники, мемуары, мысли, максимы, афоризмы, портреты... Но о том, что это литература, тогда еще не знали.
1989
Литература мыслила человека свойствами – устойчивыми, стереотипизировавшимися реакциями на сходные ситуации. От одномерного, сведенного к одному свойству типа классической комедии до динамической и противоречивой соотнесенности свойства, образующей характер в романе XIX века. Со временем все меньшее значение отводилось стереотипу, все большее – изменчивой ситуации.
Проза XX века (новый роман, Беккет...) попыталась отделаться не только от характера, но и от персонажа. Попытка тщетная, потому что неотменяемым оказался субъект сюжетного процесса, – даже если он представал аморфной магмой сознания.
В XX веке размывание характера, быть может, сопряжено с непомерным тоталитарным давлением, перетиравшим личные свойства человека. Сталинской поре присуща унификация поведения перед всем грозящей пыткой и казнью. Лгали лживые и правдивые, боялись трусливые и храбрые, красноречивые и косноязычные равно безмолвствовали.
У Шекспира ревность – составная часть характера Отелло и его сюжетной судьбы. У Пруста ревность не только свойство характера рассказчика, но также идея ревности, объемлющая прустовское понимание жизни как непрестанного ускользания из человеческих рук.
Жизнь существует лишь в памяти. И не только прошедшая жизнь, но и так называемое настоящее – тоже производное памяти, недоступное для обладания. Отсюда бесплодная ревность к другому, в самом деле обладающему. Его даже нельзя настичь, потому что человек прустовского склада находится с ним в разных измерениях – в измерении памяти и в измерении побежденного настоящего.
4.XI 89
Есть одиночество буквальное, физическое; одиночество заключенных в одиночку или заброшенных стариков, получающих сорокарублевую пенсию.
Есть одиночество душевное при наличии разных контактов – профессиональных, интеллектуальных, светских, семейных, любовных. Вплоть до ахматовского «одиночества вдвоем». Тогда одиночество – это неразделенная жизнь. И одолеть его можно не контактами, но только взаимопроницаемостью существований. Это выход из себя, мучительно нужный человеку. В схватке с солипсизмом человек ищет подтверждения внеположной реальности – будь то Бог или материальный мир.
Человек не выносит чистого чувства жизни (если он не достиг нирваны – блаженной самодостаточности), жизни без отвлечений – в паскалевском смысле слова. Паскаль говорит, что все бедствия человека происходят от того, что он не умеет спокойно сидеть в своей комнате. Человек – по Паскалю – придумал множество отвлечений (divertisements), для того, чтобы они мешали ему думать о себе и своем плачевном и обреченном земном бытии.
Те, кто видят смысл жизни – в •жизни, в ней самой, на самом деле приемлют жизнь в разных ее наполнениях, содержательных формах – природы, искусства, эротики... Существование, как таковое, чревато инфернальной скукой. Этому состоянию души соприродно одиночество, если представить себе идеальное одиночество, доведенное до предела, которого оно практически не достигает. Никем не разделенная жизнь не тождественна, но странно подобна бесцельности, самосознанию, не имеющему содержания, дико остановившемуся времени, от которого кружится голова. И страшно. Но такая правда об одиночестве находит только минутами. В остальном мы отвлекаемся.
6.Х 89
Собрание
– Очень мне понравилась речь В. Чем она отличалась от речи К.? Что же это – речи порядочных людей ничем уже не отличаются от речей подонков?
– Но отличается позиция, несмотря на речи.
– Ну, это возможно только отчасти. Конечно, слова и дела... Но слова – это тоже дела.
Оно и верно и неверно. Верно, что речь – тоже поведение. Поведение, значит, плохое. А предпосылки и последствия поведения все же отчасти положительные. Трудно разобраться, если не разделить на уровни этическое существо человека. Разделение, преодолевающее этический наивный реализм, столь свойственный моему поколению в ранней юности, когда мы думали, что все рабовладельцы – плохие люди, а рабы – хорошие.
Есть историческая функция человека, его положение в расстановке сил, которую люди определенной ценностной ориентации считают положительной или отрицательной (концепция вполне релятивистическая, конечно). Есть, далее, конкретное общественное поведение человека, соотнесенное с его функцией, но ей не тождественное, отклоняющееся под давлением обстоятельств. Есть, наконец, личные свойства.
Оценочные знаки трех этих пластов могут совпадать, могут не совпадать и вступать в разные сочетания. Плюсы и минусы, проставляемые с относительной, но вовсе не субъективной, а в своем роде обязательной (групповое сознание) точки зрения.
X. уверял, что в определенных исторических ситуациях только негодяи могут сделать хорошее (если хотят). Потому что они обладают властью. Он подразумевал определенные социальные результаты.
Очень уж просто. Оставим в покое разные душевные градации. Но схематическую градацию дает хотя бы моя старая теория разделения людей на порядочных (которые в основном не сохранились), полупорядочных, мерзавцев, которые хотели делать то, что они делали, полумерзавцев, которые не хотели делать то, что они делали, и потому делали немного меньше.
Те, кто помоложе, смотрят из дали, стирающей оттенки; мы же познали оттенки на собственной шкуре. Нам было небезразлично, что Д., скажем (для них – суммарно мерзавец, для нас – полу...), делал минимум положенного и сам убивать не хотел. Такой оттенок мог спасти кому-нибудь жизнь. А. – хотел. Его оттенок в том, что он верил, и когда перестал верить, – ему расхотелось. Из дали видна только чистая историческая функция и не видно соотношений функции, поведения, личных свойств.
В свое время этика была либо религиозной, либо рационалистической. Религиозная этика предлагала сверхличные и сверхчувственные обоснования своей обязательности. Рационалистическая убеждала человека в том, что хорошим быть естественно, выгодно, приятно. Никакой обязательности из всего этого не получалось; поэтому религиозная этика очень логично могла объявить: если Бога нет – все дозволено. Если же на практике атеисты ведут себя хорошо, это значит, что они бессознательно религиозны.
Современная социология показала, что человек – это социальное устройство, управляемое не личным произволом, еще менее логикой, но разными механизмами, внушающими ему групповые ценности и нормы (так уже у Маркса, с его учением о превращении интересов в идеалы). В своем поведении человек легко уклоняется от социальных норм (как и от религиозных), но ему не уйти от групповых критериев, потому что они уже стали оценочной формой его сознания. Эта обязательность – по сравнению с религиозной, – в сущности, абсурдная, алогическая, но достаточно крепкая для того, чтобы на ней кое-как все держалось.
Поведение – выбор между предложенными возможностями, и выбор ограниченный. Выбор прежде всего предлагает история, у которой в определенный момент для определенной среды есть свои варианты. Чем активнее в данный момент социальная среда, чем напряженнее, тем выбор уже. В 1810—1820-х годах все молодые образованные русские дворяне в большей или меньшей мере были декабристами. История не вообще предлагает свои возможности, но предлагает их группе, среде. А среда предстает человеку сначала в конкретной форме семьи. Значение семьи чрезвычайное – первая социализация человека. И все же из данных семьи поведение еще невыводимо, непредсказуемо. После истории, среды, семьи следуют определяющие вариант подробности – личных свойств, обстоятельств, удач и неудач...
В тех условиях, которые были даны на протяжении десятилетий, самой решающей, вероятно, подробностью были способности. Способности – те же личные свойства, направленные на определенную деятельность. Способные – то есть заинтересованные, потенциально продуктивные, обладающие ресурсами – естественно шли в одну сторону, бездарные – в другую. Борьба умеющих и неумеющих – большая общественная борьба; и неумеющие вооружены в ней как нельзя лучше.
Что касается умеющих, то в среднем их этический потенциал выше. Но не будем преувеличивать. Талант в этом плане как-то сам собой срабатывает. Он ставит свои условия. Сосредоточивает на одном и приглушает многие вожделения. Главное, человек непроизвольно выполняет условия, поставленные его талантом. Изнутри ему даже кажется – это он от слабости, от вялости ведет себя хорошо, оттого что стесняется, храбрости не хватает вдруг перевернуться и заговорить другими словами. В этом мы знаем толк. Жизнь вся прошла в выполнении условий; и никогда это не сопровождалось горделивым переживанием осуществляемого этического акта.
Обратимся к нынешней расстановке сил. Есть уклоняющиеся – от воображаемой точки – вправо, есть уклоняющиеся влево, есть наплевательски настроенные, своекорыстно ориентированные и т. д. Нет только находящихся в точке, потому что точка эта уже недействительна (в гегелевском смысле). Кстати, водораздел, довольно зыбкий, проходит не между имеющими партбилет и не имеющими (это не так уж релевантно), но между силами охранительными, то есть охраняющими свое положение, и силами продуктивными или потенциально продуктивными (усиление первых приводит к отмиранию вторых). И это в любой сфере.
Правые, в свою очередь, есть чиновничьего типа и националистического. И множество между ними гибридов и переплетений. Есть почвенничество органическое, с семейными навыками и связями, даже с предрасполагающей внешностью, в виде, например, хорошо растущей бороды. Туда же ведет и многое другое – неистребимость жестоких расовых инстинктов, потребность выхода из идеологического вакуума, мода, то есть неудержимое примыкание, подключение к существующей ценностной ориентации. Но, может быть, всего больше соблазн неизъяснимой легкости, простоты, с которой добывается столь нужное человеку чувство превосходства, избранности, а заодно врожденное право на житейские преимущества. Не трудом, не умом и волей, а брожением соков в физиологически темных, хлюпающих недрах. Какой ужасный соблазн!
Тип этот, нередко смыкаясь с чиновничьим, не исключает, однако, продуктивности (чем бездарнее человек этого типа, тем он страшнее и ближе к охотнорядской модели). В конечном счете поэтому они подозрительны чиновникам, полагающим, что лучше не иметь и таких идей, на первый взгляд симпатичных. Когда же оказывается, что это только на первый взгляд, – их готовы стукнуть, не очень сильно, но довольно охотно.
Есть еще кочетовская ориентация (те самые правые, которые на Западе – левые, с прибавлением отсутствующей у кочетовцев анархической окраски). Представителей ее мало и становится все меньше, то есть идеологов. Их вытесняют практики, чистые функционеры. Те, кто знают, чего им ожидать от продуктивных сил. Типологические их предпосылки – бездарность, невежество, неспособность к производительному труду. Для автоматического включения в ряд не на своем месте сидящих хватает и этого, но еще прибавляется – для более перспективных – властолюбие, жадность до всяческих благ (подобные страсти заводят в этот стан порой и талантливых).
Функционеры породили в нашем литературном быту любопытнейшее явление. Когда речь шла о напечатании Белого, Цветаевой, Мандельштама, – они всякий раз оказывали сопротивление столь мощное, сложное, многоступенчатое, столь проникнутое ужасом, как если бы с выходом именно этой книги должны были рухнуть устои, как если бы именно эта книга должна была открыть людям нечто, что сделает их неуправляемыми. Но книга после многолетних противоположно направленных усилий выходила, а устои оставались на месте. И все начиналось с начала в ожидании подобной книги. Наконец для меня прояснилось: дело не в устоях, дело в штатных единицах. Чем спокойнее будут выходить эти книги, тем меньше будут нужны редакторы, цензоры, члены редколлегий, заведующие отделами и многие другие.
Функционер жиреет, но жиреет как-то только физически. И он вовсе лишен розовой гладкости, которой иногда удивляют люди западного делового мира. Он расплачивается беспокойным бытием, всегдашним нервным ожиданием. Преданность его негативна; она ипостась его страхов. И она не мешает раздражению против устройства, если устройству случится наступить на его интересы.
Есть еще правые поневоле. Бывшие люди бюрократического мира. По причине смены формаций, по национальным или другим причинам, управлять они больше не могут. Иные из них – в том числе репрессированные и реабилитированные – пребывают в уже не существующем. Другие даже не прочь бы начать с начала, в духе новых ожиданий среды. Но совсем к этому не приспособлены. Им никак не повернуть окаменевшие смолоду мозги.
Левые имеют свои разновидности – от собственного мнения, более или менее откровенного, до умения отмолчаться; также до юношей, заявляющих своеволие длинными волосами и разрисованными кофтами. Есть среди них и желающие исправить. Желание, в свое время характерное для основной новомирской группы. Понятно: некоторые ее вдохновители сами вышли из гущи проработчиков (Дементьев – особенно) и сами исправились.
Есть люди поведения конформистского и карьерного (разной степени), но приобщенные к интеллигентским ценностям, что обеспечивает им чувство превосходства над неприобщенными. Есть, наконец, по существу своему чиновники, в чьем мышлении появилась категория общественного мнения (как категория силы). Предусмотрительнее – они считают – быть на всякий случай умеренными, благожелательными к интеллигенции.
К интеллигенции... Можно ли подвести под такое понятие весь этот пестрый социальный материал? Можно, если в значительной мере изменить содержание понятия. Интеллигенция в классическом понимании – это сознательные носители целенаправленной общественной мысли. Если таков основной интеллектуальный признак русской интеллигенции, то основной ее этический признак – готовность претерпеть. Она возникла не из личных нравственных качеств (это само собой), но была непременным условием, важнейшей составной частью этой социальной модели. (Как, например, храбрость кадрового офицера является профессиональным условием, а вовсе не свойством хорошего офицера.) От готовности народовольцев взойти на эшафот до готовности либерального профессора в знак протеста уйти в отставку, до готовности студента быть выгнанным из университета. Они обычно не извинялись, не просили, а главное, не удивлялись, считая, что это то самое, чего и следовало ожидать. Декабристы, те, напротив того, удивились. Они, их друзья и родные долго даже не хотели верить тому, что с ними в самом деле поступят жестко. Декабристы еще не были интеллигенцией, а были интеллектуальным слоем господствующего класса. Мерещилось им, что раз дело не вышло, то можно еще все обратить, стереть, что с ними могут еще столковаться, проявить понимание... Между ними и властью не разверзлась бездна, и гражданского мужества у этих бесстрашных офицеров оказалось поэтому меньше, чем у любой курсистки восьмидесятых годов.