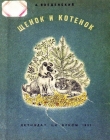Текст книги "Полковник Коршунов (сборник с рисунками автора)"
Автор книги: Лев Канторович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
СТОЯНКА ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ
«Заход парохода бухту возможен тчк правым берегом коса около шести кабельтов тчк бешеное приливно-отливное течение тчк стоянка по возможностям».
(Радио капитану парохода от капитана ледокола)
К концу дня начали попадаться мелкие льдины. На горизонте показались лиловые горы материка. Совсем заштилело, и над морем поднялся туман. Лед стал плотнее. Пароходу пришлось сбавить ход, а через некоторое время остановиться. Бухта совсем близко, но из-за тумана нельзя подойти к берегу.
Молодой тюлень вылез на лед и осмотрелся вокруг, высоко поднимаясь на передних ластах. Потом заснул. Спит он маленькими промежутками времени, не больше минуты. Проснувшись, снова поднимает голову, озирается и опять засыпает. Но спит чрезвычайно крепко.
Медведь давно следит за тюленем. Он пробирается вдоль кромки льда, мягко прыгает по торосам, осторожно спускается в воду, неслышно плывет и вылезает на лед.
Спустился туман, и медведь подошел совсем близко. Теперь он ползет, распластавшись на льду. Когда тюлень просыпается, медведь неподвижно застывает на месте. Желтоватая, как слоновая кость, шкура совершенно сливается с желтоватым льдом. Только нос и глаза тремя черными точками могут выдать зверя. Поэтому он закрывает морду белой лапой.
Как только тюлень опускает голову, медведь стремительно вскакивает и пробегает еще несколько метров. С каждой минутой сна тюленя он подходит все ближе и ближе. Он уже совсем рядом. Только один острый торос отделяет его от цели.
Тюлень снова засыпает, и медведь коротким прыжком кидается вперед.
От удара льдина обламывается, и оба зверя исчезают под водой. Через минуту медведь показывается на поверхности. В зубах чернеет добыча. Он медленно подплывает к льдине, вылезает и шумно отряхивается. Начинает пожирать тюленя с головы, раздирая мясо лапами, громко чавкая, перегрызает кости.
Медведь наелся, отошел несколько шагов, привалился к покатому торосу и задремал. Во сне он сыто урчит и громко фыркает.
Его разбудил острый незнакомый запах. Он сразу вскочил и огляделся, высоко поднимая горбоносую, лобастую морду.
Запах щекочет ноздри, но из-за плотного тумана ничего не видно. Любопытство разбирает медведя. Сначала он медленно идет на запах, но чем ближе подходит, тем скорее перебегает от полыньи к полынье, плюхается в воду, плывет и отряхивается на бегу. Теперь он уже слышит странные, незнакомые звуки: шум, голоса и лай собак.
Налетел ветер и разом разорвал пелену тумана. От неожиданности медведь сразу остановился, упершись передними лапами и присев на зад: прямо перед ним, совсем близко, стоит во льду огромный черный предмет. Что-то шевелится и двигается на нем, а вверх подымается густой, едкий дым.
Некоторое время медведь сидит неподвижно. Потом встает на задние лапы, потягивает носом воздух, медленно идет вперед. Вдруг он чувствует жгучую боль в задней ноге и сразу же слышит сухой треск. Он круто поворачивается и хватает зубами воздух. На пушистой шкуре проступает красная точка. Зверь рычит и садится, чтобы облизать рану.
Новый треск, и боль в боку заставляет его сразу вскочить. Ему трудно бежать. Он хромает и ворчит, мотая низко опущенной головой. Третья пуля попадает в живот и валит зверя. Медведь еще пытается подняться.
Он видит, как огромный, страшный предмет поворачивается и движется к нему…
______
Туман рассеялся как всегда внезапно. Совсем близко открылись берега и вход в бухту. С левого борта заметили медведя. Он стоял на задних лапах, потом опустился на четвереньки и пошел к пароходу. Его убили четырьмя выстрелами, но не смогли подобрать. Когда пароход подошел и с разгону ударился в льдину, труп соскользнул в воду и течение утащило его под лед.
Течение в этом месте оказалось невероятной силы. В узком горле бухты льдины крутило в стремительных водоворотах.
Пароход шел тихим ходом. Вдруг весь левый борт заскрежетал по дну. Судно страшно накренилось, корму забросило налево и ударило о льдину. Только теперь заметили, что эта льдина прочно стоит на мели: она неподвижна, а вокруг лед плавает свободно.
Отсюда хорошо видна бухта. У левого берега стоит на якоре ледокол. Веселый дым подымается прямо вверх над его трубой.
С парохода спустили шлюпку, и капитан с начальником экспедиции поехали на ледокол. Они договорились, что, когда начнется прилив, ледокол подойдет к аварийному судну и попытается снять его с мели.
К двум часам утра по высокой воде ледокол, осторожно обходя отмель, подошел к правому борту и подал стальной буксир.
Сначала попробовали тянуть с носа. На пароходе буксир пропустили через якорный клюз и закрепили толстыми бревнами. На ледоколе стальной канат обмотали вокруг кнехт на корме. Капитаны с мостика переговаривались в рупоре. В полной тишине слышались попеременно то спокойный, певучий говорок помора – капитана ледокола, то взволнованный, слегка грассирующий голос капитана парохода.
Когда все было готово, на ледоколе прозвонил машинный телеграф, и под кормой забурлила вода. Буксир натянулся. Ледокол стал работать средним, потом полным ходом, но пароход не двигался. Вдруг бревна лопнули с оглушительным грохотом. Канат перерезал их и размотался. Ледокол сразу прыгнул вперед.
Пароход неподвижно сидел на мели…
Тогда попробовали тянуть с кормы.
Снова, после долгих приготовлений, ледокол работал «полный вперед», бурлил у себя под кормой и остался на месте. Теперь буксир закрепили за кнехты и на пароходе. Через несколько минут кнехты не выдержали, сломались, и канат стал крушить релинги на корме. Потом он за что-то зацепился и лопнул.
Прилив кончился, вода начала спадать, и ледокол ушел в бухту.
Пароход остался на мели…
Третий штурман парохода считает себя настоящим «морским волком». Толстенький, крохотного роста человечек, он всегда ходит в щегольском кителе и в фуражке с огромным «крабом». Матросы называют его Петухом. Он плавал за границу и в кают-компании бесконечно рассказывает о портовых кабаках и публичных домах. Получается такое впечатление, будто на Западе нет ничего, кроме проституток и ресторанов. А лучшее место в мире, несомненно, знаменитый Сан-Паули в Гамбурге.
Профессию моряка Петух считает единственной благородной профессией.
Трудная работа усложняется для него массой сложных неписаных «законов моря».
Но штурман он плохой. Он плавает уже давно и никак не может подняться выше третьего помощника.
Севера он не понимает и боится. Он привык к морям, где рейсы судов проторены, как шоссейные дороги.
Морской аристократ, он презирает северных моряков – «трескоедов». Эти люди с тихой, окающей речью, сдержанные и спокойные, всю жизнь проводят в своих холодных морях. Им, воспитанным дикой природой, совершенно не свойственны «морской гонор» и преклонение перед «морскими традициями». Многие из них за границей никогда не бывали и не знают «культуры» европейских кабаков. Начиная от капитана и кончая последним угольщиком, они – простые, наивные люди – совершенно непохожи на «идеал моряка», который создал себе штурман Петух.
Штурмана злит, что «трескоеды» оказались опытнее «настоящих моряков». В кают-компании засевшего на мели парохода он критикует команду маленького ледокола и издевается над «мужицким говором» поморов.
Сильнее же всего он злится на контору Совторгфлота, которая зачем-то послала его в этот проклятый рейс.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СТАРМЕХА ТРУБИНА
В прилив лед приносило из открытого моря. Большие торосы и мелкие осколки плыли, крутясь и обгоняя друг друга. Льдины забивали всю бухту, сталкивались, громоздились и выпирали на берег. Прилив продолжался шесть часов. Потом бухта застывала неподвижно.
Через полчаса начинался отлив. Льдины шевелились, сначала медленно поворачивались в образовавшихся разводьях, затем все скорее и скорее неслись к морю, шурша в водоворотах.
В узком горле, у входа в бухту, вырастал ледяной затор. Здесь лед уже не шуршал, а ломался с оглушительным грохотом и скрежетом. Вода отступала из бухты. И снова через шесть часов останавливалась. Только кое-где на черном берегу сверкали льдины, выброшенные приливом.
Во время прилива ледокол разворачивался носом к морю. Льдины налетали на форштевень и сотрясали корпус судна. Никакие якоря не смогли бы удержать ледокол. Чтобы преодолеть бешеное течение и оставаться на месте, приходилось работать средним ходом.
У входа в бухту, беспомощно накренившись, стоял на мели пароход. Льдины наползали на него, и большие поля застревали, упершись в исцарапанный борт. Тогда люди начинали сбрасывать на лед кирпичи, глину, картофель, ящики и мешки. Чтобы сняться с мели, необходимо облегчить вес судна. Сбрасывать тяжелый груз прямо в воду нельзя, так как он, опускаясь на дно, увеличит мель. В воду кидали только бревна и доски.
Сначала попробовали отвозить грузы в лодках на берег. Но это было слишком медленно, а становилось все холоднее и холоднее, день заметно укорачивался, ночью вода покрывалась плотным ледяным «салом». Шла зима, и, чтобы спасти судно, нужно было уходить как можно скорее. Поэтому груз сбрасывали за борт.
Когда большая льдина подходила к борту, пароход оживал: начинали грохотать лебедки, раздавались слова команды. Часть людей спускалась на лед, часть работала на палубе. Льдина оседала ниже под грудой кирпичей или мешков. Ее относило течением, а новую подтягивали к борту якорями.
На «погруженных» льдинах ставили шесты, и долго было видно, как странные корабли кружились по бухте. Многие унесло в открытое море.
Трубин, старший механик ледокола, очень недоволен бухтой. Он рассчитывал воспользоваться стоянкой и отремонтировать машину, а это проклятое течение не дает ни минуты покоя. Все время звонит машинный телеграф, с мостика требуют то «малый вперед», то «средний», механики мечутся по трапам, в журнале путаные записи бесчисленных реверсов. Разве тут до ремонта? И все-таки в перерывах между приливами, по частям, урывками, Трубин чинит старенькую машину.
Вахтенные штурмана предупреждают его, когда предполагается более или менее спокойная стоянка. Механик спит, не раздеваясь, на диванчике, чтобы не пачкать койку.
Трубин сразу вскакивает, бормоча со сна, натягивает огромные болотные сапоги. Голенища прожжены во многих местах. Механик сует пальцы в каждую дыру и сокрушенно качает головой. Сапоги испорчены уже давно, но он заново огорчается всякий раз, как надевает их.
Потом Трубин открывает умывальник и плещет на лицо солоноватую воду. Вода коричневая от ржавчины. Он вспоминает о том, как мало осталось пресной воды, и снова расстраивается.
Он достает с гвоздя фуражку и надевает ее перед зеркалом. Тут настроение улучшается. Трубин даже улыбается, рассматривая свое отражение. В плавании он перестал бриться. Подбородок и шея заросли густой ярко-рыжей бородой. На щеках курчавятся пушистые бакенбарды. Борода Трубину очень нравится. Он весело посвистывает и старательно расчесывает замечательную бороду.
Но когда он выходит на палубу, лицо его снова сосредоточенно-мрачное.
Ледокол подходил к аварийному пароходу и пытался стянуть его с мели. Все старания не привели ни к чему, и Трубин расстроился еще больше. Теперь ко всем старым огорчениям прибавилось еще раздражающее зрелище неуклюжего судна, нелепо стоящего на отмели. Трубин не может спокойно видеть, как гибнет такая ценная вещь, как судно.
А судно обязательно погибнет, если его не снять с мели как можно скорее. Через несколько дней бухта замерзнет, и тогда уже никто не сможет помочь пароходу. Если же он будет зимовать здесь, при этих течениях, сидя на мели, лед раздавит его, как скорлупку.
Команда парохода тоже не очень-то нравится Трубину. Разве можно в такой рейс посылать людей, непривычных к Северу? Их и винить-то особенно нечего. Тут свои поморы подчас растеряются.
Но совсем злой становится Трубин после заседания партийной ячейки.
Капитан ледокола и капитан парохода присутствуют на ячейке. Когда ставится вопрос о спасении парохода, оба они начинают разговоры о необходимости просить помощи. Трубин прекрасно понимает, в чем дело: капитан парохода так напуган мелями и всеми неожиданностями северного моря, что теперь боится всего на свете. Ну, а капитана ледокола Трубин знает давно. Он знает о его осторожности, знает, как не любит капитан рисковать. Риск, конечно, есть – ледокол может сам наскочить на мель, – но Трубин понимает, что если вызвать помощь, если заставить какое-нибудь судно бросить все и идти в эту проклятую бухту, то будет сорван еще в одном месте общий план работ в Арктике. Нужно во что бы то ни стало справиться своими силами.
Трубин берет слово. Он старый член партии, он партизанил в гражданскую войну, он прекрасный механик и опытный моряк, его хорошо знают, и у него большой авторитет в ячейке. Он говорит очень горячо, и вся ячейка с ним согласна. Но капитаны – единоначальники на кораблях. В плаванье их только можно просить, им можно только советовать.
Заседание ячейки затянулось до поздней ночи. Наконец капитанов уговорили еще раз самим попробовать стянуть пароход и, только если это не удастся, звать на помощь.
Трубин, страшно злой, стягивает сапоги у себя в каюте. Он снова разглядывает дыры и думает, что капитан, конечно, побоится «дернуть как следует».
Потянет чуть-чуть, для виду, и запросит: «Помогите!.. помогите!»… И Трубин громко произносит такую энергичную фразу, что матрос, проходивший мимо каюты стармеха, шарахается в сторону.
Выгрузка на пароходе продолжается четыре дня. Утром пятнадцатого сентября к борту подогнало большое ледяное поле. Подошел ледокол и тоже стал у льдины. Не прекращая сбрасывать на лед мешки и ящики, начали перегружать на ледокол самое драгоценное: бочки с нефтью и бензином и уголь. Ледокол принял двести тонн угля и двести тонн жидкого топлива. За борт удалось скинуть тоже около двухсот тонн груза. Уже с полудня пароход начал откачивать водяные балласты. К началу вечернего прилива приготовили буксир.
Двойной трос закрепили на носу парохода, и ледокол развернулся кормой к аварийному судну.
Капитан крикнул в рупор, что все готово.
Трубин спустился в машину, скинул меховую куртку и сел на высокий табурет около распределительного щита. Звякнул телеграф, и стрелка показала «малый вперед». Трубин сам перевел рычаги и ответил на мостик. Прошло несколько минут. Телеграф потребовал «средний». Трубин обернулся от рычагов и сказал вахтенному механику, что управится сам.
Механик молча полез по трапу.
Трубин остался один. Он походил вокруг машины, заглянул в кочегарку. Кочегары работали у топок и не заметили его. Машина ровно стучала, спокойно поблескивая шатунами, весело гудело динамо.
Трубин раскурил трубку.
Вдруг телеграф звякнул «стоп». Не успел Трубин ответить, как стрелка прыгнула на «малый вперед», затем на «средний». Потом снова сначала: «стоп», «малый», «средний».
Ледокол переставал работать, буксир ослабевал, и когда после короткой паузы трос сразу натягивался, получался рывок вперед – «типок».
Трубин метался между рычагами и ручкой телеграфа. Но пароход, очевидно, не сдвигался с места.
Тогда Трубин оглянулся, еще раз убедился, что он один в машине, и хитро подмигнул сам себе.
Снова телеграф приказал «стоп». Трубин остановил машину. Когда же стрелка стала на «малый вперед», он ответил на мостик, но рычагов не тронул. Держась за рукоятку, он медленно сосчитал «раз, два, три, четыре» – и сразу дал средний ход. Ледокол сильно вздрогнул и рванулся вперед. Телеграф испуганно зазвонил. Трубин точно отвечал на команду с мостика, но, задерживая паузы, усиливал рывки.
Он понимал, что, нарушая приказание капитана, он всю ответственность возлагает на себя одного. Но другого выхода он не видел. Советоваться с кем-нибудь не было времени. Действовать нужно немедленно.
Ему вдруг стало жарко, но не было времени вытирать пот, и тонкие струйки стекали из-под фуражки на всклокоченную бороду.
Капитан от волнения не мог стоять на месте. Он бегал на мостике и, по привычке, что-то невнятно бормотал. Когда Трубин первый раз дернул судно, капитан увидел, как ледокол зарылся носом в воду, как задрожал натянувшийся трос и как заклокотала вода под кормой. Он выругал штурмана, стоявшего у телеграфа, и сам схватился за ручку. Штурман пожал плечами.
Поглядев на стрелку, капитан осторожно перевел на «стоп». Машина остановилась. Капитан сразу дал «малый вперед». Телеграф звякнул ответ, но ледокол не двигался. Минутная пауза показалась капитану невероятно длинной. Потом ледокол опять нырнул носом и задрожал от толчка.
На корме что-то закричали, по палубе побежали люди. Капитан обмер: ему показалось, что буксир лопнул и что ледокол с разгону уже вскочил на мель. Он бросился к трапу и столкнулся со штурманом. Штурман был без шапки, волосы развевались по ветру. Он размахивал руками и кричал без перерыва: «Пошел!.. Пошел!.. Пошел!..»
Тогда капитан увидел, что пароход медленно-медленно поворачивается. Он рванулся к телеграфу и дал «полный вперед». С парохода охрипший голос орал в рупор то же слово: «Пошел!.. Пошел!.. Пошел!..»
Капитан скомандовал рулевому «лево на борт» и забормотал, ударяя в такт кулаком по релингам: «Пошел… пошел…»
Пароход сошел с мели…
Трубин вылез на палубу и вытер бледное лицо влажным платком.
Он сказал вахтенному механику, чтобы тот шел вниз.
1934
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лев Владимирович Канторович родился в Ленинграде в 1911 году. Еще мальчиком-самоучкой он начал работать помощником художника в Театре юного зрителя и в эту же пору увлекся иллюстрированием книг. Девятнадцати лет от роду Лев Канторович выпустил два интереснейших альбома; сильные, броские, энергичные рисунки молодого художника сразу же были замечены и оценены по достоинству. Альбомы назывались: «Будет война» и «За мир». В эту же пору Канторович оформил спектакль в театре Нардома – пьесу Всеволода Вишневского «Набег». А в 1932 году Лев Владимирович ушел матросом в знаменитую полярную экспедицию на «Сибирякове». Рисовать «из головы» в спокойной обстановке мастерской он не любил. Он был путешественником по характеру, по натуре. Поход «Сибирякова» был началом бесконечных отъездов Канторовича. Через год Лев Владимирович ушел в экспедицию на «Русанове», после военной службы, навсегда привязавшей его к погранвойскам, Канторович отправился в высокогорную экспедицию на Тянь-Шань, затем с погранвойсками участвовал в освобождении Западной Украины и Белоруссии, потом провоевал всю финскую кампанию и погиб еще совсем молодым человеком в бою в начале Отечественной войны.
Мы, его товарищи, помним Леву Канторовича всегда спокойно-веселым, несколько насмешливым, глубоко жизнерадостным и удивительно легким человеком. И путешествовал он как-то легко, и писал без всякого «избранничества» на челе, и сочинял свои книжки с радостью, жизнелюбиво, всегда и во всем отыскивая хорошее, человечное, сильное, мужественное. И книги, и рисунки, и замыслы Льва Владимировича были полны гордостью за дела советских людей, гордостью за то, что ему выпало счастье не только знать или слышать о том или ином проявлении чувств и дел нашего народа, но и самому участвовать в трудных и ответственных зада высоких ниях, поставленных перед моряками, учеными, воинами нашей страны социализма.
Лев Канторович работал всегда, везде, в любых обстоятельствах. Работать для него было совершенно то же, что дышать. И так же, как люди дышат, ничем особым не отмечая эту свою нормальную деятельность, – так трудился Лев Владимирович, никогда не отделяя досуг от работы. Многие свои картины он писал при гостях, но не гостях-пустомелях, а гостях-деятелях, работниках. Канторович писал маслом, а два его приятеля, летчики, рассуждали между собою о своих летных делах, и Лев Владимирович вдруг отрывался от картины и незаметно брал карандаш – записать в блокнот то, о чем толковали летчики, – пригодится на будущее.
Работоспособность этого человека была поистине поразительной. Менее чем за десять лет он издал: «Пять японских художников», «Холодное море», сборник очерков об Арктике, книжку рассказов о пограничниках «Пост номер девять», «Граница» – сборник рассказов, «Рассказ пограничного полковника», сборник «Враги», повесть «Кутан Торгоев», еще повесть «Александр Коршунов», книгу «Бой», сборник очерков «Пограничники идут вперед», сборник рассказов «Сын Старика» и даже самоучитель по лыжному спорту под названием «Памятка лыжному бойцу». Кстати, эта последняя работа очень характерна для Канторовича, никогда не чуравшегося никакой работы. «Памятку» он написал потому, что она была нужна бойцам-пограничникам, и слово «нужно» решало вопрос. Отличный лыжник и спортсмен, Лев Владимирович знал, что он напишет памятку хорошим, простым понятным, доходчивым языком, и писал эту свою брошюрку увлеченно, читая ее вслух товарищам нелыжникам и спрашивая:
– Тебе все понятно? Вот ты ничего про лыжи не знаешь, а понятно? Объясни то, что тут написано…
Или:
– Не скучно? Понимаешь ли, такая книжка не имеет права быть скучной.
Или еще:
– Прочитаешь эту книжку – захочется встать на лыжи?
Свои книжки о походах, и путешествиях, о пограничниках и моряках, об Арктике и о нарушителях границы Канторович иллюстрировал сам. И всегда всего ему не хватало: не хватало поездок по стране, не хватало друзей, не хватало впечатлений, не хватало времени, чтобы описать и нарисовать то, что он видел и знал. Ему вечно было как-то весело-некогда, он постоянно не суетливо, но энергично спешил и удивительно мило завидовал своим товарищам художникам, писателям, журналистам только по одному поводу:
– Смотри, в какую переделку человеку удалось попасть. Повидает! А что я? Сижу и пишу второй месяц подряд.
И писал или рисовал в ожидании нового потока, нового обвала впечатлений, встреч, жизненных переделок и переплетов, в которых, как считал Канторович, и познаются люди. Помню, познакомил он меня с одним из наших известных полярников, а потом с сокрушением говорил:
– Нет, это что! Здесь – это другой человек. Жена, детишки, бабушка. Вот ты бы его там посмотрел, в деле, в «переплете», когда он весь виден. Там он орел!
И, наверное, это было именно так: в деле человек – орел. Чтобы видеть советских людей в их делах, видеть их совершающими поступки, видеть их лучшие человеческие качества – и ездил по стране Лев Владимирович.
Ему все было интересно, а если он за что-нибудь брался, то вкладывал в работу всю душу, и трудно вспомнить случай, когда бы он был полностью доволен сделанным. На моей памяти он интересно и своеобразно иллюстрировал стихи Бориса Корнилова, «Пограничников» Михаила Слонимского, «Катастрофу» Павла Далецкого, книги Дос-Пассоса, Драйзера, Джека Лондона – и всегда работа захватывала его целиком. А разглядывая вышедшую из печати книгу, он сердился:
– Черт знает что! Совсем иначе надо было это делать.
Иллюстрируя мой роман «Наши знакомые», он показывал мне эскизы и сердился, если я хвалил. Он жаждал спора, ему хотелось доказывать свою правоту, хотелось, чтобы ему возражали и чтобы таким путем возникла истина полная, абсолютная… на сегодня. Завтра Лев Владимирович вновь бы подверг уничтожающей критике собственную работу. А ведь именно в этом и есть залог движения художника вперед.
Как к литератору он относился к себе чрезвычайно сурово и строго:
– Я пишу плохо, – говорил он,– но дело в том, что я должен писать. Мне интересно рассказывать людям о том, что я видел, знаю, слышал. И, может быть, мои книжки полезны? А? Ведь не могу же я все нарисовать. Верно? Пусть считается, что это подписи под картинками…
Он вел удивительные дневники – и литератора и художника. Сейчас они выглядят как шифр, к которому утерян, и, к сожалению, навечно, ключ. В дневниках короткие, непонятные нынче записи и картинки. А в свое время Канторович, перелистывая эти записные книжки, бесконечно и очень увлекательно и рассказывал, и показывал то, что потом будет сделано из этого шифра литератора-художника. Тут были десятки сюжетов, взятых из самой жизни, с подробностями, с пейзажами, с характерами.
Лев Владимирович так говорил о себе и о своей работе по радио перед самым началом Отечественной войны:
– По-моему, самое большое удовольствие – сложить вещи в чемодан или заплечный мешок и отправиться в дорогу. В странствиях мне удалось провести треть моей жизни. Я был в нескольких полярных экспедициях, на лыжах ходил по Хибинам, плавал на яхте, пешком бродил по Кавказу, летал, ездил верхом, ездил на собаках, на оленях, и первые книжки, которые я написал, были очерками, описаниями путешествий…
Сначала я был рядовым пограничником, а потом очень много ездил по границе. Мне нравятся наши пограничники. Я стараюсь учиться у лучших из них. Мне нравится их жизнь. Я стараюсь показать жизнь на границе такой, как она есть,– со всеми трудностями и горестями, лишениями и опасностями. Вы знаете, что в Красной Армии некоторые бойцы срочной службы просят не увольнять их и дают обещание служить пожизненно. Я уже давно дал такое обещание командирам пограничных войск.
Художник-литератор-пограничник Лев Владимирович Канторович сдержал свое обещание. 30 июня 1941 года в первом бою он был убит. Пограничники поставили ему памятник.
О Льве Канторовиче невозможно «думать как о человеке, навсегда ушедшем от нас. Слово «смерть» и имя «Лев Владимирович Канторович» – взаимно исключающие понятия. А вот жизнь и Лен Канторович, жизнь – в ее непрерывном поступательном движении, в смене времен года, в дальних и грудных экспедициях, в нелегкой радости бытия – это близкое, неразделимое, единое.
«Летчики не умирают! – говорят в авиации. – Летчики просто улетают».
Такие люди, как Лев Владимирович Канторович, не умирают. Они просто не возвращаются из экспедиции или из боя.
Лев Владимирович прожил всю свою недлинную жизнь на переднем крае. Он был советским человеком в подлинном смысле этого слова. Нет, он не был искателем приключений – он шел туда, где был нужен, где чувствовал себя полезным, он шел туда, куда вел его долг. И шел без всякой патетики, без жертвенности: весело, жизнерадостно, «по собственному желанию». Немыслимо представить себе Льва Канторовича «эвакуированным как талант» в Ташкент, в Алма-Ату. Но ясно видишь его участником военного труда, опасного плавания, тяжелого пешего перехода, ясно представляешь его в условиях блокады, до которой он не дожил,– всегда спокойно-веселого, ясноглазого, всегда работника-делателя.
В годы Великой Отечественной войны, в повседневности газетной работы многие из нас постоянно вспоминали Льва Владимировича как живого, а не как ушедшего навсегда И вспоминался он не окутанный некой лирической дымкой, а как делатель, как дозарезу необходимый труженик. Вот прикидываем, бывало, полосу во флотской газете, не ладится дело, серой и скучной кажется работа, – и вдруг с досадой подумаешь: «Эх, сюда бы нашего Льва Владимировича, он бы все придумал и, главное, ничего бы никому не перепоручал, а все бы быстро, толково, интересно и по-своему сделал сам. И всем бы весело было смотреть на его ловкие руки, на прищуренно-оценивающий взгляд, всем было бы не обидно слушать его подшучивания над неудачными стараниями тех, кто до него подготовлял полосу». И пусть будут прощены мне эти слова, но не без раздражения иногда взглянешь на своих коллег по профессии: один, видите ли, прозой не занимается, поскольку он драматург, другой изящно именует себя новеллистом, на третьего не снизошло вдохновенье и он не написал веселой басни, так нужной для этой полосы. И думаешь «Вот был бы с нами Лев Владимирович, показал бы он этим божьим избранникам, этим витиям, он бы с ними поговорил по-настоящему, по-своему, без реверансов и церемоний, поговорил бы, как положено говорить труженику с людьми, желающими легкой жизни».
Так вспоминался наш товарищ, а ведь ушедшие от нас продолжают жить с нами своим делом, трудом, умением быть нужными не в праздники, а в будни.
Хорошо помнится, как начинал писать Лев Владимирович. Вначале он как бы стеснялся писать прозу и то, что было по существу уже прозой, продолжал называть подписями под картинками. Но не писать прозу он не мог, ему непременно нужно было рассказать людям о том, что он узнал о них, живя с ними не в ленинградской квартире, не в ателье художника, а на пограничной заставе, в кубрике корабля, в землянке на фронте, в лыжном переходе. Он не мог ждать, покуда это все напишут другие, а кисти и карандаша ему не хватало для повествования. Творческая энергия била через край, а устные пересказы друзьям не удовлетворяли его самого. И стыдливо, сначала для себя, потом только для очень близких людей он начал описывать ту правду трудных будней, которую умел наблюдать и которую знал по собственному житейскому опыту. Он всегда рассказывал увлеченно и в то же время стыдливо-целомудренно, с огромной любовью к советским людям. Он не мог не писать эти свои невыдуманные истории. А впоследствии и рамки прозы стали писателю тесны, он написал пьесу, написал киносценарий, и сколько бы он еще сделал, если бы не передний край и не бой, в котором он погиб как солдат, с автоматом в руках!
Работал он всегда, везде, всюду, умел и любил делать все. Помню, как смешно и трогательно заарендовал он себе дачку. Пожил там зимой в холоде и мерзлоте несколько дней, потом пришел ко мне посмотреть слово «плита» в энциклопедии. Выяснилось, что два жулика-печника взялись построить на даче плиту, получили задаток и, «представляешь, растворились», как выразился Лев Владимирович. Он рассердился, впрочем не столько рассердился, сколько обиделся: он сам был человеком труда, человеком слова. А обидевшись, принялся сооружать плиту сам. В конце концов ему удалось соорудить нечто напоминающее очаг первобытного человека. В этом очаге затеплился огонь, Лев Владимирович сидел перед горячими угольями, попыхивал трубкой и радовался. А через несколько дней он исчез со своей дачки, соскучился и отправился к пограничникам. Он не умел быть один, не умел отгораживаться от людей, не нужна ему была никакая собственность: красное дерево, хрусталь и прочая дребедень, которая, к сожалению, еще существует в качестве «антуража» у некоторых писателей, художников, актеров и ученых. Пара добрых ботинок на толстой подошве, табак, лыжи, фуфайка, удобный перочинный нож, которым Лев Владимирович мог хвастаться неделями совершенно по-мальчишески, добрые друзья, но такие, С которыми можно подолгу спорить, и отъезды, отъезды, отъезды, причем без проводов, а вот так, сразу, смаху, – телефонный звонок и характерный голос:
– Ну как ты там?
– Ничего, а ты?
– Я-то лично с вокзала.
– Провожаешь кого-нибудь?
– Боже сохрани! Сам уезжаю.