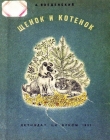Текст книги "Полковник Коршунов (сборник с рисунками автора)"
Автор книги: Лев Канторович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Метель вдруг утихла, и Николай Семенович увидел то, за чем гнались.
Тройка рослых рысаков была впряжена в легкие санки. И лошади и сани были покрыты белыми покрывалами.
Глаза лошадей смотрели в круглые прорези, как в попонах средневековых рыцарей.
В санях скорчились два человека, тоже закутанные в белые халаты. Один правил лошадьми. Второй возился с пулеметом, тупая мордочка которого высовывалась сзади. Пулемет молчал. Очевидно, кончилась лента.
Никифоров скакал рядом с командиром.
Николай Семенович оглянулся на него. С искаженным яростью лицом, Никифоров подымал ручную гранату.
– Не сметь! – крикнул Николай Семенович. – Во что бы то ни стало взять живыми. Танки брали голыми руками, а ты пулемета испугался!
Пулемет затарахтел. Николай Семенович почувствовал, что падает вместе с конем. В следующую секунду острой болью ожгло ногу. Он успел крикнуть:
– Никифоров, не останавливаться. Взять живыми! – и повалился на снег.
Мимо вихрем пролетел разъезд. Бойцы оглядывались на командира. Николай Семенович, лежа, махнул плеткой вперед. Никто не остановился. Разъезд умчался. Стало очень тихо.
Конь придавил Николаю Семеновичу ногу. Нога болела. В сапоге стало мокро. Кровь.
– Вот тебе и кентавр! – громко сказал Николай Семенович. Он попробовал выбраться, но, падая, конь проломил наст, и снег проваливался под руками, когда Николай Семенович уперся посильнее.
Некоторое время Николай Семенович лежал неподвижно. Ему было жарко. Он укусил снег, начал сосать твердый комок. От холода стало больно зубам. Николай Семенович выплюнул ледяной шарик и лег лицом на снег.
Вдруг конь захрипел и приподнялся.
Нога освободилась. Николай Семенович откатился в сторону и вскочил.
– Ты жив, дружище? – сказал он. Конь повернул к нему черную голову. Обе передние ноги его были перебиты пулями. Снег таял, залитый кровью.
Николай Семенович пошел к коню. На правую ногу было больно ступать. Кровь хлюпала в сапоге.
Издалека, приближаясь, донесся треск пулемета.
Николай Семенович увидел черную цепочку, скачущих всадников и белую тройку впереди.
Черные фигурки обогнули тройку кривым полукругом.
– Молодцы! – сказал Николай Семенович.
Тройка повернула.
Теперь белое пятно неслось прямо на него.
Черные всадники смыкались плотнее, окружая тройку.
Вдруг один из них упал, высоко вскинув руки. Его лошадь поскакала в сторону.
– Сволочи, – пробормотал Николай Семенович и сразу вспомнил: «Ахметдинова убили».
Ни один выстрел не отвечал суетливой трескотне пулемета.
Николай Семенович заковылял к коню. Конь опустил голову на снег.
Николай Семенович лег рядом с ним, отстегнул маузер и приладил приклад. Дуло маузера положил на спину коню.
Тройка быстро приближалась.
Николай Семенович приложил маузер к щеке, целясь в тройку. Ладонь привычно нащупала серебряную дощечку на прикладе. Маузер был боевой наградой.
Николай Семенович ждал. Он думал о том, что Ахметдинов, вероятно, убит, что, может быть, не одного Ахметдинова уложили нарушители. Можно было бы обойтись без жертв. Например, забросать тройку гранатами. Гранаты были. Имел ли он, командир Воронов, право приказывать не стрелять, не кидать гранаты и подставлять людей под пули?
Но нужно взять нарушителей живыми. Таков приказ начальника отряда. И война есть война.
Тройка была совсем близко.
Черные фигурки всадников двумя плотными стайками сжимали тройку с боков.
Николай Семенович прицелился в грудь кореннику.
– Молодцы, кентавры, – шепнул он и затаил дыхание, тихонько дожимая спуск.
Коренник упал, убитый наповал, и запутался в ногах пристяжных.
Николай Семенович видел, как Никифоров махнул шашкой, перерубая постромки. Обезумевшие пристяжные понеслись, волоча по снегу тело коренника.
Люди в санях вскочили. Один побежал в сторону. Его поймали. Второй, пулеметчик, выхватил револьвер и сунул себе в висок. Никифоров перегнулся с седла, и снова сверкнул клинок. Револьвер упал в снег. Пулеметчик вскрикнул, сжимая левой рукой перерубленную кисть.
Несколько бойцов спешились и с винтовками наперевес окружили пленных.
Никифоров подъехал к командиру.
– Как Ахметдинов? Кто еще ранен? – спросил Николай Семенович.
– Ахметдинов жив, товарищ командир. Ранен в плечо. Под Семеновым коня убили… Кириллов ранен в ногу… Остальные целы… – возбужденно говорил Никифоров, слезая с взмыленной лошади.
Он подошел к коню Николая Семеновича и стал на колени перед ним.
– Плохо с Тимофеем Ивановичем, товарищ командир. – Он снял винтовку.
– Плохо, Никифоров.
Николай Семенович видел, как слеза потекла по щеке Никифорова.
Никифоров приставил дуло винтовки к уху неподвижно лежавшего коня.
Николай Семенович отвернулся.
5Утром Николай Семенович проснулся как обычно. Он хотел вскочить на пол, но сразу заныла забинтованная нога. Рана оказалась пустяковой, но нога побаливала.
Николай Семенович осторожно сел на кровати, на одной ноге добрался до окна, распахнул форточку.
Бойцы чистили лошадей.
Никифоров вывел небольшую, изящную белую кобылу.
Николай Семенович вернулся к кровати, лег и поудобнее вытянул ногу под одеялом.
За окном запел Никифоров:
…По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
Эх, по Дону гуляет
Казак молодой…
1935
ТРУС
…Обнаружено, что след собаки пересекает границу.
Из рапорта начальника заставы
Ему исполнился год. Он был шестидесяти пяти сантиметров ростом. Его серая шерсть светлела на нижней стороне хвоста, на животе, лапах и шее. А морда у него была темная, почти черная. Его коричневые глаза сверкали желтой искрой.
Словом, он был очень красивый пес, стройный и сильный, и на вид казался злым зверем. Но он был совсем не злой и не страшный. Хуже того, он был трусом. Трусом от рождения. Возможно, его отец или мать были запуганы, забиты, и он унаследовал от них страх. Его купили совсем маленьким, и о его родословной никто не знал ничего путного.
Во всяком случае, с тех пор как он полуторамесячным щенком попал в питомник, никто никогда не бил его и не запугивал, и все-таки он жил в мире, полном ужасов. Телега, грохочущая по камням шоссе, казалась ему громом. Человек, поднявший руку, казалось, обязательно хочет его ударить. Стук дверей казался выстрелом. А настоящий выстрел так пугал несчастного пса, что он ложился на землю, зажмуривал глаза, хвост прижимал к животу и так замирал, ожидая смерти. При этом его задние ноги дрожали мелкой-мелкой дрожью. Вся красота пропадала бесследно.
В журнале питомника его записали под именем «Джек», но все называли его «Трусом». Начальник питомника сердился, когда слышал эту кличку, но пес отзывался на нее, и в конце концов за ним так и осталось имя «Трус».
Все считали Труса никуда не годным, ну, разве только на племя из-за красоты. Учить Труса считали лишним. Только начальник питомника странно относился к Трусу. Начальник питомника сам учил Труса и тратил на него очень много времени, и если Труса не пугали, он работал просто на «отлично», и нюх у него был замечательный. Но стоило прикрикнуть или замахнуться на Труса, как он останавливался на месте, прижимался к земле и, дрожащий, жалкий, прекращал работу. Куда же это годится?
Начальник питомника, опытный дрессировщик и тонкий знаток собачьей психологии, не переставал трудиться над обучением Труса и всегда говорил о нем:
– Погодите, этот пес еще себя покажет. Только бы Джек (начальник никогда не называл пса его второй, позорной кличкой), только бы Джек попал в руки человека, который никогда не крикнет, не разозлится на беднягу, никогда не ударит его. Тогда Джек так полюбит своего проводника, как не любит ни одна наша собака. Этот пес еще покажет себя…
Начальник пользовался в питомнике большим авторитетом, но этому утверждению, по правде сказать, не особенно верили.
Когда Трусу исполнился год, в питомник прислали одного парня Григория Маркова. Марков был красноармеец молодой, но сразу занял в питомнике твердое положение. Парень он был немного странный – уж очень тихий, молчаливый и сдержанный. Никто толком не знал, что он за человек, но все чувствовали в нем большую внутреннюю силу. Марков умел мягко, осторожно высказывать свое мнение, и почему-то сразу с ним соглашались.
Животных Григорий любил просто со страстью. В питомнике было много отличных проводников, но Григорий, казалось, родился дрессировщиком.
Начальник питомника сразу обратил на Григория внимание. Они были в чем-то похожи, эти два человека, несмотря на огромную разницу. Ведь Григорий годился в сыновья начальнику. Кроме того, Григорий с трудом читал и писал, а начальник был хорошо образованным человеком. Но у обоих, если можно так выразиться, главной чертой характера была любовь к собакам, к животным. Оба проявляли в работе с собакой, в обучении и дрессировке такое бесконечное терпение, такую изобретательность, хитроумность, знание психологии собаки, что можно было только удивляться.
Начальник несколько раз подолгу разговаривал с Григорием Марковым. Оказалось, что Григорий приехал с Алтая. Его отец, большевик и партизан, был убит в самом конце гражданской войны, и мать, которая всю войну ездила за отрядом со своим маленьким сыном, осталась жить в алтайской деревне. Григорий стал пастухом. Он пас большое стадо и целыми месяцами жил один, переходя от пастбища к пастбищу.
Вот Григория начальник и прикомандировал к Трусу.
Целыми днями Марков возился с Трусом в самом отдаленном углу двора. Два месяца никто, кроме него, не подходил к собаке. А через два месяца Трус так привязался к Григорию, что все увидели, как прав был начальник питомника. Трус не отходил от Григория ни на шаг, не сводил с него глаз.
Только боязливым Трус оставался по-прежнему. Однако Григория он не боялся. Но Григорий никогда не повышал голоса, никогда не сердился на своего пса.
Начальник питомника был очень доволен.
Потом Марков получил звание проводника розыскной собаки и уехал с Трусом на пограничную заставу.
И на заставе относились к Трусу с пренебрежением, не верили в его возможности и дивились его любви к Григорию.
Но вскоре все поняли, что представлял собою Трус. Вот как это произошло.
Григорий обходил участок, и Трус был с ним. Леса Трус тоже боялся. Хрустнет где-нибудь ветка, или птица вспорхнет в кустах – Трус вздрагивал и прижимался к земле. А Григорий всегда его ласково уговаривал, тихо шептал ему что-то, и страх проходил у Труса. Он выпрямлялся и шел опять рядом с Григорием, не сводя с него глаз.
Была осень, лес был оранжевый, красный, желтый. Темная зелень хвои казалась черной на фоне яркого костра осенних листьев.
Все было спокойно и тихо в лесу. Вдруг Трус забеспокоился, заволновался, почуяв какой-то запах. Хвост собаки напряженно вытянулся, уши прижались к затылку, глаза сощурились внимательно и настороженно.
Григорий скомандовал Трусу искать. Недолго Трус покрутился на месте, потом нашел след и повел, повел к границе. Григорий побежал за собакой, с трудом продираясь через густой кустарник. А было это совсем рядом с границей, кустарник скоро кончился, и показалась лужайка. Пограничная проволока пересекала ее посредине. По лужайке к границе очень быстро бежал человек.
Григорий был крепкий парень. Он догнал человека, и оба покатились в траву, сцепившись руками. Трус в это время бегал вокруг и визжал от ужаса. Наверное, пес понимал, что человек этот враг, что он бьет Григория. Но Трус не решался вмешаться. Он поджимал хвост, дрожал всем телом и визжал.
Недолго боролся Григорий с нарушителем и уже почти одержал победу, когда глухо треснул выстрел. Трус в страхе откатился в сторону, остановился саженях в трех и, дрожа, обернулся к борющимся. Григорий лежал неподвижно на траве, а нарушитель с револьвером в руке стоял над ним, тяжело дыша, и потирал левой рукой шею.
И вот тут произошло нечто невероятное: Трус ощерился, зарычал и лязгнул зубами. Он бросился к нарушителю и прыгнул ему на грудь.
Правда, горла он не достал, – нарушитель держал руку на шее, и в руку-то Трус и вцепился. Тогда нарушитель ударил собаку рукояткой револьвера по голове. Трус отлетел в сторону, но удержался на ногах и снова кинулся к врагу. Нарушитель выстрелил. Он попал в собаку, но не убил ее: пуля только оглушила Труса, содрав большой кусок кожи между ушами.
Трус упал. Кровь залила его морду, и ему показалось, что все стало темным, как ночью.
Потом пес очнулся, облизал кровь, стекавшую по острой морде до носа, и встал на ноги. Григорий лежал неподвижно. Трус завыл над ним, по-волчьи задирая голову.
Дозорный пограничник услышал револьверные выстрелы в лесу и через некоторое время дикий и тоскливый вой. Дозорный прибежал на лужайку. Раненый проводник лежал в траве. Собаки нигде не было.
Дозорный вызвал помощь. Григория отнесли на заставу и привели в сознание.
А Трус так и исчез. Когда он понял, что его проводник не просыпается, не встает, ярость снова овладела им. Он дрожал всем телом, но не от страха, а от злобы.
След нарушителя был свежий, и Трус, нагнув голову, рыча и фыркая, перепрыгнул через изгородь на ту сторону границы. Он нигде не сбился. След привел его в деревню, к дому, возле которого стоял чужой солдат с винтовкой. Трус подбежал к двери, но солдат отпихнул его ударом ноги в живот. Трус снова упрямо пошел к двери. Солдат второй раз ударил его ногой и громко выругался. Тогда открылась дверь, и на крыльцо вышел молодой офицер. Офицер заговорил с солдатом. Слова были непохожи на русский язык.
Трус, опустив голову, стоял посреди дороги. С его головы капала кровь. Коричневые капельки серыми точками расползались в пыли.
Офицер подошел к Трусу и внимательно оглядел его. Потом он погладил Труса по спине. Трус боязливо косился на офицера. Рука офицера была одета в мягкую перчатку. Офицер взял собаку за ошейник и повел за собой. Трус не сопротивлялся, только хвост поджал и приложил уши. Он снова начал бояться, и, когда солдат шумно распахнул дверь перед ним и перед офицером, Трус вздрогнул и прижался к земле. Офицер опять погладил его и сказал что-то ласковое. Трус не понял странных слов.
Офицер отвел Труса в комнату. Комната пахла так же, как офицер, приятно и нежно, но запах щекотал ноздри. Трус чихнул, и сам испугался. Офицер отпустил ошейник, и пес забился в угол.
Офицер принес миску с вкусной, жирной похлебкой. Он придвинул миску к самому носу Труса, но Трус не стал есть. Офицер сел на корточки и долго говорил с собакой. Очевидно, он уговаривал Труса. Но Трус не притронулся к пище. Он только еще дальше забился в угол. Тогда офицер ушел, заперев дверь за собою на ключ.
Трус просидел в углу, не двигаясь с места, до поздней ночи. Кровь перестала идти из раны, но голова болела. Изредка Трус опускал голову и тихо скулил.
Поздно ночью офицер вошел в комнату и зажег свет. Он насвистывал веселую песенку. Проходя мимо Труса, он сказал ему что-то, засмеялся и щелкнул по носу. Трусу было больно, но он не пошевельнулся. Офицер удивленно посмотрел на собаку и пожал плечами. Потом он подошел к кровати, разделся, залез в постель и потушил свет. Заснул он сразу.
Прошел час, а может быть, и больше. Из-за облаков вышла луна, и комната наполнилась зеленым светом. Тогда Трус встал, осторожно разминая ноги, подошел к постели и долго смотрел на спящего офицера. Потом, крадучись, ступая по крашеным доскам пола, Трус подошел к миске и съел небольшой кусок мяса.
Офицер проснулся рано утром. Трус сидел в той же позе. Офицер оделся и вышел. Он запер Труса, и целый день в комнату никто не заходил. Трус лег и задремал. Сон его был неспокойный. Он часто ворчал и дергал лапами. К еде он больше не притрагивался.
Вечером опять пришел офицер, и вместе с ним пришел какой-то человек в штатском. Левая рука человека в штатском была забинтована.
Сначала, когда они вошли в комнату. Трус забился в свой угол. Но потом он выпрямился, вскочил и, выйдя на середину комнаты, стал напряженно нюхать воздух. Офицер и второй человек сидели за столом. Они разговаривали и не обращали на собаку внимания.
Вдруг Трус зарычал и кинулся на человека в штатском. Трус узнал в нем врага, ранившего Григория Маркова, и сразу страх пропал у Труса, и дикая злоба снова овладела им. Собака вцепилась бы врагу в горло, если бы не офицер. Офицер оказался сильным и ловким. Ударом камышовой трости, которая была у него в руках, он остановил прыжок зверя. Трус, визжа, отлетел в сторону. Второй человек вытащил револьвер и хотел пристрелить собаку, но офицер сказал ему что-то, и человек, недовольно ворча, опустил руку и спрятал оружие.
Офицер подошел к Трусу. Трус испуганно пополз в свой угол. Офицер крикнул на него, и Трус задрожал еще больше. Он совсем скорчился и зажмурил глаза.
Тогда офицер стал бить Труса. Он безжалостно бил его своей тростью и сапогами.
Человек в штатском посмотрел на часы и по-русски сказал: «Пора, нужно идти». Офицер бросил трость, отряхнул руки и надел фуражку. Он вышел вместе с человеком в штатском. Выходя, офицер потушил свет и запер дверь. Но окно осталось открытым.
Трус поднялся пошатываясь. Сильно болела голова. Палка офицера содрала засохшую корочку, и кровь снова пошла из раны.
Трус подошел к окну. Холодный ночной ветер пошевелил шерсть на его спине. Трус немного постоял неподвижно, тяжело дыша широко раскрытой пастью. Потом он вскочил на подоконник и бесшумно спрыгнул в сад.
Ночь была бурная, темная, и Труса никто не видел. Он побежал.
Инстинкт ли подсказал ему направление или помог случай, но через минут пять он увидел впереди двоих людей, быстро идущих по дороге. Трус узнал офицера и своего врага. Он не подходил близко, но не терял людей из виду. Тихо крался за ними по обочине дороги. Так голодные волки крадутся за лошадью, не нападая на нее вблизи жилья и не отставая ни на шаг.
Люди свернули с дороги и пошли лесом. Трус крался в пяти шагах от них. Если какая-нибудь ветка и хрустела под его мягкой лапой, то люди ничего не слыхали из-за ветра, шумевшего в листьях деревьев.
Так дошли они до лужайки, по которой шла граница. На другой стороне лужайки был ранен Григорий Марков.
Люди остановились. Пожав друг другу руки, они шепотом обменялись короткими фразами. В трех шагах от них, в чаще кустарника, два глаза блестели неподвижным желтым огнем.
Офицер повернулся и пошел обратно, а второй человек, низко пригнувшись, пробежал по лужайке на советскую сторону.
Тогда Трус понесся за ним. Длинными прыжками, вытягиваясь и сокращаясь, как тугая пружина, он догнал своего врага, без единого звука сделал последний огромный прыжок и вцепился человеку в затылок.
Ветер стонал в верхушках деревьев, скрипели, качаясь, стволы, и лес заглушал все звуки. Крик человека не был слышен.
Трус грыз шею врага. Вероятно, в первый раз в жизни он по-настоящему забыл страх. Он стал яростным и бесстрашным.
А человеку казалось, что сердце его разорвется от ужаса. Он не знал, кто вцепился в его спину, не видел, чьи зубы рвут его затылок. Он старался освободиться, и отчаяние во много раз увеличивало его силы. Ему удалось сбросить с себя Труса. Но собака сразу, не давая опомниться, кинулась на него. Теперь страшные зубы достали горло врага. Падая, человек вытащил револьвер. Он сунул дуло Трусу в живот. Глухо ударил выстрел, и пуля навылет пробила собаку.
Но Трус не разжал зубов. Последнее, что видел умирающий человек, были два круглых глаза, горящие человеческой ненавистью.
Трус долго лежал на трупе врага, не выпуская его горла.
Начало светать, когда пес попробовал подняться на ноги. Кровь лилась из его разорванного живота.
Идти он не мог.
Тогда он пополз. До пограничной заставы было не больше километра, но Трус полз это расстояние четыре часа.
Наконец часовой заметил полуживую собаку, ползком упорно двигавшуюся к заставе. Он узнал Труса, поднял его и принес на заставу. Забинтованный Григорий Марков заплакал, увидев Труса, а Трус лизал ему руки и скулил.
Все пограничники собрались в комнате, где он лежал. Он умирал. Кто-то хлопнул дверью, и Трус вздрогнул.
Так он и умер на руках Григория, дрожа от маленьких своих страхов.
1935
Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ ЯБЛОКИ ИЗ ДОМУ
Он спал, лежа на спине. Во сне он вздыхал и что-то невнятно бормотал, и его ресницы вздрагивали, будто он хотел открыть глаза и не мог. Лицо у него было усталое.
Анна осторожно встала.
Он зашевелился в постели. Анна пристально смотрела на него. Больше всего ей хотелось, чтобы он не проснулся. Только бы он не проснулся… Он тяжело вздохнул и не проснулся.
Анна бесшумно вышла из комнаты. В коридоре она надела юбку прямо на рубашку и распахнула дверь на крыльцо. Солнечные лучи ударили Анне в лицо, и она зажмурилась. Красные кружочки заплясали под закрытыми веками. Анна осторожно приоткрыла глаза и потянулась, раскинув руки и ладонями упираясь в узкую дверную раму.
Солнце только что показалось над вершинами гор. На желтом песке вкось лежали лиловые тени. Уже было жарко.
В тени возле серого глиняного дувала на корточках сидел проводник Джамболот. Он сидел неподвижно, как каменный, его узловатые руки лежали на коленях, и в правой руке он держал сыромятную плеть. Кончик плети едва вздрагивал, и это было единственное движение во всей фигуре Джамболота.
Анна знала – так Джамболот будет сидеть час, или два, или три. Сколько угодно. Может быть, он приехал еще ночью и сел так, на корточках, возле забора, и будет сидеть еще сколько угодно, пока не выйдет Забелин. Тогда Джамболот улыбнется, встанет и подойдет пожать руку Забелину. Он осторожно, как стеклянную, двумя руками возьмет ладонь Забелина, недолго подержит и отпустит с поклоном. «Ты звал меня, начальник?» – спросит Джамболот. «Да», – ответит Забелин. Потом они поговорят об охоте на волков или об охотничьих беркутах, или о ружьях и лошадях. Потом Джамболот будет долго и молча пить чай, а Забелин заведет патефон, и, пока Забелин будет ставить пластинки с русскими песнями, Джамболот будет старательно хлебать горячий чай и безучастно смотреть в окно, но когда Забелин поставит пластинку с дикой мелодией, непонятной и странной, Джамболот забудет о чае, и, чтобы лучше слушать, закроет глаза. Потом дежурный, нагибаясь, пройдет в узкую дверь и доложит, что лошади оседланы и люди готовы, и Забелин наденет ремни, и шашку и маузер. Проводник Джамболот и Забелин первыми выедут из ворот – Джамболот чуть-чуть позади, и несколько бойцов гуськом поедут за ними. Забелин вернется через три или четыре дня. Может быть, окруженные бойцами приедут какие-то незнакомые люди. Их под конвоем отправят в комендатуру. Может быть, кто-нибудь из бойцов будет ранен. Может быть, бойцы привезут убитых горных коз. Забелин на ходу обнимет Анну и сбросит ремни. Расстегнув воротник пыльной гимнастерки, он сядет пить чай и потом пойдет в баню вместе с бойцами…
Раньше Анна волновалась, когда Забелин уезжал, и ненавидела проводника Джамболота. Потом она привыкла к отъездам Забелина, и волнение стало привычным, но Джамболота она продолжала ненавидеть. Проводник Джамболот чувствовал это и платил Анне снисходительным презрением.
Когда Анна вышла на крыльцо, Джамболот сказал, не двигаясь и не поворачивая головы:
– Забелин спит, женщина?
– Спит Забелин. Спит. И еще долго будет спать. И тебе нечего делать здесь. Ступай прочь, старик!
Джамболот сидел не шевелясь. Он закрыл глаза и сказал негромко:
– Я не старик…
Анне ужасно хотелось обругать Джамболота, сказать ему что-нибудь очень неприятное. Анна знала, как Джамболот не любит, если его называют стариком.
– Старый черт, – сказала Анна и сжала кулаки, – старый черт…
Джамболот спокойно вздохнул.
В небе над острой скалой медленно кружился беркут. Анна посмотрела на него. Ей было тоскливо и скучно, и даже злиться ей не хотелось.
Желтый с лиловыми тенями песок, и серый потрескавшийся дувал, и острая скала за дувалом, и пустое небо, и неподвижная фигура Джамболота все это было знакомо, как скучный сон, который снится из ночи в ночь…
– Здравствуй, Джамболот.
Анна вздрогнула. Забелин, неслышно шагая босыми ногами, прошел мимо нее, слегка толкнув ее плечом.
Анна поежилась. Ей почему-то стало неприятно, что он коснулся ее.
Джамболот открыл глаза, улыбнулся, встал и подошел к Забелину. Двумя руками, осторожно, как стеклянную, он взял ладонь Забелина, недолго подержал и отпустил с поклоном.
Забелин пошел через двор к арыку. Ноги Забелина мягко погружались в сухой песок, и на песке оставались ямки. Белые завязки от подштанников болтались на щиколотках. Джамболот семенил следом.
Анна видела, как Забелин, широко расставив ноги, нагнулся над арыком и стал мыться. Джамболот опустился на корточки и что-то быстро и негромко говорил Забелину, качая головой и легонько стукая плетью по песку.
Забелин выпрямился. Вода стекала с его волос и рук. Песок возле него покрылся темными кружочками от капель воды. Джамболот тоже выпрямился.
Забелин что-то сказал, и Джамболот торопливо заковылял к воротам. Пыль клубилась под его кривыми ногами. Забелин позвал дежурного, и дежурный подбежал, придерживая шашку.
Анна повернулась и ушла в комнату. Она села на табуретку возле окна. Горы подымались сразу за окном. Груды бурой земли и коричневых камней лезли, громоздились друг на друга. Беркут все еще кружился в небе. По склону горы вкось пробегала тень огромной птицы.
Забелин вошел и обнял ее за плечи.
– Оставь… – сказала она и вскочила, будто ее сильно толкнули. Она сама удивилась злости, которая звучала в ее голосе, и повторила еще раз: – Оставь меня…
Забелин медленно опустил руки и отвернулся. Она знала, что он видит, как ей скучно и тоскливо, что он думает об этом все время. Он ничего не может сделать, и это мучает его.
– Мне надоело, – внятно и медленно сказала она. Она слушала, какой злой у нее голос. – Мне надоело жить здесь безвыездно. Мне скучно. Я соскучилась по… по моим родным.
Последние три слова она сказала неожиданно громко.
Она сначала сказала эти три слова и только потом поняла их смысл. Она даже улыбнулась.
– Я поеду домой. Хорошо? – Ей вдруг стало весело и легко и немножко жалко этого рослого человека с выцветшими волосами и с темной, сожженной солнцем кожей. – Хорошо? Я поеду ненадолго. Только повидаюсь со стариками и сразу вернусь. Ну, может быть, немножко задержусь дома. Немножко. Несколько дней. Там очень хорошо дома. Там яблоки теперь…
– Яблоки… – глухо сказал Забелин.
Яркий прямоугольник распахнутых дверей заслонила коренастая фигура дежурного.
– Лошади готовы, товарищ начальник, – сказал дежурный.
Сутуля спину, Забелин шагнул за перегородку.
Анна стояла посредине комнаты. Ей показалось, будто ноздри ее ощущают прохладный запах яблок.
Забелин вышел из-за перегородки. Шпоры звякнули, когда он пристегивал шашку. Вылинявшая, бледно-зеленая фуражка и гимнастерка с ремнями очень шли ему.
Анна подошла и положила руки ему на плечи.
– Я привезу тебе яблоки из дому, – сказала она и прижалась щекой к его груди.
От него сильно пахло лошадью и кожей ремней.
– До свидания, Анна, – сказал он. Голос у него был какой-то странный, будто внутри у него что-то раскололось. – Приезжай поскорей. Я буду очень… очень ждать тебя, Анна…
– До свидания, – сказала Анна и, помолчав, прибавила: – Я вернусь, конечно, очень скоро.
Она вышла за ворота, когда они уезжали – Забелин впереди, за ним проводник Джамболот и пятеро бойцов. Джамболот помахивал плетью в такт шагу лошади и весело раскачивался. Он всегда радовался, когда нужно было куда-нибудь ехать, все равно куда – лишь бы ехать. Забелин сидел в седле неподвижно. Его вороной жеребец горячился и приплясывал, а он сидел неподвижно и повод придерживал левой рукой. Один раз он повернул голову и посмотрел на заставу, и Анна помахала ему рукой. Ей все еще было очень весело.
Беркут плавал высоко в небе.
Два дня ушли на сборы, потому что пришлось стирать белье, – нужно же было оставить Забелину чистое белье, в дорогу тоже нужно белье.
Вещи Анна уложила в ковровые куржуны.
До города Анна ехала три дня верхом через горы. Коноводом с ней ехал красноармеец Симонян, молодой и красивый, такой чернобровый и стройный, почти мальчик. Две ночи ночевали в горах и по вечерам разводили костры, ели мясные консервы, разогретые на костре, и варили чай в котелке. Анне все время было очень весело, и она несколько раз заметила, что Симонян как-то по-особенному смотрит на нее. Его большие глаза блестели, и он мучительно краснел, когда Анна в упор глядела на него. Анне нравилось дразнить его, и она нарочно садилась совсем близко, а он вздрагивал и краснел. Когда они доехали до города, Анна крепко пожала руку Симоняна и поблагодарила его, а он покраснел и нахмурился, так что Анне даже стало немножко жалко его.
В поезде она ехала в купе с тремя мужчинами – двое было штатских и один военный летчик, капитан, – и за ней ужасно ухаживали все трое, но ей нравился по-настоящему только летчик. Вечером мимо окон вкось летели яркие искры, и звезды мерцали на черном, как копоть, небе; иногда казалось, будто искры и звезды – одно и то же. Анна и летчик стояли возле окна в коридоре. В коридоре никого, кроме них, не было. Вагон сильно раскачивался на ходу, дул сильный ветер и хлопали занавески на раскрытых окнах. Летчик стоял совсем рядом, почти обнимал Анну. Анна смотрела в окно и чувствовала, как летчик часто дышит. Они тихо разговаривали о каких-то ничего не значащих вещах. Анна даже не думала, о чем он спрашивал ее и что она отвечала. Анне было весело и немножко страшно, и ей очень нравился летчик. Он ей нравился все больше и больше, и она ни о чем не думала. Только после того как летчик вдруг отошел от нее и закурил папиросу, только после этого Анна сообразила, что он спрашивал ее, замужем ли она, и она ответила «да» и рассказала про Забелина. Летчик больше не подходил к окошку, где стояла Анна, и курил папиросу за папиросой и хмурился.
Потом пришли двое штатских из их купе, – они ходили в вагон-ресторан, а летчик и Анна не пошли, чтобы остаться вдвоем. Штатские принесли две бутылки вина, и сразу открыли вино, и начали пить за здоровье Анны, и наперебой ухаживали за ней, а летчик все еще хмурился, и Анна даже подумала – уж не обидела ли она его… Но летчик вдруг засмеялся и предложил выпить за здоровье пограничника – мужа Анны. Все выпили и попросили Анну рассказать про заставу и про Забелина, и Анна стала рассказывать. Наверное, получился интересный рассказ, потому что штатские и летчик сидели тихо и внимательно слушали. Поздно ночью стали укладываться спать. Мужчины вышли из купе, чтобы Анна могла раздеться. Она быстро разделась и легла.
Засыпая под стук колес, она думала о заставе, и многое ей показалось совсем другим, чем раньше, и многое было интересней и лучше, чем она думала, и, может быть, она даже немножко скучала по заставе… по «нашей заставе»… уже на четвертый день она скучала, правда, совсем немного, чуть-чуть…