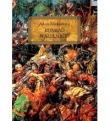Текст книги "Polska"
Автор книги: Лев Сокольников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
В промежутках между взятием крови кормили лекарствами и харчами, да так часто, что я отказывался принимать пищу. По иному ответить на вопрос паскудной "Учётной карточки претендента на компенсацию": "производились над вами псевдомедицинские опыты?" хотелось бы так:
– Да, производились! В польском католическом госпитале! Тамошние медики думали и гадали, глядя на меня: выживет этот "плод советской социалистической системы с востока", или его всё же придётся закопать в польской земле? Кормить его, или не стОит переводить корм в дерьмо его утробой в столь трудные времена? Но оказалось, что если бы кто-то поставил, как в тотализаторе, на мою смерть, то он бы крепко разорился!
Лекарства принимал без принуждений и просьб только потому, что это были маленькие порции: что там глотать? А вот с обычным пропитанием дело обстояло хуже: у меня отсутствовал аппетит.
Ничего не знаю из того, как протекает тиф, но примитивно думаю так: аппетит отсутствовал потому, что свалился я на званом обеде. "Переел". Как сказали бы медики: "больной получил стойкую неприязнь к пище в результате эмоционального перевозбуждения + инфекция". О прошлых отказах от пищи в госпитале жалею сегодня: верю, что милые и настоящие медработники госпиталя, работники "от Бога", да пребудут их души в мире и покое, пытались скормить моему телу самые лучшие куски польской кухни оккупационного времени! Эта гнусность, то есть я, на те времена лучшей оценки для себя просто не существует, не могла жрать из-за отсутствия аппетита! Хотя, что говорю? Чем особенным могли кормить меня в госпитале? В оккупацию? Где и чего возьмёшь в занятой врагами Польше?
Э, нет, всё было не так, и в этом я в скорости убедился! Поляки, поляки! На вашем знамени должен быть изображён не "бялый пяст", а сфинкс! Вечный, неуничтожимый сфинкс! Или саламандра, которая, как известно, не горит в огне. На выбор.
В палате нас было трое. По причине прошлого беспамятства сегодня не могу сказать, кто тогда первым из нашей детской "троицы" попал в лечебное учреждение. Но, думаю, что "старожилкой" была польская девочка моих лет. Красивая девочка, как водится в Польше, стриженая наголо и в платочке. Она и стриженной оставалась прекрасной, не потеряла красоты. Не имея сил оторвать голову от больничной подушки, я тут же в неё влюбился. Сегодня страшно жалею, что не узнал её имени тогда! Хотя бы имя!
Нужно ли влюбляться подыхающим от тифа мальчикам в точно таких же, тифозных, девочек? Нужно, обязательно нужно, необходимо влюбляться потому, что та польская девочка прошла черту "кризиса в болезни" и шла на поправку и была для меня путеводной звездой. Так и тянет сказать чужую, и совсем не фантастическую мысль о том, что "только любовь нас держит на земле"! Приятно делать открытия, даже если они рождаются в конце земного пребывания нашего…
Третьим был мальчик моложе меня года на два, на три. Он постоянно ныл и обделывался, за что его мягко бранили нянечки. Их брань и "бранью" назвать было нельзя, это и на ругань не походило. Удивительные работники госпиталя не умели ругаться, а за них юного засранца ругал я. Но не только ругал: ночью, качаясь от слабости, рвался подать ему горшок: мне как-то хотелось помочь нянечкам. Или я чем-то нагнал на того дохляка страху, или он и сам понял, что вываливать на белоснежные простыни содержимое прямой кишки – верх подлости, или болезнь и от него стала уходить, но дело в "нашей" палате пошло лучше и замечаний в сой адрес он перестал получать…
Только сегодня "дошло": я мог напугать того, ещё большего дохляка, чем сам, русской речью. Но это только мой домысел, всё могло быть совсем не так.
Богат русский язык! Сказать на женщину, коя безропотно и постоянно оказывает помощь "нянька" – язык не повернётся: она же за тобой ходит! Следит, чтобы ты не упал, и надо быть необыкновенно большой сволочью, чтобы сказать на неё "нянька!" Нет, только НЯНЕЧКИ, и не меньше! Удивительные, героические, святые нянечки польского госпиталя в чёрных и длинных платьях с широкими белыми головными уборами! Зачем вам, пани, такая красота на головах ваших!? Вы и без них прекрасны! Много позже, из зарубежных фильмов, стало понятно, что одеяние женщин в госпитале – одеяние католических монахинь. С какой задержкой иногда приходит ясность! Мог я тогда знать, женщины какого ордена вытаскивали меня с "того света"? Служители госпиталя, исполняя заповеди Господа, спасали всех страждущих, кем бы они ни были. И очень важный вопрос: кто дал команду отправить меня, а после и сестру, в госпиталь? Комендант? Если так, то на кой чёрт ему это нужно было? Если я не отправился к праотцам в первую тифозную ночь, то во вторую ночь каменный жёрнов непременно бы переехал меня. Такого "наезда" я бы не выдержал! Окочурился бы ещё один схизмат, ну, так что с того!? Чего переживать, время такое!
Знал комендант, что будет расстрелян, как "предатель польского народа"? Знал он, что я замолвлю о нём хорошее слово только через шестьдесят лет и не раньше?
И опять наваливается нерешённый вопрос: кто-то проклинает начальника лагеря, а я молюсь за его душу! Так, может, и меня следует "поставить к стенке"!?
Вся последующая советская жизнь не позволяла приехать в польский город Люблин. Отыскать госпиталь, увитый от земли до крыши плющом и поклониться до земли его служительницам и служителям. Однажды, при воспоминаниях о "тифозных" днях, как-то появилась "дополнительная", к основной теме не относящаяся, мысль: как и почему приходят служить Богу? От страха перед "тем светом", или от любви к людям?
Монахини госпиталя ничего не боялись. Любили меня, дохлого и тифозного, и такую любовь, без единого слова, мысленно, на уровне душ, внушили, что и я должен подать горшок ещё большему, чем сам, страдальцу. Каюсь: был нетерпим к слабости младшего засранца в палате, но эта нетерпимость, как ни странно, делала меня выносливее. Всё очень просто: если ты кого-то порицаешь за слабость, то в таком случае будь сам сильным! Забудь о своей слабости! Как всё удивительно устроено в этом мире! Благодарен тому юному засранцу: он своей слабостью поднимал меня, заставлял двигаться, укреплял и делал сильнее! Вдохновлял на совершение добра! Всё верно: в палатах с тяжёлыми больными рядом нужно класть таких, кто сам недавно встал на ноги. Чем скорее поднимешься с "одра болезни" – тем скорее выйдешь на "своих двоих" из лечебного учреждения, и каким путём ты к этому придёшь – не важно.
А слабость была страшная: более минуты я не мог держаться на ногах, тянуло перейти в горизонтальное положение и упасть где угодно, и на что придётся! Хоть на острые камни!
Польский мальчик! Сегодня мы с тобой старые. Прости точно такого же мальчика из России, если он тебя поносил плохими словами в прекрасные времена лечения в госпитале! Прости соседа по палате в католическом госпитале твоего города: нам пора собираться в вечность. Мы с тобой родственники уже потому, что оба были "тифозниками", и только одного этого обстоятельства для родства вполне хватает.
Я не оговорился: дни лечения в госпитале были прекрасными!
Работники госпиталя отогнали смерть, и я поправлялся. В который раз?
Не могу сказать, в какую ночь пребывания в святой обители, почему-то проснулся. Такого ранее не было, и все прошлые ночи я спал, "как убитый". Но сейчас лежал с открытыми глазами, и они у меня были такими, будто и не спал. Такое бывало и раньше, и знал, что "взбодрить" меня мог только гул авиационных моторов! Только работающие авиационные моторы за доли секунды придавали "бодрость" моим глазам, какими бы сонными они до этого не были! Ночь для всех была тихой, причины для тревоги отсутствовали, и только этот дохлый русский "прибор" зафиксировал далёкий гул авиационных моторов. Или он проснулся, чтобы справить малую нужду? Да, нет, на горшок не хотелось… Тогда что!? Лежал на спине, не спал и слушал ночь.
Великий дар, или искусство: уметь слушать ночь? Этому в войну обучились очень многие и быстро. Насколько – сказать не могу, таким "даром" война всех, кому было больше пяти лет, одаривала. Короче: чем моложе был обучаемый – тем лучше он усваивал "уроки войны"
Слух как работает? Ударили тебя по перепонкам децибелами взрыва какого-либо устройства с начинкой из тротила – ты что-то понял и запомнил, нет ударов – нет и волнений. Но если напрячь слух? Если усилием переключиться на "прослушку" далёкого и главного "голоса войны" – работы авиационных моторов? Их звуки слышал в любом состоянии и в любое время суток. Сегодня думается, что сознанием я тогда не отключался ни на секунду от "родных и любимых" звуков, не забывал их. "Мирных и добрых" звуков. Вот он, незабываемый, с натугой работающих, гул авиационных моторов! Здравствуй, родной! Я был тоньше на них настроен, чем служительницы госпиталя: они появились в палате тогда, когда для меня авиационные моторы во всю гудели! Нянечек было трое, они нас вытаскивали из тёплых кроватей, кутали в одеяла, повторяя при этом много раз непонятные слова:
– Иезус Кристус! Матка Боска Ченстоховска! – слова-то я запомнил, а вот что это были за слова – выяснил только в тридцать лет. Какой я умный!
Нового ничего не открою, если скажу, что все недоразумения между людьми разных стран происходят от незнания языка. При следующих налётах родной советской авиации всячески пытался объяснить святым женщинам, что весь этот авиационный шум не стоит того, чтобы я менял тёплую и чистую постель на простое одеяло и прохладный громадный подвал под госпиталем. Не мог объяснить святым женщинам, что свою порцию бомбовой "благодати" я получил в другом месте, не "разумел польской мови", поэтому и не мог сказать, что бомбы не имеют привычки дважды падать на одну цель. А сели так, то и святая обитель, коя вытащила меня с "того света", не получит ни единого устройства с начинкой из тротила: я в ней нахожусь! Место святое, доброе, так почему оно должно страдать!? Не упадёт ни единая бомба на обитель сию! – не мог я так говорить и думать тогда, но почему-то ничего не боялся! Скромный русский мальчик попал к ним на излечение, правда?
Нас разделял извечный "языковый барьер", и все мои попытки отказаться от спасения в подвале заканчивались стандартно: не желая прислушиваться к просьбам "оставить меня в покое", милые женщины заворачивали меня в одеяло и транспортировали под своды крепкого подземного устройства, по прочности не худшее, чем бункеры вождей воюющих армий.
Святые, милые и дорогие люди, да будет вашим душам вечный покой! Вы не знали, что у тифозного русского мальчика имелся богатый опыт "общения" с авиациями двух стран и он, по терминологии его народа, был на тот момент "битым" Вот почему он так упорно отказывался от спасения в подвале. Не мог он объяснить женщинам и то, что при толщине стен госпиталя в один метр, или более того, любая бомба советского изготовления, даже в двести пятьдесят килограммов "в тротиловом эквиваленте", оказалась бы бессильной! Никакого вреда госпиталю причинить она не смогла бы! Тем более, что бомбы такого веса никто не бросал на польский город Люблин одноименного воеводства во время освобождения его от оккупантов.
Глава 20. «Ностальжи».
Эх, какие всё же это были прекрасные времена! Если бы я был настоящим писателем, то непременно написал бы так: «времена, прекрасные своим ужасом». Но это нелепица, ужас никогда не был прекрасен, и впредь таковым не будет. «Ностальжи» у меня по каждому ушедшему дню того времени! С какого возраста «ностальгия» начинает посещать людей – такой момент своей жизни надёжно прозевал. Осталось только погружаться в «глубины памяти» в надежде отыскать заветные линии с названием «до» и «после» Ничего не могу сказать о том, у какого количества соотечественников жизнь исписана линиями «ностальгия»
Временами благодарю ОРТ: оно показывает сегодняшние бомбометания. Когда их вижу, то прошлые мои бомбометания кажутся пустяковыми, несерьёзными. Ну, как же! Грош цена всем прошлым налётам! Так, мелочь, ерунда в сравнении с налётами сегодняшними. Такой дохляк, как я, абсолютно ничего не понимающий в разрушительной силе бомб, всё же был твёрдо уверен, что стены его католического госпиталя способны выстоять против налёта любой авиации. Всё изменилось: заявлять что-то подобное о сегодняшних устройствах "подавления противника" не стану.
Всегда говорил, и ныне менять "показания" не собираюсь: главное в любых бомбометаниях – это не перепутать танк серба с трактором албанца. Или наоборот. Но и в этом вины пилотов Luftstreitkraфт нет, и так понятно, что ребята ошиблись. Да и то: ну, какое удовольствие тому же пилоту запускать бомбу с лазерным наведением на пустой мост через Дунай? Вот если по нему идёт поезд – это да, это почти что компьютерная игра, только на большом экране. Сплошное удовольствие! Да и опять-таки: нашли время разъезжать! Война идёт, а они катаются самым нахальным образом без страха и волнения! Не дело!
В юные времена сверхточных средств уничтожения всего и вся, таких, как сегодня, не было, а если бы они имелись, то война была бы намного короче и проще: стоит пустить всего по одному сверхточному устройству в покои "вождей" – и конец войне!
Нынешняя война в доме братского нам народа непонятна: когда она начиналась, то в "несчастных" значились только албанцы, но когда в свару влезло более дюжины "разнимающих миротворцев", то албанцы стали ещё несчастнее: их стали бить со всех сторон. "По ошибке"
Да здравствует Северо-Антлантический Союз! Да здравствует война во имя справедливости! Какой и чьей "справедливости" – неважно.
Глава 21. Вишни. («Склянки»)
Ночь с тифозными жерновами, что пытались меня переехать, была единственной, а ночей с налётами авиации – не перечесть.
Ночи с налётами были неинтересными, однообразными приевшимися и скучными, не впечатляющими так, как одна ночь с жерновами.
Сегодня отличить прошлые ночи одну от другой не смогу: все они были несерьёзные. Новая "серия" налётов, теперь уже на польской земле, была слабее прежних и не впечатляла. Пустяковые были налёты, мелочные, какие-то шутейные. Или мне так казалось? А если "да", то почему я не испытывал страх?
Семейная традиция "быть всем вместе при налётах любой авиации" выполнялась строго. Госпиталь нарушил "традицию" и был единственным местом за всю войну, где две, или три бомбёжки я провёл в обществе не родни, а в руках служительниц госпиталя.
Как-то пришёл отец и принёс два больших кулька: в одном была черешня, а в другом – вишня. Или я путаю? Забыл?
Скажите, панове, в Полонии может наложиться конец сезона черешни на начало созревания вишни? Могло быть такое: не "прошла" черешня, уже стала созревать вишня? Откуда у отца были два кулька? Фантастика какая-то! Много лет не брался за рассказ о днях в Польше только по этой причине: боялся обвинения в "необузданной фантазии"! Боялся соединить польские вишни с черешней и быть обвинённым в клевете! Если человек соврал в одном эпизоде, то стоит ли ему верить в других? Меня вдохновляет на сегодняшний рассказ о тех временах торговля во многих магазинах нашего города замороженными овощами из Польши Полония, твои пакеты с овощами очень вдохновили и разгрузили от сомнений:
– "Кто их знает, этих поляков! А вдруг они способны на такое!? Они мастера в производстве ягод и овощей! Польша славится такими продуктами, они их поставляют всем желающим круглый год! Ни в космосе они не преуспела, ни атомных реакторов не сделали, а, поди, ж ты! И армия у них всегда была слабее моей, а вот вишня… Не пора ли и нам менять армию на вишни?"
А тогда вишни показались кислыми, и я отдал их красивой польской девочке. Пани, вы живы? Не знаю вашего имени, но вы тогда "запали" и и я вас полюбил без имени. "Подруга по несчастью", или пример "силы жизни": каких-то пять дней тому назад этот малый метался в тифозном бреду, уворачиваясь от накатов громадных мельничных жерновов, а сегодня он влюбился в польскую девочку настолько, что не пожалел для неё кулька "склянок"!
Если бы я был как-то связан с миром кино, то непременно сделал бы маленький фильм о трёх тифозных детях в палате госпиталя неизвестного мне католического ордена и о кульке вишни. Только вишня и была бы в кадре потому, что "реквизит" с названием "черешня" я сожрал сам! Только этот позорный факт биографии удерживал меня от влезания в кинематограф. Как снимать эпизод с черешней? Чего снимать черешню, если она была съедена? Почему тогда не поделился черешней с красивой польской девочкой Ядвигой? Так вас зовут, пани? Не знаю, но, скорее всего, что я не дал ей ни одной ягодки! Вот она, цена любви: всего один кулёк вишни! Ах, пани, я готов искупить прошлый грех, только скажите, чем и как!? Какими дарами сегодня я могу, хотя бы как-то, загладить прошлый грех перед вами?
А ты, милая девочка, где и как подцепила тиф? Какая паскудная вошь тебя укусила? Не из тех ли вшей, что имелись в изобилии за пазухой перемещённых лиц с востока? Могла нас свалить одна и та же вошь? Фантастика, правда?
Знаешь, а всё же какая-то прелесть просматривается в нашем тифе! Спасибо неизвестной тифозной вше – она устроила нам встречу! Тебя и до сего дня помню и люблю. Разве за такой подарок, как ты, можно ругать вошь? Если бы она не совершила подлое дело и не заразила меня тифом, то я бы никогда не побывал в госпитале и не увидел рая на земле. И был бы уверен, что католические монахини только тем и занимаются, что молятся о себе! И сегодня готов подвергнуться укусу той вши, но с одним условием: вновь попасть в тот госпиталь и увидеть тебя, Язя! И чтобы твоя койка стояла наискосок от моей! И судно тебе подавать буду, какой бы ты не была старой: польские женщины и в старости не теряют красоты. Прости за прошлое! Если бы только одних вшей я привёз в Польшу с востока! А сколько других "удовольствий" мы потом на вас свалили!? Вы свою послевоенную историю хорошо помните? На "пять с плюсом"? Но не будем о грустном.
Почему влюбился в тебя, Язенька? Не потому ли, что остался жить? От радости? Не потому ли, что избежав встречи с жерновами на полу барака необыкновенно сильно хочется любить? Не потому ли влюбился в тебя, что оказался в раю? А как, находясь в раю, не влюбиться!? На то он и рай! Волнует и занимает "библейский" вопрос: Адам полюбил Еву в раю, или позже, после "грехопадения"?
Закончу главу о ягодах: со времени того званого обеда в доме пана инженера и до сего дня не ем клубнику. Будь она любого, редчайшего сорта и вкуса, размера и спелости. Ни со сливками, ни без них. Ничем не могу объяснить такое равнодушие к прекрасным и любимыми всеми ягодам, но одно объяснение всё же есть: боюсь "возвратного тифа". Медики говорят, что такое мне не грозит абсолютно, у меня в крови даже специальные антитела имеются, и я смело могу входить в тифозные бараки без страха и сомнений. И всё же за весь "клубничный" сезон могу съесть плодов пять-десять, но очень спелых и крупных. Когда я ем эти крохи, то никакого удовольствия, а тем более восторга и наслаждения от ягод не испытываю. Нет восторга в душе! Многие не могут понять такое моё равнодушие к столь распространённому и любимому народом продукту, а я не даю разъяснений. Зачем? – и таким образом не пускаю всех в свою польскую "клубничную" тайну.
Ну, не любит человек клубнику – и всё! Может, у него аллергия на неё? А тогда сливки к клубнике на обеде у пана инженера подавали взбитыми…
…Ядвига, Язя, Язенька, пусть мне будет плохо, пусть тиф возвратится в моё старческое тело, но если ты будешь рядом – готов слопать корзину недозревшей клубники с одним условием: чтобы ты была рядом со мной!! И пусть потом происходит всё, что угодно!
Люблю вишню, но черешня идёт впереди вишни. Всегда. Черешня в наших местах не созревает, её к нам привозят с юга, а привозная черешня не по карману. В память о Полонии могу позволить половину килограмма за сезон, и такие встречи с черешней всегда уносят меня в католический госпиталь города Люблина. При виде черешни в мозгу открывается отдел памяти ответственный за всё, что было прекрасного в госпитале в момент возвращения к жизни. Вишня и черешня с той поры для меня стали волшебными: "ягоды жизни", не меньше. И сегодня, при встрече с черешней на рынке, вспоминаю женщин неизвестного католического ордена, что вытаскивали меня их лап тифа и лысую польскую девочку в платочке. Почему-то думается, что её имя всё же "Ядвига", пани Язя, но каким бы не было её имя – её головка, даже и без единого волоска, остаётся для меня прекрасной!
Глава 22. Служители Господу.
Сегодня наши монастыри возрождаются, выходят «из мерзости запустения». Не все и не в раз, с трудом и со скандалами. По моим, дилетантским представлениям, для полного торжества монашествующих в отечестве нашем потребуется не менее половины сотни лет,
Есть опасение: за срок в половину века в наши головы может вернуться, как прежде, фантазия о "продолжении строительства коммунизма в отдельно взятой…". Могут в монастырях "по второму заходу" заработать пивзаводы, или молокозаводы? Вполне! Это мы умеем, нам такое знакомо.
Что такое наше, отечественное, монашество? Моё, и, стало быть, непросвещенное суждение, может быть ошибочным: это уход из мира и молитвы за всех, кто остаётся в "мире". Много это, или мало?
Монахини католического госпиталя служили Богу тем, что возвращали к жизни таких дохляков, как я, а это больше, чем только одни молитвы о спасении своей души. Женщины католического ордена спасали меня для будущей мирской жизни и в этом их отличие от православного монашества. Если я усмотрю что-то дополнительное, говорящее в пользу нашего монашества против католического ордена – тут же, не медля, сделаю заявление об этом.
Подвиги, что были совершены когда-то русским монашеством, пытаюсь принизить эпизодом собственного спасения, полученным из рук извечных противников православия: католиков. В самом деле, как можно уравнивать отечественное "святое, великое и древнее" монашество с чужим и чужим и малым католическим? Нельзя такое делать, но в том случае, если бы не стоял вопрос о моей жизни. "Плоды наивной памяти моей":
"почему в России произошёл переворот 17 года? Что, российские монахи плохо, не искренне, молилось богу? Как понимать иначе то, что случилось? Если на шею глупого народа сели недоучившиеся юристы-семинаристы и по совместительству "вожди", кои пустили войну на мою землю в сорок первом, если и после 41 года одиннадцать лет продолжалось правление "вождя, отца и друга народа"? Если были искренние слёзы по его кончине? Если и до сего времени часть граждан отечества мечтают о памятниках "вождю и спасителю народному"? Что можно сказать об этом? Только одно:
– Мы потому бессмертны, что неизлечимы! Что нам смерть!?
Католические монахини молились, молитвы услышаны свыше, и ни одна бомба не упала на госпиталь, где я болел с удовольствием и где "житие мое" было "райским"!
– Пани! Души ваши велики и прекрасны, и не устану поминать вас добрыми словами! Но прошу дать разумение: когда вы просили Высшие Силы отвести советские бомбы от госпиталя, где лежал я, то эти бомбы всё едино куда-то падали? Так? На тех, кто не менее горячо, чем вы, молились небу? Кто менял траекторию выпущенной с советского самолёта бомбы? И как? И было ли такое явление вообще? Или советские бомбы сваливались на головы других молящихся и убивали их? В чём дело!? На такие моменты полностью не работала заповедь "Не убий"? Что, христовы заповеди отключаются на время "выяснения отношений"? Католический священник просил небеса "даровать победу оружию наших воинов", а православный – своему?
Глава 23. Возвращение к жизни.
Победа над тифом была «полной и окончательной». Жизни ничего не угрожало и по представлениям родителей, и моё «валяние дурака» в госпитале следовало прекратить. Если бы тиф свали в иное время, не военное, то европейская медицина в лице тамошних медиков не позволила бы взять меня из госпиталя:
– Больной слишком слаб! Он на ногах плохо держится! – идёт война и её буйство вот-вот будет здесь, а посему медицинские мерки мирного времени не годились.
У родителей были основания забрать меня из госпиталя: восток погромыхивал громче и чаще, и славный город Люблин не сегодня-завтра мог увидеть другое правление… В такое время лучше быть всем вместе.
Людей всегда терзала неизвестность о родичах: если бы мы уходим "в мир иной" на глазах у родителей, то горе бывает не столь ужасным, как наша смерть в безвестности. Мучает и заставляет страдать необъяснимое любопытство:
– Я знаю, как он умер… – но остановить смерть близкого человека ещё никому не удалось. И до сего дня неизвестность о близких людях тяжелее, чем известия об их гибели. Поэтому и существует такой обман, как "могила неизвестного солдата".
И снова проклятый провал в памяти: мало чего помню из того, как покидал святую обитель! Не помню выхода из здания, увитого плющом, не помню, кто меня провожал. Но помню красивый парадный выход и массивную каменную плиту перед входной дверью. Может, там её и не было? Фантазирую? Стоит ли прибегать к гипнозу для выяснения столь малой подробности? Ненужной?
Но в памяти остался вечный и любимый, неизвестно какой по счёту, эпизод ещё одной разминки со смертью. Было так: из госпиталя почему-то вывозила мать. Почему она пришла мать, а не отец – не могу сказать. Помню момент, когда кто-то из медперсонала госпиталя вынес меня на руках и усадил в тележку. Да, мать явилась с тележкой, и сей простой экипаж был "подан" ко входу в госпиталь. Теперь понятно, почему забыл о провожавших женщинах госпиталя: внимание занял "экипаж". Им любовался. Двухосная тележка с ручкой для тяги служила для чего-то иного, но никак не для вывоза из польского госпиталя русского "хлопака". Она могла быть транспортом для развоза молока, или зелени, или в ней возили навоз. Но откуда в городе взяться коровам и, соответственно, навозу?
Если тележки одноколёсные можно перемещать как толканием, так и тягой, то мой "экипаж" перемещался "тягой вперёд". "Транспортное средство" мать одолжила у кого-то из жителей окрестных домов, но как она такое сделала, не зная ни единого польского слова – не представляю. Остаётся одно: поляки, у кого мать взяла на прокат транспорт, знали русский язык. Иного объяснения нет.
Объяснила мать владельцам транспортного средства, что оно нужно для перевозки посттифозного сынка девяти лет от роду и малого веса? И что тележка никак не пострадает от перегруза?
Улица была выложена булыжником, и от передвижения по ней меня трясло и мотало в "кабриолете" Как и почему тогда не отвалилась моя плохо державшаяся голова – этого и до сего дня понять не могу.
Улицу, которою нам нужно было пересечь, чтобы попасть в лагерь, "дом родной", была забита отходящими войсками непонятно во что одетыми. Это были не немцы, форму солдат Вермахта я знал, это были люди одетые в другую форму. Какое-то время мать пережидала поток в надежде дождаться "окна" и проскочить через него в лагерь.
Женщина! Статистика дорожных происшествий во все времена и у всех народов в большинстве своём заполнялась несчастными случаями с участиями женщин в основе. Раздел: "наезд транспорта на пешеходов". И тогда мать чуть-чуть не пополнила грустную статистику: когда она посчитала, что через дорогу можно перебраться, то откуда не возьмись, появилась летящая фура, окрашенная в зелёную армейскую краску и запряжённая парой коней! В фуре стоял солдат в непонятной форме и правил транспортом. Помимо возницы в фуре был ещё кто-то. До встречи с вечностью, а может только с инвалидностью для кого-то из нас двоих, оставалось совсем немного.
По улице, через которую нужно было перейти, до оккупации Люблина бегал трамвай. Война лишила жителей города самого дешёвого и демократического вида транспорта. Колея туда, колея – обратно, между колеями – столбы. На столбах когда-то висел провод и по нему передавался ток на моторы вагонов. Трамвай – он и в Польше трамвай, всё в трамваях одинаково…кроме столбов. Прочных, надёжных польских литых из чугуна столбов, за один из которых мать тогда и спрятала тележку с дохлым телом сынка. Тележку с "пассажиром" она так поставила, что если бы наездник в фуре вздумал сокрушить помеху на пути движения, то ему нужно было наехать на столб. Тогда бы столб мог упасть на меня, и все недавние усилия медиков католического госпиталя были бы напрасны. Обида-то, какая!
Возница отвернул. Не дурак он был всё же! Если люди и бывают дураками в подобных ситуациях, то животные исправляют наши ошибки. Вот и тогда кони сами не захотели встречаться со столбом! Если бы я был профессиональным писателем, а не любителем-самоучкой, то в этом месте о себе написал так: "он много раз смотрел смерти в глаза, но более наглых глаз возницы в тот момент, ему прежде не приходилось видеть"
Кто были отступающие воины в странной форме? Калмыки, и об этом стало известно через годы. Может, к лучшему? Что с того, если бы тогда кто-то объяснил, что фура с калмыками могла прервать возвратившуюся в меня жизнь?
Глава 23. «Исход», а какой по счёту – трудно сказать.
Слабость, слабость, проклятая тифозная, слабость медленно покидала тело! Упиралась, сопротивлялась, совсем, как война! Но уходила…
Ничего не могу сказать о том, когда заболела старшая сестра. И её поместили в тот католический госпиталь, и уложили на ту кровать, где лежал я. И её возвращали к жизни славные польские медики. Кто они?
Должен сказать, что мой и сестры организмы – "один к одному". Мы появились в свет с разницей в четыре года, но все болячки у нас одинаковы. Не было такой заразы, коей мы не делились "по-братски". Нам нужно было родиться двойняшками, но почему такое не случилось – знать не дано. Мы ухитрялись болеть такими болезнями, коими и делиться было невозможно. Но такое выяснилось с возрастом, а тогда, или из "солидарности", или от нежелания отставать от меня, но и сестра захотела испытать прелести тифозного бреда. При тифе только чистая постель и уход представляют интерес, а всё остальное – ерунда, мелочь. Если бы кто-то сказал в самом начале болезни, что ожидает чистая постель и внимание святых, добрых женщин в госпитале, то все ужасы от наезда жерновов в моём бреду были бы на половину меньше!
Истинные католички носили нас, детей, в подвал спасться от налётов советской авиации, а лагерь разбегался. Пустел. Но странно: оставалась малая часть народа, кои никуда не спешили. Сидели в бараках и чего-то ждали.
Сколько мы пробыли в опустевшем лагере – не помню, но о том, как кто-то из "перемещённых лиц" сказал:
– Малого пивом поить нужно… Быстро оклемается и вес набёрёт! – совет исходил явно не от женщины.