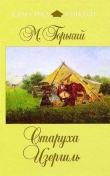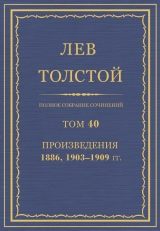
Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 40"
Автор книги: Лев Толстой
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
1
Удивительно, что при всей гордости, которой мы надуты, при всем высоком мнении о своем суждении мы пренебрегаем последним, когда приходится высказать свое мнение о достоинствах какого-нибудь человека: нас увлекает, как поток, мода, популярность того или другого лица или расположение к нему короля. Мы гораздо больше хвалим то, что расхвалили другие, чем то, что достойно похвалы.
2
Людям не легко понравиться друг другу, они мало склонны хвалить друг друга: поступки, поведение, мысли, выражение других – им ничего не нравится, их ничто не удовлетворяет; на место того, о чем им рассказывают или о чем читают они, они представляют то, что сами сделали бы в подобных обстоятельствах, что сами думали бы или написали бы; у них так много собственных мыслей, что для чужих не хватает места.
3
«Нужно поступать, как другие» – правило подозрительное, оно почти всегда означает, что нужно поступать дурно, лишь только его распространяют за пределы чисто внешнего, не имеющего важности и зависящего от обычая, моды или приличий.
4
Если бы люди были не столько медведями или пантерами, сколько людьми, если б они поступали по правде, сами себя судили бы и оказывали справедливость по отношению к другим, то чтó сталось бы тогда с законами, с их текстом и с чудовищным накоплением толкований к нему? Что сталось бы с тяжбами о праве собственности, о правах на владение, со всею так называемою юриспруденцией? Куда девались бы те, которые всем своим блеском и гордостью обязаны полученной ими власти поддерживать силу этих самых законов?
Если бы люди были прямодушны, искренны и освободились от предубеждений, куда девались бы тогда школьные диспуты, схоластика и словопрения? Если бы они были воздержны, целомудренны и умеренны, на что нужен был бы этот таинственный жаргон медицины, служащий золотым рудником для тех, которым вздумается говорить на нем? Что было бы с вами, законоведы, ученые, лекаря, если бы все мы могли бы дать себе слово быть благоразумными!
Без скольких великих людей в различных мирных занятиях и военных делах можно было бы обойтись! До какого совершенства и утонченности доведены теперь иные искусства и науки, которые вовсе не должны бы быть необходимыми, но которые существуют в мире, как средство против тех бедствий, единственный источник, которых – наша склонность ко злу!
5
Положение актеров у римлян считалось позорным, у греков почетным, а у нас? У нас о них думают, как римляне, а живут с ними, как греки.
6
Языки – это вход или ключ к литературе, и только. Пренебрежительное отношение к ним падает на последнюю. Дело не в том, древние или новые, мертвые или живые языки изучаем мы, а в том, хороши или дурны книги, написанные на этих языках. Предположим, что наш язык испытает когда-нибудь участь греческого и латинского: будет ли когда-нибудь педантством (сколько бы веков ни прошло с тех пор, как перестанут говорить по-французски) читать Мольера и Лафонтена?
7
Предубеждение, соединенное с национальной спесью, заставляет нас забывать, что разум принадлежит всем климатам и что везде, где есть люди, есть и правильное мышление. Нам бы не понравилось, если бы те, которых мы называем варварами, платили нам тем же. Если в нас есть некоторое варварство, то оно заключается именно в нашем чрезвычайном изумлении при виде того, что другие народы способны рассуждать так же, как и мы.
8
Несмотря на то, что у нас такой чистый язык, такая изысканность в костюмах, такие культурные нравы, такие прекрасные законы и такое белое лицо, для некоторых народов мы все-таки варвары.
9
Не следует судить о людях, как о картине или фигуре, по первому взгляду: нужно углубиться в сердце, вникнуть в то, что скрывается под внешностью. Достоинства незаметны при скромности, а зло таится под маской лицемерия. Лишь очень немногие сердцеведы могут разобраться в этом и вправе высказать свое мнение. Только время и случайные обстоятельства делают очевидными для нас совершенную добродетель и полную порочность человека.
10
Человек с большими достоинствами и большим умом, которые признаны всеми, не безобразен, если имеет даже уродливые черты лица: безобразие, хотя бы оно и было, не производит впечатления.
11
Кто, недостаточно зная нас, дурно о нас думает, тот не задевает нас этим: он нападает не на нас, а на призрак, созданный его воображением.
12
Без напряженного и непрерывного внимания ко всем своим словам мы подвергаемся опасности менее чем в один час высказаться и утвердительно и отрицательно об одной и той же вещи или об одном и том же лице единственно из желания быть приятными в разговоре, которое побуждает нас не противоречить ни тому, ни другому мнению, хотя эти мнения совершенно различны.
13
Можно ли назвать умным человека, который, замкнувшись в каком-нибудь искусстве или даже в какой-нибудь науке и достигши в них значительной высоты, вне их не обнаруживает ни рассудительности, ни памяти, ни живости ума, ни умения вести себя, – человека, который не понимает меня, не умеет думать и плохо выражается? Как назвать умным, например, музыканта, который, очаровавши меня своей музыкой, тотчас как будто прячется в один чехол с своей лютней и похож, без этого инструмента, на попорченную машину, в которой чего-то не хватает и от которой больше нечего ждать?
14
Случается иногда, что человек, известный миру великими дарованиями, почитаемый и любимый всюду, где бы он ни был, настолько мал в своем домашнем кругу и в глазах своих близких, что не может удостоиться от них никакого уважения. Другой же, напротив, является пророком в своем отечестве, наслаждается славой между своими и в стенах собственного дома восхваляется за редкие и чрезвычайные заслуги, приписываемые ему его же семейством, для которого он – кумир, но заслуги эти он оставляет дома всякий раз, когда выходит из него, он не носит их с собой.
15
Мы нередко преувеличенно расхваливаем людей довольно посредственных, стараясь поставить их, если можно, на одной высоте с людьми действительно замечательными, и делаем это или потому, что нам надоедает удивляться постоянно одним и тем же лицам, или потому, что слава их, разделяемая и другими, меньше обижает нас, становится для нас более сносною.
16
Вообразить себе, что такие-то люди неспособны говорить справедливо, и осуждать всё, что они говорят, говорили и будут говорить, значит очень сократить дело, избавив себя от тысячи споров.
17
Мы одобряем других только в виду сходства, которое находим в них с нами: иметь о ком-нибудь высокое мнение, повидимому, значит равнять его с собой.
18
Те недостатки, которые в других тяжелы и невыносимы для нас, в нас самих оказываются как бы в самом подобающем для них месте: они не тяготят нас, мы не чувствуем их. Иной, говоря о ком-нибудь другом, рисует ужасный портрет, не замечая, что изображает себя.
19
Ничто так скоро не исправляло бы наши недостатки, как если бы мы способны были сознаваться в них себе, видя такие же недостатки в других: рассматриваемые на таком расстоянии от нас, т. е. в других, недостатки наши представлялись бы нам в своем настоящем виде и внушали бы то отвращение, которое заслуживают.
20
Видя, как люди любят жизнь, можно ли было бы подозревать, что они любят что-нибудь другое больше жизни, что слава, которую они предпочитают ей, часто есть не что иное, как их собственное мнение о себе, установившееся о них в уме тысячи людей, которых они совсем не знают или не ценят.
21
Люди, дурно пользующиеся своим временем, обыкновенно жалуются на его краткость. Так как они тратят его на одеванье, еду, сон, глупые разговоры, на раздумыванье о том, что делать, а часто и на ничегонеделанье, то недостает его ни для дел, ни для удовольствий; у людей же, лучше употребляющих свое время, оказывается, напротив, даже остаток его.
22
Есть такие божьи создания, имеющие душу и называющиеся людьми, вся жизнь которых и всё внимание поглощаются одним занятием – обтачиванием камней: занятие немудреное и очень неважное; есть и другие такие же создания, которые удивляются, глядя на первых, сами же совершенно бесполезны и проводят жизнь в ничегонеделании, а это – еще более пустая вещь, чем обтачиванье камня.
23
Большая часть людей до такой степени забывает о том, что у них есть душа, и тратит жизнь на такие дела и занятия, где душа, кажется, ни на что не нужна, что если говорят о ком-нибудь, что он «думает», то считают, что, говоря это, выгодно о нем отзываются. Такая похвала стала даже обычною, но ведь она ставит человека только выше собаки или лошади.
24
«Как вы проводите время, какими развлечениями пользуетесь?» – спрашивают вас и глупые и умные люди. Если бы я ответил, что открываю глаза и смотрю, подставляю уши и слушаю, забочусь о том, чтобы иметь здоровье, покой и свободу, то это не было бы ответом для них: прочные блага, великие, единственные блага не ценятся ими, они их не чувствуют. Играю ли я в карты, посещаю ли маскарады – вот что им нужно знать.
25
Если мир будет существовать только сто миллионов лет, то он еще во всей своей свежести и почти только начинает жить, мы сами еще почти соприкасаемся с первыми людьми и патриархами, и в отдаленные века нас могут смешать с ними. Если же по прошлому судить о будущем, то сколько еще остается неизвестного нам в искусствах, науках, в природе и – смею сказать – в истории! Сколько предстоит открытий, сколько должно произойти различных переворотов на всей земной поверхности, в государствах! Как велико еще наше невежество и как незначителен опыт шести или семи тысячелетий!
26
Нет пути слишком дальнего для того, кто идет медленно и не торопясь; нет слишком отдаленной победы для того, кто терпеливо готовится к ней.
27
Свет – для людей, состоящих при дворе или населяющих города, а природа только для деревенских жителей: они одни живут, они одни по крайней мере сознают, что живут.
28
Дух умеренности и некоторого рода скромность в поведении оставляют людей в неизвестности: чтобы получить известность и заслужить удивление, нужны великие добродетели или, пожалуй, великие пороки.
29
Приблизьтесь сюда, ничтожные твари, шести, много семи футов ростом, показывающие на ярмарках за деньги, как великана, как редкость, того индивидуума своей породы, которому посчастливилось дорасти до восьми футов, вы, бесстыдно величающие себя такими названиями, как «высочество» и «эминенция», приличные разве только горам, поднимающимся выше облаков; подойдите, спесивые животные, презирающие все другие виды животных, и дайте ответ Демокриту. Не вошли ли у вас в пословицу хищность волка, свирепость льва и злые проказы обезьян? А сами вы что такое? Мне то и дело трубят в уши: «Человек есть животное разумное». Но кто дал вам такое определение, – волки, обезьяны и львы, или вы сами дали его себе? Забавно! Животным, собратьям своим, вы приписываете всё, что есть худшего, себе же приписываете всё лучшее. Предоставьте им самим себя определять, и вы увидите, как они будут забываться перед вами и дурно обращаться с вами. Я не стану распространяться, о люди, о вашем легкомыслии, безумствах и капризах, которые ставят вас ниже крота или черепахи, мудро ведущих свой скромный образ жизни и неизменно следующих инстинкту своей природы, но послушайте меня минуту. Вы говорите о соколе, если он легок на подъем и метко падает на куропатку: «Вот отличная птица», и о борзой собаке, ловко берущей зайца: «Это хорошая собака», и о человеке, преследующем кабана, доводящем его до последней крайности, настигающем и пронзающем его: «Вот храбрый человек», и я согласен с этим. Но если вы же видите двух кобелей, которые с свирепым лаем нападают друг на друга, кусают и рвут один другого, ведь вы уже говорите: «Какие глупые животные!» – и хватаетесь за палку, чтобы разогнать их... А что если б вам сказали, что все коты целой страны собрались тысячами на одну равнину и, замяукавши во всю глотку, кинулись с яростью одни на других, пустивши в ход разом и зубы и когти, если бы вам сообщили при этом, что после этой схватки осталось на месте от девяти до десяти тысяч котов с той и другой стороны и что они заразили зловонием воздух на десять лье кругом, разве вы не воскликнули бы: «Что за омерзительный шабаш!» Представьте же себе волков, сделавших то же самое, – какой был бы вой, какое кровопролитие! – и если бы по поводу этого кровопролития кто-нибудь заметил вам, что волки любят славу, разве могли бы вы поверить, что они сошлись на свое прекрасное rendez-vous с готовностью истребить собственную породу из-за славы? Поверив же этому, неужто вы не рассмеялись бы от души над простотою бедных зверей? А между тем вы – «разумные животные», чтобы отличить себя от тех, которые пользуются только зубами и когтями, придумали себе – что же? – копья, пики, дротики, сабли и палаши!.. Впрочем, вы поступили, конечно, основательно: что же могли бы вы сделать друг другу одними руками, разве только вырвать волосы, расцарапать друг другу физиономии или – самое большее – выдрать глаза из орбит? Ну, а теперь вы снабжены удобными инструментами, которые служат вам для нанесения друг другу таких глубоких ран, чтобы уж нечего было опасаться спасения от смерти. Но и этого мало, – так как вы год от году делаетесь всё более и более разумными, то вы далеко перещеголяли уже и этот старинный способ истребления: теперь у вас есть маленькие шарики, сразу убивающие вас, когда попадают в голову или в грудь, есть и другие, более тяжелые, которые разрывают вас пополам или потрошат вам брюхо, не считая еще тех, которые, падая на крыши домов, пробивают потолки, проникают с чердаков в подвалы, поднимают своды их и взрывают на воздух, вместе с вашими домами, и ваших мучающихся родами жен, вашего ребенка и его кормилицу... в этом-то ведь и заключается ваша слава: она любит сумятицу, она очень умная особа!.. Завели вы себе и оборонительное оружие: на войну, по вашим правилам, вы должны выходить одетыми в железо. По правде сказать, это красивый костюм, он приводит мне на память тех знаменитых четырех блох, которых показывал некогда один ловкий шарлатан, нашедший секрет заставлять их жить в бутылке; он надел каждой блохе шлем на голову, тело облек в панцырь, надел на каждую наручники и наколенники – ничто не было упущено, и в таком убранстве блохи прыгали и скакали в своей бутылке... Вообразите же себе человека ростом с гору Афон (почему не вообразить? Разве душе трудно было бы воодушевить такое огромное тело, ей было бы даже просторнее в нем). Так вот, если бы этот человек обладал таким острым зрением, что открыл бы вас где-нибудь на земле со всем вашим оборонительным и наступательным оружием, то, как вам кажется, что подумал бы он о ваших миниатюрных безобразных фигурках (так прекрасно экипированных) и о том, что называется у вас войною, кавалерией, инфантерией, достопримечательной осадой, славной битвой... ведь о чем же более жужжите вы между собой, как не об этих вещах: весь мир делится у вас на полки и роты, всё стало батальоном или эскадроном.
1
Н*** богата, она хорошо ест, хорошо спит, но жизнь ее отравляют прически: они меняются; в то время, как она меньше всего думает о них и считает себя счастливою, вдруг прическа ее выходит из моды...
2
Страсть к известного рода вещам – это страсть не к тому, что хорошо или что представляется совершенством в своем роде, а к тому, чтобы обладать тем, чего у других нет, за чем другие гоняются, что в моде. И это не забава, а именно страсть, и нередко столь сильная, что уступает любви и честолюбию только по ничтожности предмета, ее возбуждающего.
3
Каждый час как сам по себе, так и по отношению к нам, единственен; раз он прошел, он погиб навсегда, миллионы веков не вернут его. Дни, месяцы и годы погружаются и пропадают безвозвратно в бездне времени. Да и само время перестанет существовать когда-нибудь: оно не более как точка в неизмеримых пространствах вечности, и точка эта изгладится. Всё, что называется модами, величием, милостями, излишком, могуществом, властью, независимостью, удовольствиями, радостями, – всё это пустое, вздорное, временное, непрочное, и всё это пройдет. Что будет с этими модами, когда самое время исчезнет? Одна только добродетель, как ни мало она в моде, переживет и время.
1
Когда простолюдин лжет, уверяя, что он видел чудо, он сам убеждается, что видел его; человек, постоянно скрывающий свои годы, наконец сам приходит к мысли, что он так молод, как ему желательно казаться другим точно так же и разночинец, по привычке толкующий о своем мнимом происхождении от какого-нибудь древнего барона или владельца замка, с удовольствием думает о таком знатном происхождении своем.
2
Знатные люди во всем подражают еще более знатным, которые с своей стороны, чтобы не иметь ничего общего с теми, которые ниже их, добровольно отказываются от стеснительных почетных отличий, которыми обременено их положение, и предпочитают этой обузе более свободную и удобную жизнь. Те, которые идут по их следам, уже из соревнования соблюдают ту же простоту и скромность. Таким образом все они, благодаря своему высокомерию, придут к необходимости жить просто, как народ. Как это прискорбно!
3
Никогда не случается видеть людей, которые давали бы обеты и ходили на богомолье для того, чтобы сделаться более кроткими и более признательными своим благодетелям, чтобы стать более справедливыми и менее склонными вредить ближним и чтобы исцелиться от тщеславия, недовольства своим положением и страсти к злым насмешкам.
4
Кто мог бы представить себе, если б опыт воочию не показывал этого нам, какого труда стоит человеку решиться на собственное спасение? Как пришло бы в голову, что для этого необходимы особые лица, одетые в особенное платье, которые заранее подготовленными умильными и чувствительными речами, с помощью известного рода изменений в голосе, слез и движений, бросающих в пот и доводящих до утомления, заставляли бы, наконец, христианина-католика и разумное существо, болезнь которого неизлечима, согласиться не губить себя и позаботиться о своем спасении.
5
Бывали случаи, что иные добродетельные девушки обладали и здоровьем, и горячим рвением, и действительным призванием, но не оказывались настолько богатыми, чтобы дать обет бедности в богатом аббатстве...
6
Поступить безумно и жениться на какой-то «страстишке» – значит жениться на молодой, красивой, умной и бережливой Мелите, которая нравится и любит вас, но не так богата, как предлагаемая вам Эгина, которая, вместе с большим приданым, принесет и большую охоту тратить его, а заодно с ним и ваше состояние.
7
Наказанный виновный – пример для негодяя, а осужденный невинный – пример для всех честных людей. Я почти могу сказать о себе, что не буду вором или убийцей, но сказать, что никогда не буду наказан, как вор или убийца, было бы слишком смело.
8
Сколько существует таких людей, которые недоступны никаким слабостям, тверды и непреклонны, когда с просьбами к ним обращается простой народ; не уделяют никакого внимания маленьким людям, строги и суровы в мелочах, отказываются от небольших подарков, не слушают ни родственников, ни друзей и которых только женщины могут подкупить!
9
Лекарей давно уже бранят и все-таки пользуются ими. Комедия и сатира не касаются их доходов; дочерям они дают приданое, а сыновей проводят на важные должности по судебному и духовному ведомству, и даже те самые, которые смеются над ними, платят им деньги. Когда здоровый человек делается больным, ему становятся необходимыми такие люди, ремесло которых заключается в том, чтобы уверять, что он не умрет. Таким образом, пока люди будут умирать и пока будут любить жизнь, лекарей всегда будут осмеивать и вместе с тем хорошо платить им.
10
Дерзость шарлатанов и их печальные успехи, как последствия дерзости, заставляют ценить медицину и лекарей: шарлатаны убивают, а лекаря предоставляют умирать.
1
Знают ли esprits forts (вольнодумцы), что их называют так иронически? Разве есть бессилие большее, чем бессилие того, кто ничего не знает о том, каково начало его бытия, его жизни, его чувств и сознания и какой должен быть конец всего этого? Разве есть бессилие, более обескураживающее, чем бессилие того, кто сомневается: не материя ли душа его, подобно камням или гадам, не тленна ли она подобно им? Не больше ли силы и величия в уме, принимающем идею Существа, которое выше всех существ, которое все их создало и от которого все должны находиться в зависимости. Существа совершеннейшего, чистого, безначального и бесконечного, образ которого и, если можно так сказать, часть которого есть душа наша по ее духовности и по ее бессмертию?
2
Я называю суетными, мирскими или грубыми тех людей, ум и сердце которых привязаны к одной крошечной частичке мира, которую они населяют и называют землей и которые ничего не ценят и ничего не любят вне ее пределов: люди эти так же ограничены, как ограничено то, что они называют своими владениями и поместьями, что измеряют, считают десятинами и отмечают межевыми столбами. Мне не удивительно, что люди, опирающиеся на подобный вздор – атом, шатаются при малейшем усилии зондировать истину, не удивительно, что, при своей великой близорукости, они не видят сквозь небо – с его звездами – самого бога и что, не сознавая величия человеческой души, они еще менее чувствуют, как трудно утолить ее, насколько ниже нее всё земное, как необходимо ей существо всесовершеннейшее – бог – и как нуждается она в религии, которая указывает ей его и твердо ручается в том, что он есть. Я очень легко понимаю, что таким людям естественно впасть в неверие или в равнодушие к вере и заставить и бога и религию служить политике, т. е. устройству и украшению этого мира, единственной вещи, заслуживающей, по их мнению, того, чтоб о ней думали.
3
Прежде чем выказывать себя вольнодумцем, неверующим, нужно было бы очень серьезно испытать и исследовать себя, по крайней мере для того, чтобы или кончить жизнь так, как жил, согласно с своими принципами, или, если не чувствуешь в себе на это силы, решиться жить так, как хотел бы умереть.
4
От тех, которые идут против общего течения и великих принципов, я потребовал бы, чтобы они знали больше других, имели бы ясные основания и убедительные аргументы.
5
Всё свое здоровье, все силы и весь ум мы тратим на помышления о людях или о своих мелких интересах; приличие или обычай как бы требуют, чтобы о боге мы думали только в том состоянии, когда у нас остается лишь столько разума, сколько нужно для того, чтобы не сказать, что его уже нет вовсе.
6
Человек по природе лжив: истина проста и бесхитростна, а ему нужны прикрасы; истина не его дело, она приходит с неба вполне, так сказать, готовою, а он любит только свое собственное произведение – вымысел и басню. Посмотрите на простой народ, он выдумывает, прибавляет и преувеличивает по грубости и глупости. Спросите даже у самого порядочного человека, всегда ли он говорит правду, не ловит ли иногда сам себя на искажении истины, к которому побуждается тщеславием и легкомыслием, не случается ли ему, чтобы сделать рассказ более интересным, прибавить к передаваемому факту обстоятельство, которого не было. Дело произошло, положим, сегодня, почти на наших глазах, сто лиц, бывших очевидцами, рассказывают о нем на сто различных ладов; сто первый человек, выслушав о нем, станет рассказывать опять как-нибудь иначе. Какое же доверие можно иметь после этого к фактам, бывшим в древности, за много веков до нас? Как положиться даже на самых благонадежных историков, да и что такое после этого история? Был ли Цезарь убит среди сената? Да существовал ли еще Цезарь!.. – «Какой вывод, скажете вы мне, Люсиль, какие сомнения! Какая требовательность, придирчивость!» Вы смеетесь, вы полагаете, что мне и возражать не стоит. Да я и сам думаю, что вы правы. Но предположим, однакож, что книга, упоминающая о Цезаре, не была бы обыкновенной светской книжкой, написанной людьми, которые все лживы, и случайно найденной в какой-нибудь библиотеке между другими манускриптами, содержащими истинные и апокрифические истории, а была бы вдохновенной, святой, божественной книгой, была бы запечатлена именно таким характером; предположим, что в течение почти двух тысячелетий книга эта находилась бы в руках многочисленного общества, не позволяющего делать в ней ни малейших изменений и поставившего себе в священную обязанность сохранить ее в полной неприкосновенности, предположим даже, что существовало бы религиозное обязательство верить всем фактам, содержащимся в том самом томе, где сказано о Цезаре и его диктатуре, – сознайтесь, Люсиль, ведь вы стали бы тогда сомневаться, существовал ли Цезарь?
7
Ту самую религию, которую люди защищают с таким жаром и усердием против тех, у кого иная религия, они же сами искажают в своем уме своими личными мнениями; они прибавляют к ней и урезывают у нее тысячу вещей, и часто существенных, смотря по тому, что им нравится, твердо и непоколебимо держась той формы, которую дают ей. Так что, если говорить понятным для всех языком, то, пожалуй, можно сказать о народе, что он держится одного культа и что у него только одна религия, но если говорить более точно, то следует сказать, что в действительности у него много религий и что почти каждый человек имеет свою собственную.
8
Есть два рода вольнодумцев: собственно вольнодумцы, или по крайней мере те, которые считают себя такими, и лицемеры или ханжи, т. е. те, которые не хотят, чтобы их считали вольнодумцами.
Ханжа или не верит в бога, или издевается над ним; скажем учтиво: он не верит в бога.
9
Если бы кто-нибудь стал уверять нас, что тайная цель сиамского посольства заключается в том, чтобы побудить «христианнейшего» короля отказаться от христианства и разрешить доступ в свое королевство талапуанам, которые проникали бы в наши дома для того, чтобы с помощью своих книг и бесед убеждать в превосходстве своей религии наших жен, детей и нас самих, настроили бы пагод в наших городах и поставили бы в них металлические статуи для поклонения, то с каким хохотом и презрением выслушали бы мы такие нелепости. А между тем сами мы, католики, делаем шесть тысяч лье по морю с целью обращения индусов, обитателей Сиама, Китая и Японии, с целью совершенно серьезно делать им такие предложения, которые должны казаться им очень безумными и смешными.
10
Есть два мира: один, в котором мы живем не долго и из которого должны выйти с тем, чтобы никогда не вернуться, и другой, в который скоро должны войти с тем, чтобы никогда не выходить из него. Милости, власть, высокая репутация, большие богатства служат для первого мира, презрение к ним служит для второго. Дело в выборе между двумя мирами.
11
Кто прожил день, тот прожил век: всё то же солнце, та же земля, тот же мир, те же ощущения, ничто лучше не походит на нынешний день, как завтрашний. Поэтому умереть, т. е. перестать быть телом и остаться только духом, было бы интересно. Между тем человек, так страстно жаждущий всякой новизны, совсем не любознателен в одном этом отношении. Беспокойному по природе, от всего скучающему, ему не скучно только жить. Он, может быть, согласился бы вечно жить. Его сильнее поражает то, что он видит при смерти, чем то, что он знает о ней: болезнь, телесные страдания, вид трупа отнимают у него охоту узнать другой мир. Необходима вся серьезность религии, чтобы образумить его.
12
Если бы моя религия была ложной, то, признаюсь, она была бы ловушкой, так искусно поставленной, как только можно придумать; обойти ее и не попасться в нее было бы невозможно. Какое величие, какая последовательность и связь во всем учении! Какой высокий разум, какая чистота и невинность в добродетелях! Какое непобедимое могущество, подавляющее массой свидетельств, идущих последовательно в течение трех веков от такого множества лиц, самых мудрых и благодетельных, какие были тогда на земле, которым религия эта давала силы в изгнании, в оковах, перед лицом смерти и в последних мучениях! Возьмите историю, разверните ее, перелистайте ее всю от наших дней до начала мира, до кануна его рождения, было ли когда-нибудь и что-нибудь подобное? Мог ли бы сам бог найти что-нибудь лучшее, чтобы пленить меня? Как избежать этой ловушки? Куда идти, куда броситься – уже не говорю, чтобы искать лучшего, а чтобы найти хоть что-нибудь похожее? Если уже должно погибнуть, я хочу погибнуть, следуя моей религии; мне легче было бы отрицать бога, чем приписывать ему такой правдоподобный, такой совершенный и полный обман, но отрицать бога я не могу – я много размышлял и не могу быть атеистом. Итак, дело решено, волей или неволей я опять возвращаюсь к моей религии, опять увлечен ею.
13
Сорок лет тому назад меня не было, и не от моей власти зависело получить когда-нибудь существование, так же как, раз я есмь, не в моей власти не быть. Я получил начало и продолжаю существовать в силу чего-то такого, что вне меня, что будет продолжаться и после меня, что лучше и могущественнее меня: если это что-то не бог, то пусть мне скажут, что же это.
Может быть, я существую только благодаря силе всеобщей, всеобъемлющей природы, которая всегда была такою, какою мы видим ее, поднимаясь даже в бесконечность времен33
Гипотеза вольнодумцев. (Прим. Лабрюйера.)
[Закрыть]. Но эта природа есть или только дух, следовательно это бог, или материя, а следовательно не могла создать моего духа, или же, наконец, соединение материи и духа, и в таком случае то, что является духом в природе, я называю богом.
Может быть также, что то, что я называю моим духом, есть только часть материи, существующей благодаря силе всеобщей природы, которая есть тоже материя, причем всегда была и всегда будет такою, какою мы ее видим и которая не есть бог44
Утверждение вольнодумцев. (Прим. Лабрюйера.)
[Закрыть]. Но в таком случае нужно по крайней мере согласиться со мною в том, что, чем бы ни было то, что я называю своим духом, все-таки это есть нечто способное мыслить и что если это нечто есть материя, то, следовательно, материя мыслящая, ибо никто не убедит меня, что во мне нет такого элемента, который мыслит в то время, как я, например, пишу это рассуждение. Если же этот мыслящий во мне элемент обязан своим бытием и своим сохранением всеобщей природе, которую он признает своею причиною, то из этого необходимо следует, что всеобщая природа должна мыслить или же быть выше и совершеннее того, что мыслит; а если эта природа есть материя, то необходимо следует заключить, что означенная всеобщая материя мыслит или выше и совершеннее, чем то, что мыслит.
Если всеобщая природа, чем бы она ни была, не может быть совокупностью тел или каким-нибудь одним из них, то отсюда следует, что она – не материя и недоступна внешним чувствам, а если к тому же она мыслит или совершеннее того, что мыслит, то я должен прийти к заключению, что она – дух или же существо высшее и совершеннейшее, чем то, что есть дух; если, наконец, присущему мне мыслящему элементу, который я называю своим духом, ничего не остается более, как подняться до этой всеобщей природы, чтобы найти в ней свою первую причину и начало, так как он не находит этого начала ни в себе, ни еще менее в материи, то в таком случае я не буду спорить о словах, но этот первоначальный источник всего духовного, который и сам по себе есть дух и совершеннее всякого духа, называю богом.