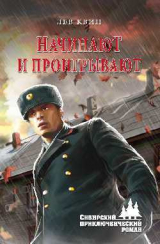
Текст книги "...начинают и проигрывают"
Автор книги: Лев Квин
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– «Мотайте быстрей отседова, дело дрянь, Стасик не болен, поймался, Смагина Андрюшку оправдали», сочинил с ходу Глеб Максимович. – А что? И вписать симпатическими чернилами между строк безобидного текста. А состав чернил такой: проявишь – больше не убрать.
– Ну и сожжет! – нашелся скептик.
– Ну и отлично! – подхватил Глеб Максимович. – И тем самым подтвердит: он проявлял, письмо ему… Братцы, кажется, ход! И, главное, зацепка хорошая есть – предупреждал ведь Станислав Васин Изосимова, что может прислать подобное письмо. Вот Изосимов и решил сам проявить инициативу.
Все сразу оживились… Опять споры, опять разные мнения. Но на сей раз уже не о том, делать или не делать, а как лучше все организовать.
Надымив еще плотнее, уже далеко за полночь пришли к такому итогу. Изосимов напишет письма всем семерым. В каждом будет следующий открытый текст:
«Дорогой Иван Петрович (или Сидор Васильевич, или Афанасий Ильич)!
Очень извиняюсь, что вам пишу, дома никого нет, жинка эту неделю дежурит. Сглупил я по пьянке малость. Прошу, позвоните на хлебозавод жинке моей, пусть к вам пойдет. А придет – скажите, Володя просил передачу везти в Старую Буру, в милицию, и чтобы поговорила с начальником, может, меня выпустят, ничего там особого нет. Письмо это жинке покажите, а то еще не поверит. Просит вас шофер Изосимов Володя из гаража».
Расчет простой. Получит письмо человек, к Дяде непричастный, удивится, поругает Изосимова или посочувствует ему, но письмо не уничтожит. В крайнем случае, у него сохранятся обрывки, можно будет проверить.
А если письмо попадет Дяде, тот, скорее всего, должен заинтересоваться, проверить, нет ли в письме другого, тайного текста? И попадется! Потому что письмо должен будет уничтожить, чтобы не осталось следа.
Решение принято, работа закипела. Каждый получил задание, всем хватило. Нужно было съездить за почтовым штемпелем в Старую Буру, приготовить чернила для тайнописи – рецепт Изосимов знал; состав не особенно сложный, из подручных материалов; договориться с почтальоном, обслуживающим барак… А утром встретить адресатов по дороге на работу и проверить, что произошло с врученными им посланиями.
Мне, как лучше других знающему Изосимова, выпало готовить с ним письма. Он сразу сообразил:
– Как думаете, поймается?
Но, прочитав список, поднял на меня удивленные глаза:
– Из этих он?
Меня и самого удивляли некоторые фамилии, и поэтому, возможно, я сказал резче, чем требовалось:
– Не рассуждайте – пишите!
Почерк у Изосимова был тот еще; пляшущий, корявый. Он не писал, а, как плакатист, вырисовывал букву за буквой. Рука, непривычная к такой работе, быстро уставала, и от письма к письму текст, несмотря на старание, становился все более неровным. А последнее письмо он, ставя точку, от усердия даже проткнул насквозь.
– Ой! – посмотрел виновато.
– Осторожнее надо!
– Здесь ямка на столе, вот, видите? – оправдывался Изосимов. И тут же предложил самоотверженно – пусть я знаю, как он хотел искупить свою вину; и эту, маленькую, и ту, большую, неискупимую:
– Может, помешает? Давайте перепишу.
Было уже четыре утра. Ладно, сойдет!
– Не надо.
Откуда мне было знать, какую роль сыграет в ближайшие часы едва приметная дырочка!
26.
В семь часов утра почтальонша, обслуживающая итээровский барак на Воронежской улице, сухонькая, быстрая на ноги старушка, начала ежедневный обход участка. Наготове было объяснение, почему она сегодня вышла раньше обычного: ровно в девять к почте подойдет машина за новогодними подарками для воинов Красной Армии; надо успеть к погрузке. В сумке почтальона лежали письма Изосимова, посланные, как значилось на почтовом штемпеле, еще позавчера из Старой Буры.
В семь часов утра заняли свои исходные позиции и непосредственные участники операции. В их задачу входило перехватить «клиентов» на пути к работе, лучше поближе к дому, чтобы не дать им возможности пообщаться друг с другом.
Меня сначала не хотели посылать на операцию – из-за ноги. Но потом, когда распределили силы и выяснилось, что одного человека все равно не хватит, нашли подходящий объект, почти равный мне по скорости передвижения. Это был тучный, страдавший одышкой старший бухгалтер с очень неподходящей фамилией – Прутик. Он ходил медленно, переваливая свои пуды с одной ноги на другую и останавливаясь для отдыха через каждую дюжину шагов. На него оглядывались прохожие – не перевелись ведь еще такие мастодонты на третьем году войны!
Я перехватил его возле детского сада; сокращая путь, он прошел через двор и каким-то непостижимым образом протиснулся через лаз в кирпичной ограде, предназначенный для людей совсем не его габаритов.
– Одну минуту, товарищ Прутик.
– Да? – Он неуклюже развернулся в мою сторону.
– Из милиции.
Я показал документы. Прутик растерянно заморгал, видимо, ожидая, что сейчас его оштрафуют или по крайней мере поругают за нарушение порядка.
– Вы сегодня получили почту?
– А? – поразился он. – Почту?… Да, да…
– Письма были?
– Письма?… Да, да…
– От кого?
– От брата, из Куйбышева.
Его одутловатое лицо выражало крайнюю степень изумления.
– И все?
– Да… – И сразу спохватился: – То есть, нет. Еще одно было. От шофера нашего, Изосимова.
– Оно у вас с собой?
Он похлопал себя по карману.
– Дома… забыл…
– Придется вернуться, товарищ Прутик.
– Да?…
Он снова развернулся, грузно, нескладно, как подбитый танк, посмотрел на пробоину в заборе, потом на меня и, шумно вздохнув, пошел в обход детского сада. Я шагал рядом. Вот будет потеха, если он сейчас побежит, а я за ним. Матч толстопузого с хромоногим – ребятня, спешащая в школу, лопнет от смеха.
– Довольно странно, – процедил толстяк Прутик.
– Что именно?
– Всё. И письмо… И вот вы теперь…
Я не ввязался в разговор – промолчал. Может, он меня щупает? Посмотрим, что будет дальше.
А дальше не было ничего интересного. Письмо Изосимова лежало на уставленном посудой столе. Один край оторван и свернут в узкую трубочку – вероятно, Прутик ковырял в зубах. Тайнопись не проявлена.
– Что такое, что такое? – Из-за занавески испуганно выскочила заспанная жена Прутика, хрупкая, миниатюрная, легкая, полная противоположность своему увесистому супругу, и тотчас же очень ловко набросила на стол свесившийся до пола конец скатерти, чтобы я, не дай бог, не рассмотрел едва начатую буханку белого хлеба, топленое свиное сало в стеклянной литровой банке и связку сухих серо-рыжих вобл.
– Вот… письмо… – Прутик, сам ничего не понимая, беспомощно топтался у стола. – Товарищ из милиции…
– Я говорила – порви! Я говорила! – наскакивала на него жена, очень напоминавшая сейчас маленькое, отчаянно храброе существо из знаменитой басни, не убоявшееся даже слона.
– Все в порядке! – сказал я. – Письмо забираю с собой. О происшедшем прошу никому не говорить.
– Что вы! Что вы! Как можно! – в ужасе затрясла одной рукой супруга Прутика, другой в то же самое время ловко заправляя под скатерть вылезший воблий хвост. – Мы же понимаем.
Итак, у меня холостой выстрел. А у других?
На обратном пути меня догнал Арвид. Он проверял диспетчера Хайруллина. Спросил беззвучно, одним движением головы:
«Как?»
– Плохо. А у тебя?
– Хорошо.
Он улыбнулся и тем самым сразу меня насторожил.
– Что значит хорошо?
– Когда подозрение не подтверждается. Когда человек чист. Не так?
Значит, и у него вхолостую. Мы как раз проходили мимо почтамта. Арвид остановился.
– Вот письмо, отдашь полковнику – он уже в курсе, я звонил.
– А ты сам? Хотя ясно – на переговорную? – слегка поддел его.
В ответ последовало невозмутимое:
– Да, закажу Москву на вечер…
Он исчез за тяжелыми дверьми. Как же – у человека нашлась жена, и сразу пошли заботы. Теперь будет ей названивать, пока все деньги не ухлопает…
Из семи подозреваемых двое отпали. Еще пятеро.
Вслед за мной к Глебу Максимовичу довольно скоро явились один за другим еще трое участников операции. Они принесли два письма без всяких следов тепловой обработки и третье в виде обрывков, бережно собранных в газетный пакетик – адресат, тоже не проявив тайнописи, разорвал письмо в клочья.
Осталось еще два письма. Один из двоих!
Следующего вошедшего встретили дружным: «Ну?» Момент был и в самом деле волнующим. Лобастый майор проверял работавшего прежде в цехе, а недавно переведенного в шоферы Бобко – он с подозрительной настойчивостью просился вместо Васина в цех «Б».
Майор пожал плечами и выложил перед Глебом Максимовичем смятый листок:
– Не он.
Я вычеркнул в своем списке еще одну фамилию. Теперь осталась только одна. Петрова. Зинаида Григорьевна. С которой я ежедневно встречался в столовой.
Она?!
Ждать пришлось долго, и с тягучими минутами ожидания мысль, показавшаяся вначале невозможной, обрастала подробностями, черпала в них подтверждение, становясь из невероятности обоснованным подозрением, а затем уж и твердой уверенностью.
Она! А почему бы и нет? Дядя? Ну и что? Разве клички шпионов обязательно должны служить ключом к их полу, внешнему облику, возрасту?
А так… Зинаида Григорьевна имела свободный доступ к гаражу – бухгалтерия и гараж в одном здании. Она прекрасно знала всех шоферов, Изосимов мог находиться под постоянным и незаметным наблюдением. Васин, скорее всего, сочинял свою телеграмму сыну в бухгалтерии – там и с бумагой полегче, там и все принадлежности для письма. Ей ничего не стоило незаметно подобрать один из брошенных им черновиков.
И в школьных тетрадках учительницы Назаровой она тоже могла рыться, не возбуждая подозрений, – дверь ее комнаты выходит прямо в кухню…
Я уже видел перед собой ее красивое лицо в совсем новом непривычном свете: в глазах затаенное коварство, тонкие губы змеятся в ехидной улыбке.
Она! Она!
Все, нервничая, посматривали на стенные часы.
Девять часов…
Пять минут десятого…
Восемь минут десятого.
Наконец открылась дверь. Последний, Сечкин.
– Что так долго? – спросил Глеб Максимович.
– Ждал. Вышла только около девяти – вчера поздно работала вечером.
– Конечно, не она?
Почему Глеб Максимович так уверен? Ах да, иначе Сечкин задержал бы ее, привел бы с собой.
– Письмо не тронуто.
– Дома лежало?
– Нет, у нее в сумочке. Говорит, хотела отпроситься с работы – и сразу на хлебозавод. Очень уж жаль ей Изосимова. Понятно – женщина!
В небольшую стопку писем на столе Глеба Максимовича легло еще одно – последнее.
Операция провалилась.
Среди адресатов Дяди не было. Или же он оказался умнее и осторожнее, чем мы предполагали.
И Зинаида Григорьевна… Я фыркнул, полный презрения к самому себе. Нет, каким олухом надо быть, чтобы заподозрить фашистского шпиона в этой милой, мягкой женщине!
Все были удручены, не только я один. Лишь Глеб Максимович не терял оптимизма, по крайней мере, внешне; в душе он досадовал, может быть, больше всех.
– Что ж, обошла лиса один капкан, угодит в другой. Придется основательно взяться за прошлое всех семерых… Давайте сейчас перекур на десять минут, а потом когда соберемся, больше чтобы здесь не дымить. А то задохнемся раньше, чем выудим Дядю.
Курильщики потянулись в коридор. Я подошел к столу, стал бездумно перебирать письма. Да, напрасно Изосимов вываливал язык от усердия. Интересно, огорчится он или обрадуется? Наверное, все-таки огорчится: он явно надеялся спасти свою шкуру за счет Дядиной. Даже сам переписать предложил, когда проткнул бумагу и заметил на моем лице недовольство, – подумать только, на какие жертвы шел человек!
Да, но где же эта дырочка?
Я со все возрастающим удивлением вертел в руках письмо, адресованное Зинаиде Григорьевне. Вот здесь он проткнул, когда ставил точку. Ничего нет!
А не путаю ли я? Может, не Зинаиде Григорьевне предназначалось последнее письмо – другому?… Нет, ей, ей! Изосимов писал по порядку, а ее фамилия стоит у меня седьмой в списке.
Как же так? Было отверстие – и исчезло?
Переписано? Она проявила, а потом переписала? Ведь у Изосимова такой почерк – подделать нетрудно. Учуяла ловушку? Или просто так, на всякий случай?
Я, опасаясь попасть впросак, внимательно осмотрел письмо. Кажется, да! «А» и «о» круглее, чем в остальных письмах. И нажим не такой…
– Товарищ полковник! – позвал я дрогнувшим голосом. – Товарищ полковник, посмотрите.
И началось…
Сотрудники отправленные на комбинат, позвонили:
– Нет ее на работе. Отправилась в баню…
– Немедленно туда! – приказал Глеб Максимович. – Я сейчас подошлю вам Люду и Елизавету Ивановну, пусть проверят!
Положил трубку и сказал всем нам, напряженно прислушивавшимся к разговору.
– Для очистки совести. Все равно бесполезно. Она задала ходу, можно не сомневаться.
Тут же объявили о срочном розыске скрывшейся. На контрольно-пропускные пункты и на вокзал послали людей с фотографией Зинаиды Григорьевны. Отдали телеграфное распоряжение о поисках в уже отошедших за это время от нашей станции поездах.
Ее обнаружили в пассажирском поезде, который шел в сторону Энска. У сотрудников, прочесывавших состав, хватило смекалки проверить водившую их по одному из вагонов проводницу. Ею оказалась сама Зинаида Григорьевна – в железнодорожной форме, с фонарем, все чин по чину. Сумела уговорить вконец измученную хозяйку вагона прилечь в служебном закутке, предложив по доброте душевной заменить ее.
Доставленная поздним вечером к Глебу Максимовичу, она не выглядела особенно взволнованной или удрученной. Кивнула мне как старому знакомому – полковник попросил записывать предварительный допрос. Сказала с усталой улыбкой:
– Меня приняли за кого-то другого – как вам это нравится?
– Почему вы уехали, никого не предупредив? – спросил Глеб Максимович. – Вы же находитесь на работе.
– Главный бухгалтер отпустил меня – можете проверить.
– Уже проверили. В баню.
– Видели, какая там очередь? Я бы все равно сегодня не попала. А день свободный. Вот и решила съездить в деревню за продуктами. Кстати, ваши люди отобрали семь тысяч рублей – они не исчезнут?
В таком духе шел весь разговор. Зинаида Григорьевна отвечала на вопросы полковника уверенно, без тени растерянности. На все находился у нее толковый, внешне правдоподобный ответ. Когда же Глеб Максимович спросил, как могло случиться, что с письма исчезло отверстие, проделанное до отправки, она пожала плечами:
– Одно из двух: либо отверстие кому-то приснилось, либо письмо заменили на почте. – И добавила, переходя в наступление: – Думаете, я беззащитна против провокаций? Я требую, чтобы вы немедленно сообщили на фронт, мужу, о моем аресте.
– Сообщим, сообщим, будьте спокойны, – пообещал полковник.
Пришел с почтамта Арвид; он отпрашивался на переговоры с Москвой. А вернувшись, повел себя крайне странно. Открыл дверь кабинета, где шел допрос, вызвал в коридор Глеба Максимовича и шептался с ним там минут пять.
– У вас нет папирос, Витя? – обратилась ко мне Зинаида Григорьевна с наглой фамильярностью.
– Не курю! – бросил я. – И прошу не называть меня так.
– А как? Товарищ лейтенант? – Она мило улыбнулась. – Или лучше – гражданин лейтенант?… А, понимаю! Боитесь ответственности за знакомство со мной?
Глеб Максимович вернулся вместе с Арвидом.
– Отвечайте на вопросы лейтенанта.
– Пожалуйста, – пожала плечами Зинаида Григорьевна. – Мне всё равно, на чьи.
– Я о вашей бытности в Латвии, – начал Арвид. – Вы тогда сказали неправду!
– То есть? – подняла брови Зинаида Григорьевна.
– Вы у нас не жили.
Вместо того, чтобы возразить или согласиться, она вдруг расхохоталась, запрокинув назад голову. Арвид спокойно переждал этот приступ веселья:
– Я берусь доказать.
– Даже так? – Зинаида Григорьевна положила ногу на ногу, – что ж, давайте, мне любопытно!
Какая наглость! Я посмотрел на Глеба Максимовича: неужели не оборвет? Но он молчал.
– Да, вы знаете мой город, – продолжал Арвид. – Но знаете по описаниям. Недостаточно подробно. До войны выпускался проспект для иностранных туристов. Вот оттуда вы знаете и Дом рухнувших надежд, и беседки на Новофорштадтском озере, и нашу главную улицу. Все ваши знания оттуда. Из проспекта.
– Значит, вам не хватило подробностей, – констатировала она едко.
– Да.
– Пожалуйста, могу добавить…
И пошла сыпать: рядом с Домом рухнувших надежд такой-то дом справа, такой-то – слева. Улица там проходит такая-то, на углу галантерейная лавчонка без окон, с одной только стеклянной дверью и колокольчиком над ней…
Нет, Арвид, кажется, дал маху! Чувствуется, все правда, все видено собственными глазами.
Остановилась, спросила с издевкой:
– Еще? Или хватит?
– Вы только про Дом, – невозмутимо отозвался Арвид.
– Хорошо, теперь пойдут беседки. – Она смеялась над ним, нисколько не таясь. – Они метрах в ста от озера, верно? Дорожка к самой воде из красной черепицы, у вас такой кроют крыши. Да, вот что – пол в беседках паркетный. Удивительно, правда? – она уже обращалась к Глебу Максимовичу. – В открытых, доступных дождю и ветру беседках вдруг великолепный узорчатый паркетный пол! И на крышах – они как купола, круглые – острые позолоченные вершинки, вроде бы кончики пик. А стены из переплетенных мелкими клетками палочек…
– Достаточно, – остановил ее Арвид. – И вы утверждаете, что все это видели сами?
– Боже мой, до чего подозрительный народ!… Да, да, заявляю еще раз и прошу занести в протокол, что я жила там, у вас, с января сорок первого по двадцать шестое июня – этот страшный день я запомню на всю жизнь. Ваши милые соотечественники довольно нелюбезно стреляли нам в спины…
– И все-таки я прав! – Арвид совершенно не реагировал на ее ядовитые уколы. – Мне уже тогда показалось странным, в столовой. Но подумал, может быть, ошибаюсь, сам забыл. А сейчас специально звонил в Москву, в наш ЦК, там есть товарищ из моего города.
– И товарищ убедил вас, что я лгу? – Она по-прежнему уверенно улыбалась.
– Некоторых подводит плохая память. Очень странно, но вас подвела как раз хорошая… Вы сделали ошибку, которую нельзя простить, Зинаида Григорьевна. Надо было еще раз заглянуть на Новофорштадтское озеро…
Вроде и не сказал он еще ничего такого, но напряжение в комнате сразу подскочило.
– Какая-нибудь неточность еще совершенно ни о чем не говорит!
Не знала она, с какой стороны последует удар:
– Наоборот, все точно, все очень точно… Слишком точно: беседки ведь сгорели. Лесной пожар, они сгорели дотла. И знаете, когда? Осенью тридцать девятого. До восстановления у нас советской власти; в городе еще не было никаких гарнизонов Красной Армии. Вы их действительно видели, теперь я окончательно уверился…
– Да, вы нам всем очень убедительно доказали, – подтвердил полковник.
– Но только не в сорок первом. Беседок там уже не было в сорок первом…
Глеб Максимович подхватил снова:
– Откуда следует, что вы жили в Латвии еще до того, как она стала советской. И это весьма, весьма удивительно! Потому как по вашим биографическим данным, по всем вашим документам вы находились в то время очень далеко оттуда, в центральной России.
Зинаида Григорьевна молчала. Губы плотно сомкнуты, взгляд устремлен мимо нас.
– Так как же?
Молчание.
– Ну ничего, – незлобиво сказал Глеб Максимович. – Есть время подумать, теперь ведь ни вам, ни нам не надо особенно спешить… Дядя! – он хмыкнул. – И что за блажь окрестить Дядей такую интересную женщину? Прямо обидно, не находите? Или так придумали из соображений конспирации? Но ведь ни один дурак уже давным-давно не верит в тождество агентов и их кличек!
27.
И все-таки полковник ошибался – известная причина окрестить Зинаиду Григорьевну Дядей была. Это стало ясно, когда мы узнали, почему ей выбрали такую кличку.
При скорой ходьбе она чуть-чуть косолапила, ставя ноги носками немного вовнутрь. Слово «косолапить» обозначается на немецком языке целым идиоматическим выражением: uber den Onkel laufen – буквально: бежать через дядю, поспешать раньше дяди. Ее шеф – еще давно, когда она находилась в Восточной Пруссии, в специальном лагере для прибалтийских немцев, – заметив маленький недостаток своего агента, в шутку назвал ее Дядей.
Шутливое прозвище закрепилось в качестве официальной шпионской клички.
Это она рассказала сама. Не сразу, конечно, а значительно позже, к концу следствия. Снимая с нее, слой за слоем, как оболочку с мумии, все придуманное, мы постепенно добрались до самой сердцевины. А скрывать детали, когда уже раскрыто основное, лишалось смысла.
Но пока это произошло, она здорово помотала нам нервы. Бесконечные допросы, очные ставки, всевозможные письменные запросы, звонки, телеграммы в разные концы страны, кропотливое копание в бумагах ночи напролет… Мы сбились с ног, похудели, лишились сна.
Перелом произошел во время одной из очных ставок. Глеб Максимович пригласил к себе доставленную утром на военном самолете женщину, велел привести арестованную, а когда она вошла в кабинет, познакомил их:
– Зинаида Григорьевна Петрова… Зинаида Григорьевна Петрова. Да, да! И год рождения тот же. И месяц, и число. Больше того: вы обе родились в одном селе. Больше того: у одних и тех же родителей. – Посмотрел весело на прилетевшую с Востока гостью. – Бывают же на свете такие совпадения, а, Зинаида Григорьевна?
– Вот вы какая! – Арестованная окинула оценивающим взглядом ничего не понимавшую женщину. – Я вас представляла другой – погрубее, примитивнее… Хорошо, гражданин полковник, – повернулась она к Глебу Максимовичу. – Вы выиграли, нечего зря время терять…
Арвид был прав: Маргарита Карловна Зиммель, – таково ее настоящее имя – долгое время жила в Латвии, Ее отец – видный царский полковник, один из организаторов похода армии фен дер Гольца против молодой советской республики в 1919 году. Мать – русская дворянка, религиозная фанатичка, исповедовавшая католичество и патологически ненавидевшая безбожников-большевиков.
Немецкий абвер завербовал Маргариту Зиммель еще в студенческие годы, когда она училась на филологическом факультете Рижского университета. Постоянную связь с германской разведкой она поддерживала и позднее, уже будучи преподавателем Аглонской католической гимназии, – именно в то время она часто навещала город, в котором жил Арвид, особенно во время летних каникул, завязывая нужные знакомства.
Когда в 1939 году прибалтийские немцы по призыву «фюрера» выехали в Германию, в их числе была и Маргарита Зиммель. Но, в отличие от других своих земляков, она пробыла в фатерлянде недолго. У ее шефов родился план пристроить разведчицу к советской военной базе в Лиепае, причем с дальним прицелом.
Местные ульманисовские власти, тайно сотрудничавшие с гитлеровцами, охотно пошли навстречу. Так родилась на свет латвийская гражданка, русская по национальности, Зинаида Григорьевна Боброва, которой предназначено было – не судьбой, конечно, а руководителями разведки – в дальнейшем встретиться с советским капитаном Иваном Григорьевичем Петровым – у него была сестра Зинаида, и ради нее, вернее, ради ее биографии и затевалась вся сложная комбинация.
Иван Григорьевич был холост, Зинаида Григорьевна очень приглянулась ему, и в 1940 году, когда Латвия стала советской, он предложил ей руку. Предложение было принято, Иван Григорьевич отпраздновал свадьбу в узком кругу сослуживцев, его жена получила новый паспорт – уже советский – на имя Зинаиды Григорьевны Петровой. Точно так же звали и младшую сестру капитана, которая еще четыре года назад уехала из родного села под Курском на Дальний Восток.
Молодожены недолго наслаждались счастьем. На Ивана Григорьевича в ноябре того же года неизвестными лицами было совершено покушение, и он, не приходя в сознание, умер на руках безутешной супруги.
Теперь Маргарита Зиммель снова свободна – и операция по глубокому внедрению ее в Советский Союз успешно продолжается.
Она переезжает в другой латвийский город, знакомится там с молодым советским офицером Красниковым и выходит за него замуж, умолчав о своем предыдущем браке. У нее теперь и метрика есть на имя Зинаиды Григорьевны Петровой – для этого потребовалось только написать в сельсовет на Курщине и попросить выслать копию свидетельства о рождении, якобы для оформления выплат сестре погибшего капитана.
О том, чтобы в паспорте не было отметки о первом браке, она, разумеется, позаботилась заранее.
И вот с началом войны эвакуируется сюда, в далекий тыл, жена фронтовика-капитана, потом майора, потом подполковника, советская женщина с хорошей трудовой биографией, с подлинными документами.
И она же – мина замедленного действия, замороженный фашистский агент Дядя, которого берегут для большого дела. Таким стоящим делом оказывается цех «Б».
И – осечка!…
– Случайность! – высокомерно заявляет Маргарита Зиммель на допросе. – Глупое стечение обстоятельств!
– Возможно, – не спорит Глеб Максимович, хотя отлично знает, что происшедшее далеко не результат одного только стечения обстоятельств.
– Мы бы все равно пробрались в цех «Б»! – тонкие нервные пальцы сжимаются в кулаки.
– Возможно, – снова довольно благодушно соглашается Глеб Максимович. – Кстати, знаете, что такое липучка?
– Липучка? Бумага от мух? – Шпионка, пряча свое недоумение и боясь попасть впросак, высокомерно вскидывает голову.
Отняв перо от тетради, в которой ведется протокол, я с любопытством жду, что скажет полковник.
Но он переводит допрос совсем на другие рельсы:
– Скажите, а с Клименко…
– Да! – нетерпеливо перебивает Маргарита Зиммель, раздувая ноздри и еще сильнее откидывая голову. – Да, я сама!
Чем она гордится? Убить беспомощного, не оказывающего никакого сопротивления, оглушенного снотворным старика? Противно…
Маргарита Зиммель неправильно истолковывает мой взгляд:
– Нет! Мне не было страшно!
<Здесь в бумажной книге отсутствовала часть страницы. Содержание утраченного фрагмента понятно из контекста:
Главный герой заканчивает допрос и собирается вместе с Арвидом в баню, попариться перед встречей Нового Года. Но тут вмешивается Глеб Максимович:>
– Вам обоим срочное задание.
Мы переглянулись. Ничего себе встреча Нового года![1]1
Здесь и далее курсивом выделены отсутствовавшие на истрепанном последнем листе бумажной книге слова – восстановлены по смыслу.
[Закрыть]
– Бегите, почистите перышки и не позднее половины двенадцатого – сюда…
Смотрим выжидающе: что дальше? А дальше, оказывается, проще простого – новогодний вечер.
– Вы теперь наши, с нами вам и Новый год встречать – такая уж традиция. Ну, живо, живо, чего ждете!
О том, чтобы попасть в баню, нечего было и мечтать. Мы ринулись домой, развели огонь в печке, стали таскать воду. Включили в дело и Кимку: он с грохотом приволок от соседей невиданных размеров жестяное корыто для купания слонов в домашних условиях. Продраились на славу все трое. И вот, чистый, распаренный, благодушный, в свежем белье, лежа на нарах с задранными к потолку ногами и шутливо пикируясь с Кимкой насчет скорой демобилизации безродного Фронта, я вдруг вспомнил про Седого-боевого.
Какое все-таки свинство! Да, да, дел по горло. Но неужели нельзя было выкроить хотя бы двадцать минут?
Спрыгнул с нар, стал наворачивать портянки. Арвид уставился на меня сверху:
– Куда?
– В госпиталь.
Он тоже стал обуваться.
– А ты куда?
Ответ я знал заранее.
– Пойду, закажу разговор на завтра. – И добавил, сак бы оправдываясь: – Надо ведь поздравить…
Окна госпиталя дрожали в такт не слишком слаженным, зато мощным звукам духового оркестра.
<Здесь в бумажной книге отсутствовала часть страницы. Содержание утраченного фрагмента понятно из контекста:
Главный герой приходит в госпиталь и поднимается в знакомую палату.>
– Капитан Григорэв? – спросил с сильным кавказским акцентом чернявый парень с поднятой к потолку на блоке ногой, похожей на свежепобеленную дорожную тумбу. – Пэрэвэли в палату «Буд здоров».
– Ну-у?
Значит, дела у Седого-боевого пошли на поправку!
Прикрыл дверь палаты и… столкнулся носом к носу с подполковником Курановым. Везет же мне на него!
– Здравия желаю!
– Идемте со мной, лейтенант.
Лицо строгое, губы сжаты. Нотации читать?
– Мне надо в «БЗ».
– Не ходите сейчас. У него жена.
– Приехала? – обрадовался я и за нее, и за Седого-боевого.
– Точнее – переехала.
У Куранова был недовольный вид, но теперь это уже не могло меня обмануть.
– Ох, товарищ подполковник! Вы, да?
Он насупился:
– Что значит – я? В госпитале уже в течение двух месяцев отсутствует начальник лаборатории. Ответственнейший участок, а там хаос… Пойдемте, мне надо посмотреть вашу ногу.
– Зачем?
– Я видел, как вы шли через двор. Что-то сильно хромаете. Должно проходить, а у вас наоборот…
Он долго мял пальцами розовую припухлость над раной, потом постучал кулаком в стену, и из соседней комнаты появился подполковник Полтавский.
– А, моя милиция меня бережет! – его добродушные глаза улыбались за толстыми стеклами очков.
Они поколдовали над ногой, обменялись непонятными для меня латинскими терминами. Потом Куранов сказал, по своему обыкновению очень строго, словно выговаривая за что-то:
– У вас воспаление. Будете ежедневно ходить на лечение. Обождите, сейчас принесу вам временный пропуск.
Он вышел.
– Поможет? – спросил я Бориса Семеновича.
– Новое средство. Весьма эффективное. Вам повезло – пока еще оно имеется только в нашем госпитале.
– Ваше собственное изобретение? – я с трудом натягивал сапог.
Он утвердительно кивнул.
– Во всяком случае, мы – основной испытательный полигон… Только, пожалуйста, – никому! – Это строго секретно.
– Лекарство?!
– Лекарство! Враги интересуются всем…
В этот момент вернулся Куранов с пропуском.
– Берите. Не нужно будет каждый раз обманывать часовых.
Я поблагодарил чисто механически. Совсем другим была занята голова.
Неужели я разгадал, что имел в виду Глеб Максимович, когда вскользь упомянул о липучке – сладкой клейкой бумаге для приманивания и уничтожения мух?
На улице ветер. Через дорогу, извиваясь, ползут торопливые снежные змейки. Начинается метель, самая подходящая погодка для Нового года. Я отвернул голову, чтобы снег не бил в лицо, и пошел на таран.
– Виктор! Подождите, Виктор!
Через дорогу в мою сторону движется что-то большое и лохматое. Адвокат Арсеньев!
– Вы же в больнице, Евгений Ильич!
– Был, был! – Старик явно обрадован встрече – и мне тоже приятно. – Я кое-как переношу свою болезнь, но переносить еще и докторов – это уж слишком…
– Нет, я не сбежал, милый Виктор. Меня просто отпустили. Умирающий друг – против такого аргумента не устоит ни один врач.
– Друг?!
– Друг. – Арсеньев отстранился, словно не веря. – Разве вы больше не в отделении?
– Видите ли, Евгений Ильич, я временно прикомандирован к… – я замялся.
Он пришел на помощь:
– К другой организации?… И ничего не знаете про Павла Викентьевича?
– Он?!
– Это героический человек, милый Виктор! Два года ходить со смертельной болезнью, как с ножом в сердце, знать, что ты обречен, терпеть адские муки…
Я слушал, и холодные мурашки медленно ползли по спине, словно от озноба. Майор Антонов. Пустой взгляд, ледяные глаза, безразличный голос, слова, медленно, словно нехотя процеживаемые сквозь плотно сжатые зубы, а потому особенно обидные: «Идите, я подумаю. После зайдёте еще раз»… Мы, оскорбленные, насмешничали – приступ высокомерия, недержание чванства. А человек, оказывается, собирал в кулак свою волю, чтобы не потерять сознание от дикой боли во время все учащающихся приступов…







