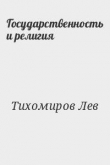Текст книги "Монархическая государственность"
Автор книги: Лев Тихомиров
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 52 страниц)
А. Киреев, М. Юзефович и др.
Из числа других писателей, старавшихся разгадать и определить русское самодержавие, большинство принадлежит так или иначе к школе славянофилов, на все делали это в общих формулах, не дающих способов правового построения политической системы. Прекрасную формулу царя как делегации Божественной власти дал В. С. Соловьев. Внутренний смысл единоличного самодержавия рассматривался Д. Хомяковым *, точно также без всякой попытки построения политической системы на основе этого принципа. Очень много писал о самодержавии Н. Черняев, которого сочинения дают весьма ценные материалы для изучения монархической идеи, но законченной обработки этот материал и у него доселе не получил. А. А. Киреев пользуется большой известностью как наиболее видный из современных представителей чистого славянофильства, но он мало разрабатывал его политическую систему.
* Д. Хомяков, "Самодержавие, опыт схематического построения этого понятия". 1903 г. Этот трактат очень интересен, но издан, к сожалению, "на правах рукописи", т. е., в сущности, недоступен для публичного пользования [97].
Общие взгляды А. А. Киреева сводятся к формуле "Царю принадлежит воля и действие, народу – мнение". Основа отношений политических в России чисто этическая, а посему между царем и народом существует, точнее – должно существовать, полное единение, так что в политической практике "воля" царя и "мнение" народа должны оба находиться в постоянной наличности. Посему, горячо восставая против парламента, А. А. Киреев считает непременным дополнением русского строя Земский собор и местное самоуправление. В последнее время А. А. Киреев писал также о некоторых чисто практических мерах к улучшению современного действия нашей политической машины, но о них я не стану распространяться [Киреев, "Россия в начале XX столетия", Спб. 1903 г. (на правах рукописи)]. Во всяком случае, А. А. Киреев "учения" в смысле системы государственного права не давал. Его труды, имеющие значение в научном смысле, относятся к области религиозной, где он может быть считаем продолжателем А. Хомякова, но не в смысле популяризатора, а в смысле совершенно самостоятельного дополнителя трудов Хомякова по выяснению смысла православия. В этом отношении труды А. А. Киреева заслуженно дали ему звание почетного члена Московской духовной академии.
Нечто среднее между славянофилами и М. Катковым составляет М. Юзефович, которого взгляды вылились в стройную систему, хотя подлежащую критике.
М. В. Юзефович рассматривает судьбы России в связи с миссией христианства. Историческая миссия христианства требовала двух периодов: в первый нужно было "покорить человеку вещественный мир и подчинить его власти все физические силы внешней природы". Второй период должен состоять в "водворении христианских начал в самую жизнь". В общих взглядах М. Юзефовича есть родство с славянофилами, особенно А. С. Хомяковым, и с идеями Владимира Соловьева, хотя в последнем случае некоторое сходство идеи порождено исключительно ходом развития национальной мысли России *.
* "Несколько слов об исторической задаче России". Киев, 1895 г. Эта книга издана уже по смерти его Б. М. Юзефовичем, который нашел рукопись отца своего в числе бумаг покойного.
Итак, первая часть задачи, говорит М. Юзефович, досталась на долю Европы. Вторая должна быть исполнена Россией. Все это выражено в простых афоризмах и не составляет, строго говоря, "учения". Но в частностях развития мысли автора любопытно совершенно своеобразное отношение к Петру Великому и его учреждениям, в чем М. Юзефович уже резко расходится с славянофилами.
Он именно видит в Петре чисто русского гения, ни мало не подражательного, и его учреждения считает не только самостоятельными, но образцовыми, так что и ныне желает восстановления их. Начало подражания Европе М. Юзефович находит у нас лишь в ХЕХ веке, причем является жестоким противником системы министерств. Что касается Петровского сената. Синода и коллегий, он видит в них полное осуществление истинно русских по духу учреждений.
"Петр, – говорит он, – учредил сенат, этот превосходнейший орган нашего соборного начала, совмещавший в себе все функции Верховной власти: законодательную, исполнительную, судебную и контрольную, в председательстве самого царя, с решающим голосом, и служивший, в лице лучших людей страны, действительной связью народного разума с волей единоличного вождя, где он находил совет и помощь и мог проверять как действия исполнительной власти, так и самого себя. В этом органе выражалась мудрейшая формула соборного правового порядка".
Точно так же вместо московских приказов, "Петр поставил под непосредственным контролем сената исполнительные коллегии, исключавшие по самому существу своему прежний личный произвол".
"В области церковной он тоже заменил личный патриархат соборным синодом, этой лучшей охраной апостольских преданий".
Строй столь совершенный был; по мнению М. Юзефовича, упразднен лишь реформами Александра I, которые он жестоко критикует. В этой критике очень много верного. Конечно, бюрократическое начало получило именно с этого времени наиболее широкое развитие. Но что касается Петровских учреждений, то несомненно, что М. Юзефович до невозможности идеализирует их действие, а теоретически уж никак нельзя согласиться, чтобы хоть одно из Петровских учреждений выражало идею "соборности".
Коллегиальность и соборность – это два понятия совершенно различные.
Соборное начало имеет своим смыслом целостное действие какой-либо органической коллективности. Так, соборное начало в Церкви стремится дать целостное выражение мнения и действия всей Церкви, то есть всех миллионов ее членов как духовных, так и мирян. В Земских соборах это начало имеет целью выразить мнение всей нации. Соборное начало, таким образом, ищет всеобщего объединения.
Коллегиальная идея не имеет с этим решительно ничего общего, а выражает простое сотрудничество. Соборное начало предполагает, что нравственное единство возможно и действительно существует. А во всех случаях, когда нравственное единство имеется, управительные органы вполне могут быть единоличными. Предполагается само собой, что общее нравственное единство, выраженное собором, будет выражаться и в отдельных лицах, а в крайнем случае будет хоть давить на них. Поэтому-то именно идея соборности Московской России создала систему "правительственного доверия". Этим доверием очень злоупотребляли воеводы и приказные по недостатку контроля, но как принцип оно, конечно, совершенно необходимо.
У Петра в его "коллегиях", напротив, проявилась, как принято выражаться (и совершенно справедливо), система недоверия. В этой системе та презумпция, что все люди недобросовестны, все – враги добра и правды. Потому-то и нужна "коллегия", чтобы члены ее, взаимно следя друг за другом, не допускали злоупотреблений. Если бы Петр верил в русскую совесть и разум, он бы верил и в соборность и тогда не прибег бы к учреждению коллегий, которые в управительном смысле явно неудобны, медлительны, затрудняют ответственность отдельного человека и т. д.
О том, что синодальное начало ничуть не выражает церковной соборности, не стоить распространяться. Об этом писано много, и я могу сослаться в этом отношении на свою брошюру "Запросы времени и наше церковное управление". М. Юзефович, сверх того, совершенно упускает из виду, что патриаршее управление было также "соборное", ибо при патриархах созывались Соборы для определения общей линии церковного управления.
Что касается сената, то достаточно вспомнить, что это было собрание служилых людей, а вовсе не собрание "советных людей" самой нации. Как орган объединения властей при государе сенат, конечно, имел свое значение, но оставался органом чисто чиновничьим. Объединения государя с народом он не давал и не мог давать. Напротив, он окончательно замыкал царя в круге исключительно бюрократических элементов и тем подрывал связь Верховной власти и нации.
Между тем монархия без этой связи невозможна. Единоличная Верховная власть, для правильности своих функций, не может ограничиться общением с одними бюрократическими учреждениями, но непременно требует около Верховной власти присутствуя народного голоса, народных советных людей. В этом-то смысле Земские соборы и составляют для царской власти учреждение, без которого она у нас стала мало-помалу переходить в чистый абсолютизм.
Петр I, к несчастью, именно и двинул нас на этот путь, и если при Александре I бюрократия поднялась к владычеству на столько ступеней, что сам император Николай I сознавался, что "Россия управляется столоначальниками", то первый толчок к этому владычеству бюрократии был дан учреждениями Петра Великого.
К. Н. Леонтьев
Был у нас в публицистике еще блестящий ум, не признанный при жизни, почти забытый по смерти, а между тем обладавший несравненно более философской складкой, нежели другие по преимуществу практические умы, касавшиеся монархической идеи. Я говорю о Константине Николаевиче Леонтьеве. Блестящий и парадоксальный, он оставил кое-какие очень проницательные обрисовки нашего царского принципа в своем сочинении "Византизм и славянство".
Борясь против славянофильства, Леонтьев доказывал неопределенность и малоплодовитость славянского гения и настаивал на том, что Россия всем своим развитием обязана не славянству, а византизму, который усвоила и несколько дополнила.
Леонтьев ищет внутренние законы государственности. "Государство, – говорит он, – есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоторому таинственному, независящему от нас, деспотическому повелению внутренней вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, сделанная людьми полусознательно и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты и атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая людей". "Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя: она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется в частностях от начала до конца". Эта форма государства зависит от внутренней идеи его. "Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи, в содержании... Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет".
"Вырабатывается она (государственная форма) не вдруг и не сознательно сначала. Она выясняется хорошо лишь в среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует рано или поздно – частная порча этой формы и затем разложение и смерть".
Что же такое русское государство? Что это за форма и какую идею заключает?
Идея дана, говорит Леонтьев, Византией. Что такое визанизм – это в высшей степени определено. "Византизм – в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человека, которое внесено в историю германским феодализмом. Мы знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу... Византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов". Византазм "есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства..." Византизм дает также весьма ясные представления и в области художественной.
И вот именно византизм породил русскую государственность. "Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность и неподготовленность. Поэтому он не мог переродиться у нас глубоко, как на Западе. Он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее".
В собственно государственном смысле византизм нашел у нас почву еще более благоприятную для царской идеи, чем в самой Византии. "Византийский кесаризм имел диктаториальное происхождение, муниципальный избирательный характер... Диктатура в языческом Риме имела значение законной, но временной меры всемогущества, даруемого священным городом одному лицу. Потом (стала) законной же юридической фикцией: священный город перенес свои полномочные права на голову пожизненного диктатора – императора... Христианство воспользовалось этой готовой властью... и помазало ее по православному на новое царство".
"Новое римское государство, еще до Константина утратившее почти все существенные стороны прежнего конституционного аристократического характера своего, обратилось в государство бюрократическое, централизованное, самодержавное и демократическое (не в смысле народовластия, а в смысле равенства, лучше сказать – эгалитарное)... К чиновничьим властям прибавилось (в христианском государстве) новое средство общественной дисциплины – власть Церкви, власть и привилегии епископов... Кесаризм византийский имел много жизненности. Он опирался на две силы: на новую религию и на древнее государственное право... Это счастливое сочетание очень древнего, привычного с самым новым и увлекательным и дало возможность христианскому государству устоять так долго на почве расшатанной, полусгнившей, среди самых неблагоприятных обстоятельств. Кесарей изгоняли, меняли, убивали, но святыни кесаризма никто не касался. Людей меняли, но изменять организацию в ее основе никто не думал".
"Условия русского православного царизма были еще благоприятнее". Идея византийского царя у нас нашла "страну дикую, новую, народ простой, свежий, простодушный, прямой в своих верованиях". "В византизме царила одна отвлеченная идея. На Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах. Родовое монархическое чувство было сперва обращено на дом Рюрика, потом на дом Романовых. Родовое чувство столь сильное на западе в аристократическом элементе у нас нашло себе главное выражение в монархизме. Государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработанное не только аристократии, но и самой семьи... У нас родовой наследственный царизм был так крепок, что и аристократическое начало приняло под влиянием его служебный, полуродовой характер". "Имея сначала вотчинный (родовой) характер, наше государство этим самым развилось впоследствии так, что родовое чувство общества приняло у нас государственное направление".
Условия, при которых к нам перешел византизм, были, говорит Леонтьев, не похожи ни на византийские, ни на европейские. Удельная система была не феодальной, а подходила к тем аристократиям, которые представлял, например, первобытный патрициат. В массе народа была подвижность места, и прикреплялся народ не к месту, а к роду. Родовое начало преобладало и над личным, и над муниципальным. Поэтому наши вечевые конституции были эгалитарны, не имели сильного централизующего элемента (который дает аристократия). Поэтому же вечевое начало не могло противиться царскому началу. Под влиянием внешних врагов снаружи и византийской идеи изнутри удельная аристократия переходила в служебное, общегосударственное сословие.
В общей сложности у нас были всегда крепки только три элемента: византийское православие, безграничное самодержавие и, может быть, сельский "мир".
Наш царизм, возникший из родового быта, окреп и развился под влиянием византийской идеи. "Монархическое начало у нас является единственным организующими началом". Оно проникает в самую интимную глубину и верований и организации России, как целого, как государства и нации.
Таковы в общем взгляды К. Н. Леонтьева. В них тоже нет подробного анализа самой "конституции" этого монархизма, анализа его связей с народом и способов действия. Ибо византийская централизация и бюрократизм не могут же считаться непременной принадлежностью русской государственности, в которой Леонтьев сам указывает не на дикториальное, а родовое начало в появлении монархии.
Что делать? Как править? К каким целям приспосабливать деятельность власти? На эти вопросы Леонтьев общего ответа не давал. Как публицист, он касается многих частных вопросов. Но что касается общих целей, лежащих перед властью, этого он не касался.
Мне кажется, что в определении этих целей он стоял также на византийской точке зрения. Как в Византии думали только о том, чтобы по возможности "сохранить" остатки Римского достояния, а если возможно, то прибавить к ним что-нибудь и из утраченного, так, мне кажется, и для России Леонтьев видел возможность лишь строжайше консервативной политики. Он выражал большие сомнения в молодости России, сильно полагал, что она уже дошла до предельного развития, начала склоняться к дряхлости, когда приходится думать не о развитии сил, а только о том, чтобы поменьше их тратить, помедленнее идти к неизбежному концу. С такими предчувствиями, конечно, не может быть охоты к разработке "конституции" хиреющей страны и монархии, и если бы он дожил до наших дней (1905 г.), то, конечно, признал бы в России все признаки разложения, а не развития. Может быть, он был бы и прав. Но – задачи науки не связаны с судьбами, жизнью и смертью России. Область науки – разум и истина. Вопрос о том, какая страна имеет силу быть в разуме и истине, не изменяет обязанности науки указать истинные законы разумной политики.
Неясность научного сознания
Признавая заслуги русской публицистики по выяснению смысла монархического принципа, нельзя не видеть, что она могла расчищать ему дорогу политического творчества лишь в частностях, но системы и программы не давала. Для общей программы действия какого-либо политического принципа необходимо столь ясное определение его существа и свойства, чтобы отсюда истекало твердое и понятное отношение ко всем запросам жизни: требованиям личности, нуждам социальным, ко всем сторонам права и управления.
Это задача науки. Но, к сожалению, наша наука государственного права остается очень несамостоятельна и неглубока даже и до настоящего времени.
Причина такого явления отчасти заключается и в том, что государственное право по необходимости связано с государственной практикой и положительным законодательством, которые за весь Петербургский период находились под вечным давлением практики и законодательства европейских стран. Как бы то ни было, наше государственное право остается в отношении европейской науки крайне несамостоятельно и не может до сих пор выдвинуть собственного учения о Верховной власти. В этом чувствуется не одна подражательность, а даже слабость (сравнительно со сложностью предмета) самих научных сил.
У такого авторитетного ученого, как А. Градовский, в "Началах русского государственного права", научная мысль не умеет найти даже источников познания русского государственного права. А. Градовский все свои понятия о нашем государственном праве почерпает исключительно из основных законов. Он как бы не может понять, что право существует вовсе не тогда только, когда оно записано. Между тем при всей глубине монархической идеи в самом содержании русской национальной жизни, законодательных определений монархической власти совершенно не существовало до Петра. Это не значит, чтобы в государстве не было самого принципа. Народ знал, что такое царь. Грозный очень сознавал сущность своей власти. Но в законе этого никто не записывал. Лишь при Петре кое-что вписано в закон, да и то мимоходом, и притом именно с ошибками. Эти немногие определения Петра вместе с узаконениями Павла о престолонаследии впоследствии при кодификации были внесены в основные законы с добавлением кой-каких очевиднейших признаков самодержавия. Вот и весь материал для суждения Градовского о таком крупном историческом факте, как русское самодержавие.
Разумеется, с такими научными приемами определения могут получиться лишь самые неясные, неопределенные и произвольные.
Так, Градовский указывает в качестве будто бы отличия русской Верховной власти то, что у нас воля Верховной власти не связана юридическими нормами и не ограничена никакими установлениями.
Но это вовсе не есть что-либо отличительно русское, а составляет признак всякой Верховной власти. Демократическая верховная власть, то есть власть самодержавного народа, тоже ничем не ограничена.
Далее А. Градовский указывает, что при конституционной власти существуют для всех общеобязательные начала, а в России их будто бы нет. Тут точно такая же ошибка.
Всякая конституция обязательна для подданных и для всех делегированных властей, но для самого источника власти, т. е. для самодержавного народа, никакие начала конституции необязательны. Он ее может переделать как ему угодно, и никто не скажет, что он не в праве этого делать. "Верховная власть, – говорит Б. Чичерин, – как таковая, в полноте своей, выше положительного закона. Никакой положительный закон не может связывать Верховную власть так, чтобы она не могла его изменить" ("Основы", т. 1, стр. 29). Само собой разумеется: это вытекает из сущности Верховной власти.
Если бы Градовский умел найти действительные различия между нашею верховной властью и теми, которые он усматривает в Европе, то указал бы эти различия в совершенно противоположном смысл, т. е. признал бы существование некоторых обязательных начал для Верховной власти в русской монархии и отсутствие их в демократии и в абсолютизме. В демократическом государстве нет ничего выше воли народа: даже и нравственные начала для нее необязательны. В монархическом абсолютизме (который есть по характеру власти наследие демократии) то же самое. Но в монархии самодержавной есть обязательные нравственные начала, которые ограничивают юридическое верховенство вообще.
Столь же ошибочно мнение Градовского о том, будто бы в западно-европейских государствах законы должны быть "конституционны", а в России нет. И у нас точно так же нельзя признать обязательность закона, если он не сообразен нашей "конституции". Так, если кто-нибудь насилием исторг у монарха подпись под каким-либо актом законодательного характера, никто бы, конечно, не признал этого акта "законом", ибо тут не было самой воли монарха, которая одна может устанавливать закон...
Таким образом, наш знаменитый ученый-государственник не умеет найти даже определения Верховной власти для русского государственного права. Между тем он даже в европейской науке мог бы найти пути для его отыскания.
Б. Чичерин, определяя самодержавие (монарха), говорит, что он "держит власть независимо от кого бы то ни было, не как уполномоченный, а по собственному праву" (т. I, стр. 134). Это яснее, хотя все же остается узнать, откуда же является "собственное" право? На это у Б. Чичерина нет ответа, а без уяснения этого мы имеем в его определении только внешний признак, а не сущность факта.
Романович-Славатинский пишет:
"Власть русского царя есть самодержавная, то есть самородная, не полученная извне, не дарованная другой властью". Откуда же она является? "Основанием этой власти служит не какой-нибудь юридической акт, а все историческое прошлое русского народа..." "Подобно тому, как самоцветный камень имеет свой собственный, ему присущий, а не извне полученный блеск и цвет, так и самодержавная власть имеет свои собственные, ей присущие, а не извне полученные права..." "Самодержавие воплощает самость (?) и державные права русской нации, которые она получила не извне, но выработала потом и кровью исторического процесса" [Романович-Славатинский, "Система русского государственного права", стр. 77, 198-194].
Все это очень цветисто, но научно точного определения здесь решительно не усматривается. Оба ученые притом объясняют скорее самодержавие "всякой" верховной власти, не касаясь вопроса, есть ли разница между монархическим и демократическим самодержавием, и ни мало не уясняя, почему же у нас самодержавие принадлежит именно монарху, а не народу. Романович-Славатинский говорит даже, что монарх "воплощает" собственно "верховную власть нации", а в то же время уверяет, что власть монарха принадлежит ему "по собственному праву". Тут чувствуется прямое противоречие мысли.
В нашем государственном праве много надежд возбудил Н. М. Коркунов, ум чрезвычайно живой и способный к самостоятельным концепциям. У него есть многое, как бы обещавшее дать новые основы и для понимания самодержавного принципа, а именно в учении о властвовании.
По Коркунову, государственная власть не составляет воли, а есть сила, которая вытекает из сознания людей их собственной зависимости от государства [В этом случае у Коркунова есть внутреннее сродство с идеями Д. Хомякова в упомянутом этюде его "Самодержавия"]. С этой точки зрения власть идет не извне, а изнутри народа, из самой его психологии.
Раз взглянувши так на государственные отношения, можно было, казалось бы, достигнуть правильного построения монархического принципа. Но в действительности именно в отношении монархии вообще и самодержавия в частности Коркунов дает очень мало. У него есть прекрасные мысли о государстве вообще. Сообразно основной мысли его о власти, государство определяется им как "самостоятельное и признанное принудительное властвование над свободными людьми". Государство есть "монополист принуждения", вследствие чего оно уничтожает (или сокращает) всякие другие случаи насилия, а потому создает свободу. А так как государство есть сила не внешне насильственная, а вытекающая из общего внутреннего признания, то его принуждение дисциплинируется правом. Таким образом, это принуждение проникается этическим элементом [Н. М. Коркунов, "Русское государственное право", Введение, глава 1-я, Спб. 1893 г.].
Нетрудно видеть, до какой степени такие определения навеяны именно русским монархическим сознанием, и казалось бы, что Коркунов должен был явиться научными уяснителем славянофильства в русском государственном праве. Но когда мы спросим у Коркунова, что такое монархия, ответ получается совершенно бледный.
Коркунов принадлежит к числу ученых, признающих лишь два (а не три) типа государства: монархию и республику. Различие между ними он определяет так: "монархия есть государственное устройство, при котором функция представлять государство как целое осуществляется как собственное право безответственным лицом. Республика, напротив, характеризуется тем, что функция эта осуществляется по поручению народа ответственными учреждениями" [Там же, стр. 48].
Что касается "самодержавия", то оно Коркуновьм определяется уже просто по своду законов. "Обозначение власти монарха Верховной, говорит он, – показывает, – что ему принадлежит высшая безответственная власть в государстве, как это имеется в каждой монархии. Самодержавие и неограниченность показывают, что вся полнота власти сосредоточивается у нас в руках монарха... Самодержавием существующее у нас государственное устройство отличается от монархии ограниченной, законностью от деспотии, где место закона заступает ничем не сдержанный произвол личный правителя" [Там же, стр. 158].
Таким образом русское самодержавие, по Коркунову, не отличается от монархий европейских тех времен, когда они были еще неограниченными. Существующее же значение монарха есть "функция представления государства" на основаниях безответственности. Все это и неясно, и произвольно, и ничего не объясняет. К Коркунову относятся все возражения, которые сделаны выше и остальным нашим государственникам.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что наше государственное право едва ли что-нибудь сделало для развития нашего монархического сознания и указания каких бы то ни было путей для монархической политики. А между тем наши государственники очень смело ставят своей науке цели именно практические.
"Задачи государственной науки, – говорит профессор А. С. Алексеев, – вовсе не в том, чтобы выставлять определения, которые были бы применимы ко всякому государственному порядку, как бы он в своем развитии ни был отстал (!), а в том, чтобы стоять впереди этого развития и указывать ему путь, соответствующий природе государственных отношений и тем целям, которым должно служить государственное общежитие" [А. Алексеев, "Русское государственное право", Москва, 1895 г., стр. 309].
Не отрицая такой обязанности науки, невозможно, однако, согласиться с первой частью этого утверждения. Наука, если она сколько-нибудь достигла зрелости, конечно, должна создать такие определения, которые бы объясняли нам именно "всякий" строй, как бы он ни был "отстал".
Биология ищет такие определения жизни, которые бы одинаково объяснили законы жизни "отсталой" инфузории и самой "передовой" обезьяны. Математика точно так же объясняет законы как самых элементарных, так и самых сложных количественных отношений. То же делает всякая наука, если она доросла до научности. Отыскание основных законов, объясняющих всякий строй, только и дает возможность науке служить развитию исследуемых ею форм и явлений. И в отсутствии знания этих законов, в отсутствии понимания даже того, что они существуют, словом, в неразвитости научного сознания, конечно, кроются причины того, что наше государственное право, стремясь идти "впереди развития России, и указывать ей пути к совершенствованию" не обнаружило силы дать никаких указаний нашему монархическому порядку.
Наша наука не шла впереди его, не помогла ему найти пути развития, не умела для монархического принципа сделать ничего, кроме компиляции статей законов, столь малочисленных и иногда столь случайных. Это показывает, что при чрезмерной подражательности наша государственная наука не усвоила доселе самого духа европейской научности, ибо еще у Блюнчли наши ученые получили указание пути, следуя которым могли бы как отыскать существенный смысл монархического принципа, так и помочь его поступательному осуществлению в развитом виде.
"В политических вистах, как государственной власти так и народа, – объясняет Блюнчли ["Общее государственное право", глава VII], – юридическое сознание многоразлично обнаруживается и не высказываясь в форме закона. Если дух, проявившийся в них, окреп, освящен преданием, то на него уже наложена печать правомерности". Он уже составляет "национальное право". Блюнчли напоминает, что именно таким путем выросли "важнейшие учреждения и начала права" у римлян, средневековое государственное право и английское государственное право...
Исследование юридического сознания нации есть нормальный путь созидания государственного права, и истинный ученый, не находя в писанном законодательстве достаточно ясных формул или же находя формулы очевидно случайные и ошибочные, должен для уяснения себе, науке и стране истинных начал власти, действующих в ней, смотреть на жизнь, на факты истории страны, психологии народа и из них извлекать познание внутреннего закона государственной жизни, хотя бы этот закон и не был еще записан в томах узаконений и надлежаще опубликован.