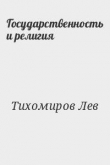Текст книги "Монархическая государственность"
Автор книги: Лев Тихомиров
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц)
Идея личной заслуги
Константин Великой имел намерение сосредоточить права на престол исключительно в своей фамилии. Он не только разделил управление провинциями между своими сыновьями и племянниками, но издал закон, дававший права на престол только "порфирородным", то есть рожденным в особой, так называемой, порфирной комнате дворца.
Этот закон впоследствии был возобновлен Василием Македонянином.
Но законодательные намерения весьма плохо исполнялись, потому что в идеях государства не было уважения к наследственности. Даже завещание Константина не было исполнено, несмотря на совершенно исключительное уважение к его личности. Армия, сенат и народ не захотели признать племянников Константина в числе наследников, и эти несчастные были зверски перебиты бунтовщиками. Завещание было исполнено лишь в той мере, в какой захотел Senatus populusque Romanus.
Характеристичны и толки общественного мнения по поводу наследия Константина.
"Чем больше приобрел Константин славы, – рассказывает Лебо, – тем больше являлось опасений, что ее не способны поддержать его сыновья. Политики замечали, что из всех преемников Августа один Коммод был рожден от отца, уже бывшего императором. Этот пример, единственный до сыновей Константина, казался весьма дурным предзнаменованием. Сверх того политики замечали, что природа вообще плохо служила империи: из приемных сыновей, взошедших на трон, многие были достойны этого. Но из кровных сыновей императоров только Тит и сам Константин не оказались выродками своих отцов" [Лебо, том I, стр. 393].
Все эти рассуждения ясно показывают отсутствие сознания прирожденного права на престол, без отношения к способностям. Римлянину, а потом и византийцу, казалось несомненным, что престол должен занимать только человек наиболее способный, сильный, храбрый и т. п. Эта точка зрения, конечно, весьма естественна при взгляд на императора, не как на власть верховную, а только управительную, как диктатора или первого министра.
Хотя христианство, вообще говоря, благоприятствовало идее монарха, как власти верховной, но первые столетия Византии были эпохою ересей. Борьба между еретиками и православными доходила до ожесточения. Императоры же могли быть только или православными, или еретиками, и в обоих случаях некоторая часть подданных склонна была отрицать в них "Божественную делегацию". Таким образом, незыблемость права на престол еще более подрывалась за эту долгую эпоху ересей. Римская концепция императорской власти тем свободнее продолжала жить в умах и чувстве и закрепилась навсегда. Даже при вступлении на престол всегда соблюдалась формальность избрания императора сенатом, войском и народом.
Но с этой идеей императора, первого министра или диктатора, неизбежно связано требование личных выдающихся качеств.
В силу такой постановки обязанностей императора, на византийском престоле человеку не особенно выдающихся способностей было трудно усидеть. В Византийской государственности выработался настоящий культ личных способностей императора, откуда ряд обычаев – привлекать такие способности на престол посредством усыновления или посредством так называемого присоединения. Так являлось одновременно по несколько императоров. Династичность и легитимность при этом совершенно затуманивались.
Культ способностей в ущерб легитимности, ярко проявляется даже у самих императоров. Так, например, один из лучших византийских царей из династии уже, сравнительно, очень упрочившейся – Иоанн Комнин – назначил своим преемником своего младшего сына Мануила. Он мотивировал это перед торжественным собранием военачальников и сановников в речи, восхваляемой современниками.
"Многим из предшествовавших царей, – сказал Иоанн, – угодно было передавать своим детям власть, как некоторое отеческое наследие. Я и сам получил царство от отца. Поэтому вы, конечно, думаете, что, оставляя после себя двух сыновей, я, по общему человеческому правилу, передам власть и престол старшему". Однако не таково решение царя. "У меня, – говорит Иоанн, – так сильно попечение о вас (подданных), что если бы из моих сыновей ни один по своим качествам не был способен взять на себя бремя правления, я бы избрал кого-нибудь иного, кто пришелся бы по моим и вашим мыслям..."
Но сыновья его, по убеждению царя, оба были хороши. Однако из них лучшим казался младший, а не старший. Отсюда царь выводит такое заключение:
"Так как наилучшему должно быть воздаваемо наилучшее же, а лучше царства ничего не может быть, то это обращает взор мой на младшего сына и присуждает ему жребий царствования" [Киннан (Иоанн), "Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Коминнов", стр. 28].
К этому достаточно характеристическому рассуждению император присоединил еще и такое соображение:
"Провидение само указало моего наследника. Назначение людей на должности принадлежит Богу. Качества же того, кто достоин должности, суть голос Бога, давшего эти качества. Я только объявляю то, что решено Богом" [Лебо, том XVI, стр. 59].
Конечно, при таких точках зрения, всякий очень способный человек мог думать, что он и есть Божий избранник и имеет поэтому право быть царем.
Анна Комнина, стараясь соблюсти беспристрастие в описании узурпаторов своего времени, именно указывает на их чрезвычайные способности.
"Никифор Вриенний, – говорит она, – был отличный воин, происходил от знаменитого дома, украшался высоким ростом и благообразием лица, превосходил всех современников высотой ума и силой мышц. Это был человек, достойный царства, и имел такой дар убеждать и привлекать всех к себе с первого взгляда и разговора, что все военные и частные люди отдавали ему первенство и считали его достойным царствовать над всем Востоком и Западом".
Такими же похвалами осыпается бунтовщик Василаки.
"Этот Василаки был один из людей удивительных по мужеству, твердости духа, смелости и силе. Притом же и душа его была властолюбива... Он был замечателен по высоте роста, крепости мышц, по приятности лица... Он также имел душу мужественную и неустрашимую. Вообще, в стремлениях и взгляде его виднелось нечто властительское" [Анна Комнина, "Сокращенное сказание", часть I, стр. 20-34]...
И вот все эта замечательные люди, вместо того, чтобы сообща служить родине, режутся 1000 лет между собой. Вотаниат низвергает Дуку, Алексий Комнин для Вотаниата уничтожает Вриенния и Василаки, а потом для себя низвергает Вотаниата и т. д. Они режутся, ослепляют друг друга, и в этих междоусобицах самозванных "избранников" проходит половина жизни Византии, и систематически надрывается ее сила.
Борьба за власть
При крайней неясности права на императорскую власть, это глубоко бюрократическое государство, не допускавшее никакой социальной организации, как бы исключало народ из числа активных сил, способных поддержать власть законную и отвергнуть узурпатора. Голос нации был бессилен. Организованные силы партий не боялись ее и легко позволяли себе бунты и заговоры.
Такими активными политическими силами являлись чиновничество с сенатом во главе, и войска. Им принадлежат почти все перевороты, иногда изумительные по наглости узурпации. Так безусловно беззаконный бунт ничтожного отряда, предводимого беспутным, грубым солдатом Фокой, низверг почти моментально одного из лучших императоров, Маврикия, причем были перебиты как сам он, так и семь человек его сыновей.
Войско в Византии тоже не было национальным. Оно составлялось из разнообразнейших наемных иноплеменников, а отчасти составляло особое сословие, наделенное землями и взамен того обязанное военной службой. Это сословие пополнялось не только иноплеменниками, но даже пленными. Какой-нибудь император забирал тысячи пленных "скифов", а затем поселял их на землях военного сословия и зачислял в свои войска. Понятно, как мало общего имели такие войска с византийской нацией. Они за деньги поддерживали императоров. Но собственно законность, легитимность власти, была для этих людей совершенно чужда.
Единственно более национальная часть войск, хотя неблестящая в боевом отношении, были так называемые "бессмертные", вербуемые из чисто гражданского населения.
Любопытно, что именно у них и было более развито легитимное чувство. Когда, например, взбунтовавшийся Алексей Комнин подходил к Константинополю, то решил напасть на ту часть городских стен, где были расставлены немцы, а не на ту, где стояли "бессмертные". "Потому что "бессмертные", – поясняет Анна Комнина, – как туземные подданные царя, необходимо были к нему более расположены, и лучше отдали бы за него жизнь, чем согласились бы сделать что-либо злое против него..." [Анна Комнина, часть 1, стр. 116].
Но "бессмертные" были ничтожным отрядом даже тогда, когда возникли. А вообще войско Византии было совершенно не национальным.
Впрочем, в Византии войско было гораздо сильнее подчинено чиновничеству, чем в старом Риме. С этой стороны византийская бюрократия была искуснее и умела держать армии под своей командой. Большая часть переворотов византийских имели своей движущей силой разные категории правящего мира.
Заговоры и попытки переворотов были в Византии чуть не постоянной нормой политики. Нет ни одного царствования, свободного от этой язвы, от этого вечного кошмара. Если не считать неудавшихся попыток, то все же за 1123 года существования империи в ней произошло 25 перемен династий. Из 25 лиц, произведших эти перевороты, 10 человек не успели утвердиться достаточно для основания своей династии. Все они управляли недолго: от 6 месяцев до 8 лет. Но если узурпатор успевал достаточно утвердиться, то клал начало своей династии. Должно заметить, что в первые 512 лет империи, до торжества православия, власть была еще менее прочна. С окончательным торжеством православия она несколько упрочилась. В свою очередь и первый период Византии по прочности власти все-таки превосходил старую Римскую империю.
Византия значительно улучшила положение. Однако в первую эпоху ее на престоле перебывало 17 династий с 43 императорами. Вторая эпоха (842-1453 гг.) более стойка политически. Она имела лишь 8 династий с 43 императорами. За первую эпоху среднее царствование составляло 11 лет, за вторую – 14.
Но все эти перемены к лучшему не изменяли коренным образом основного тона политической жизни, постоянно полной заговоров и переворотов, кровавых расправ. Едва половина (41 человек) царствовавших лиц получили власть по наследству, 29 человек захватили власть посредством бунта и заговора, 34 императора были низвергнуты, причем 12 были убиты, 3 отравлены, 5 ослеплены, остальные заточены в монастыри или тюрьмы... При этом при каждом перевороте и при каждом усмирении попытки к нему ослеплялось и убивалось множество родственников царствующих лиц или претендентов, защитников царя или сторонников претендента...
Эта постоянная борьба за власть, заговоры, покушения – естественно принуждали власть к бдительности и подозрительности. Общая взаимная недоверчивость, оправдываемая на каждом шагу фактами, порождала интриги, коварство, лживость, наконец, жестокость. Силился ли кто захватить власть или боролся за ее удержание – все одинаково развивали эти качества в себе и других. Сначала, когда в Византии почти не было и мысли о наследственности власти, в переворотах замечается жестокость скорее по увлечению в борьбе. Но когда наследственность стала давать некоторые лишние шансы на престол является жестокость по расчету, иногда даже по необходимости. Приходилось уже губить другого, чтобы не погибнуть самому. Приходилось губить по подозрению не явного врага, а только возможного... Отсюда угрожаемый сам по себе, быть может, и не отваживавшийся на заговор принужден бывал прибегнуть к этому, чтобы спасти себя. Такова была история и Алексия Комнина, который решился на восстание, потому что ему угрожало ослепление со стороны подозревающего его царя.
Первоначально бывали попытки устранить конкурента без убийства, а посредством, например, монастыря или опозорения. Так было при Гераклидах (610-711 гг.). Гераклеону отрезали только нос, в надежде, что человек с такой меткой уж не попадет в императоры. Но через 5о лет такое средство уже не действовало. Юстиниан II, подвергнутый также отрезанию носа, показал, что значить оскорблять человека, не лишая его физической способности отомстить. Убежав через 10 лет из ссылки, он захватил отнятую у него власть и жесточайшей тиранией расплатился за обиду. Таким образом убийства и ослепления при постоянных переворотах навязывались сами собой. Система привлечения к престолу способных и энергичных людей принесла плоды, и византийский политический мир блещет такими необычайными талантами и особенно энергией, как быть может, ни в одной стране мира. При невысокой нравственности, при страшном преобладании хитрости и даже коварства, византийские политиканы поражают энергией и какой-то неукротимой органической силой. Их ничем невозможно было усмирить. Они убегали из тюрем, уходили и из монашества. Даже ослепленные мечтали все-таки о царстве и добивались царства, не говоря уже о том, что играли крупную государственную роль на министерских постах, как, например, Филантропии. Культом способностей Византия умела привлечь к политике людей необычайной силы, которые верили в себя с безусловностью "сверхчеловеков", и, действительно, представляют совершенно неслыханные образчики силы, как, например, Андроник Комнин (Тиран) или Михаил Палеолог, не говоря о ряде таких людей как Цимисхий.
Но вечная жестокая борьба, приучая к неразборчивости средств, и при ослаблении и заглушении голоса общественного мнения, страшно развращала их постоянной дилеммой: владеть всем или погибнуть жалким, ослепленным или изуродованным рабом.
Иногда даже люди высокой души, полной нравственного достоинства, принуждены были идти путями грязи и преступления, как Тиверий и Василий Македонянин. Преобладание личного элемента над общественным, постоянно губило византийское государство. В самые последние времена Византии, силы страны, угрожаемой турками, были подорваны окончательно восстанием Катанкузена по мотивам чисто личным, хотя это был человек редкой душевной высоты и соединял в себе все качества нравственности и талантов.
Эта борьба за власть извратила Византийскую государственность и погубила государство. Начало же ее крылось в римских традициях власти, а причина пышного развития – в том, что строй бюрократический не дал возможности развиться строю социальному, вследствие чего истинная монархия, которая носилась перед взорами Константина и возможность которой открывало христианство – не могла осуществиться в Византии.
Исчезновение патриотизма
Каждый Византийский монарх, не имея твердой опоры в дезорганизованном обществе, должен был охранять себя сам своим умом, своей хитростью, гвардией, полицией и держался непрочно. Легкость заговоров и переворотов деморализовала правящий слой чиновный, служебно-аристократический, и давала ему множество способов держать автократора в своих руках. Имея такую власть, бюрократический слой держал в руках и дезорганизованную нацию, вследствие чего мог позволять себе всякие хищения и насилия. Отрезанный от народа, автократор не мог даже уследить за своей бюрократией, ибо не имел того величайшего средства контроля за управительной машиной своей, какое составляет наблюдение управляемых.
О византийском чиновничестве нельзя думать хуже, чем о каком другом. В этой бюрократии собирались люди больших способностей. Немало можно указать в ней даже высокого сознания долга. Но ненормальное положение единственных владык государства, развращало и добродетельных людей. Грабежи византийских чиновников иногда беспримерны. На них жаловались императоры с самого начала, но никогда не могли исправить своих слуг.
Они иногда внушали и самим императорам совершенно невероятные поступки. Так известный взяточник Коден дал Михаилу Палеологу идею, вместо взимания налогов с крупных землевладельцев Малой Азии брать в казну все доходы с их имений, а собственникам выплачивать пенсии в 40 золотых (600 франков) в год. Этот неслыханный грабеж, обогативший более Кодена нежели императора, был прекращен только братом Палеолога [Лебо, т. ХVIII, стр. 151].
Если были возможны такие факты, то излишне упоминать о взяточничестве. В результате государство, представлявшееся в конце концов только в виде этой чиновнической организации, теряло симпатию подданных.
Но и сами граждане, отвыкая собственными усилиями и надзором поддерживать между собой должную справедливость, развращались. Каждому начинало казаться, что дело справедливости – какое-то чужое дело, не касающееся его. Постоянное зрелище злоупотреблений и неправды подрывало веру народа в государство, разъединяло его с государством и нравственно. Все это и назревало постепенно в Византии. Оставался жив еще только идеал царя, потому что он связывался с религиозными представлениями. Также и в самом автократоре религиозное чувство, сознание миссии "Божия служителя" поддерживало готовность охранять справедливость. Но возможности на это он имел очень мало. В каждую же минуту испытания, которых у Византии было так много, общая дезорганизация нации и ее разобщенность с государством сказывались самым тяжким образом.
Эта дезорганизация вполне назрела в эпоху первого крушения Византии, при завоевании крестоносцами. Бюрократический слой показал себя тем, чем он был: насквозь прогнившим. Он всегда смешивал государство с самим собой и служил государству, служа себе. Когда государство рушилось, чиновничество показало себя вполне изменническим в отношении нации. Нация же оказалась, во-первых, лишенной самомалейших центров организации, а потому неспособной поддержать государство, а, во-вторых, в ней проявился полный индифферентизм даже к поддержанию такого государства.
Не говорю о поразительной легкости самого завоевания Константинополя крестоносцами, которые даже не представляли себе возможным взятие города. Только трусливая деморализация населения показала крайнюю легкость кажущегося невозможным дела. Это, допустим, еще объясняется безумно-преступным поведением обоих императоров. "Сонливость и беспечность управлявших тогда Римским государством, – говорит современник и свидетель, – сделали ничтожных разбойников нашими судьями и карателями" [Никита Хониат, "История", том II, стр. 318. Там же, стр. 348-349].
Но само отношение значительной части населения к происшедшей катастрофе высоко характеристично. Когда несчастные толпы ограбленных и измученных жителей бежали из города, то уже в ближайших местностях, – рассказывает Хониат, – "земледельцы и поселяне вместо того, чтобы вразумиться бедствиями своих ближних, напротив, жестоко издевались над нами, византийцами, неразумно считая наше злополучие в бедности и наготе уравнением с собой в гражданском положении. Многие из них, беззаконно покупая за бесценок продаваемые их соотечественниками вещи, были в восторге от этого и говорили: "Слава Богу, вот и мы обогатились..." Вообще "люди низшего сословия и рыночные торговцы спокойно занимались своими делами". Чтобы образумить их, потребовалось жестокое грабительство со стороны крестоносцев. Тот же Хониат горько жалуется на встречу его в Нике, куда он укрылся после бегства из Константинополя.
"С той самой поры, как мы поселились при Асканийском озере в Никее, главном город Вифинии, мы, наподобие каких-то пленников, не имеем ничего общего с этим народом, кроме земли, по которой ходим, и Божиих храмов, оставаясь во всем прочем вне всякого соприкосновения". "Не того, – говорит Хониат, – совсем не того ожидал я сначала, иначе я бы и не перебрался на Восток... Между прочим они приписывают потерю Константинополя нам, членам сената", замечает злополучный беглец.
"Этот бесчувственный народ, – прибавляет он, – не только не желает возвращения Константинополя, но упрекает, напротив, Бога, почему Он давно, почему Он еще жесточе не поразил Константинополь и вместе с ним нас, но отлагал казнь, доселе щадил, терпел человеколюбиво..." Поэтому вместо выражения сочувствия горю "они еще осыпают нас насмешками..."
Должно вспомнить, что население Вифинии было, однако, не каким-нибудь отпетым, но показало себя наиболее патриотичным, и именно в этом осколке империи Ласкарисы успели воссоздать греческое государство (Никейская империя). Но, как видим, этому наиболее порядочному населению Византийский строй и деятели казались прямо преступниками, заслуживающими самой жестокой кары Божией.
Завоевание остальных областей империи, после падения Константинополя, совершилось с поразительной быстротой и легкостью. Повсюду видим одну картину. Служилый слой показал себя продажными наемниками, и, тотчас после падения отечества, повсюду предлагал свои услуги новым господам, возбуждая их полное презрение.
Император Балдуин, отправившись на завоевание западной части империи, тотчас нашел "римлян военного и гражданского звания, предложивших ему свои услуги", которые он впрочем с презрением отверг. Когда маркиз Бонифаций, для более легкого захвата византийских областей, обманно провозгласил императором Мануила, сына своей жены, прежде бывшей замужем за Исааком Ангелом и имевшей от него этого Мануила, его сопровождали "несколько человек римлян (т. е. Византийцев), преимущественно знатных фамилий, по обманчивой и коварной видимости, привлекая расположение областей, будто бы к этому отроку, облеченному в царскую порфиру, а в действительности служа проводниками и руководителями в действиях Маркизу и латинянам, и таким образом являясь предателями отечества".
Под действием этого обмана фракийцы, македоняне и жители Эллады с радостью впускали к себе врагов, думая, что принимают своего греческого императора. "Таким образом Маркиз овладел без сопротивления доблестнейшими народами и могущественнейшими городами".
Вообще люди правящего слоя, всех чинов византийской бюрократии, соперничали в гнуснейшей подлости.
Император Алексей III, брат Исаака Ангела, бежал. И вот "римляне сопровождавшие Царя – то были большей частью люди знатного происхождения, известные военным искусством – также пошли к маркизу Бонифацию и предложили ему свои услуги". Маркиз отклонил предложение. Тогда они подали прошение о принятии их на службу к императору Балдуину, а когда и он не пожелал их купить, эти доблестные "римляне" обратились к Иоанну Мизийскому, начинавшему в это время войну против Балдуина" [Эти подробности смотри у Хониата].
Эти позорные сцены не были чем-нибудь исключительным. Такая же повальная измена замечалась в Азии во время успехов турок. Константинополь, центр и представитель этого строя, возбуждал в конце концов недоверие даже у людей, искренно преданных монархам.
Когда Стратагопул, при Михаиле Палеологе, взял у крестоносцев Константинополь, и двор императора со всей Никейской империей ликовали, Феодор Торник заплакал. Это был мудрый старец, знаменитый родом и заслугами в деле восстановления империи в Никее... С грустью он произнес пророческие слова: "Империя погибла!"
На изумленные вопросы окружающих о мрачных словах его в столь радостную минуту торжества, Торник отвечал, что теперь у греков опять все придет к развращению. "Злополучная судьба государств, – сказал он, – все доброе исходит из деревни и сначала дает блеск столице, но в столице все портится и возвращает обратно только пороки и бедствия" [Лебо, т. XVIII, стр. 94].
Вот какой пессимизм возбуждался в лучших людях Византии в отношении византийской государственности. А между тем они и до конца не заметили, что дело не в "деревне" и "столице", а в том, что в Никейские времена автократор, спасаясь в глуши, поневоле жил с народом и свое управление строил на социальных силах. Он это мог бы делать и в Константинополе, если бы только "абсолюстская" идея не толкала его, наоборот, в крайности бюрократического режима.
Причины гибели Византии
Византийское государство прожило с лишним 1000 лет. Некоторые считают это сроком достаточно продолжительным, и даже видят в нем указание на совершенство государства. С этим, однако, нельзя согласиться.
Та национальность, с которой было связано Византийское государство, то есть греки средневекового периода, не погибла и не уничтожилась с насильственным прекращением Византийского государства. Напротив, эта национальность обнаружила большую живучесть и умела даже при турецком владычестве сохранить почти господствующую роль на пространстве прежней своей империи. Нет никаких оснований думать, чтобы эта национальность не могла поддержать своего государственного существования хотя бы и до настоящего времени. Нельзя также сказать, чтобы Византийское государство было уничтожено внешней необоримо сильной национальностью. Турки не представляли никакой особенной материальной силы по своей малочисленности. Византия имела до пришествия турок долгие сотни лет, в течение которых могла бы претворить в свою национальность и втянуть в свою государственность множество свежих и сильных племен. Она могла бы это сделать, если бы имела внутреннюю силу ассимиляции, и если этого не сделала, то по некоторому внутреннему бессилию, а не по причине внешних необоримых противодействующих сил.
В истории Византии весьма достопримечательна пассивность в отношении внешнего расширения своих областей и своего культурно-государственного типа. Все мечты Византии были направлены к тому, чтобы удержать от расхищения то, что она имела и, если возможно, возвратить обратно римское наследие... Тень древнего разрушающегося Рима тяготела над ней с начала до конца.
Причины этого консерватизма, очевидно, были не религиозного характера. Христианство – религия наиболее универсальная и потому наиболее полна духа прозелитизма. Как европейские государства, так и Россия служат живым примером того, до какой степени христианство способствует национальному расширению народов и образованию сложных национальностей из племен даже далеко не родственных. Христианская идея Царя, "Божия служителя", давала для этого Византии могучий объединяющий принцип, чуждый племенных или сословно-партийных суживающих тенденций. И оба эти фактора, религия и царский принцип, действительно, сослужили Византии огромную службу. Ими она и держалась и в них находила жизненность.
Но дело в том, что Византийская государственность лишь в очень малой степени строилась на идее Царя – Божия служителя. Эта идея только освятила абсолютистскую власть, которая, однако, не получила перестройки сообразно с ней, сохранила юридически старо-римский смысл.
Император остался тем, чем был в Риме: абсолютной управительной властью, вследствие чего сосредоточивал в себе не одно направление дел, а все их производство. Различия между посредственными и непосредственными функциями Верховной власти в Византии осталось неизвестным. Отсюда явилось развитие бюрократизма.
Государство тут строилось не из нации, а образовывало особую правящую корпорацию чиновников-политиканов, которые действовали от имени императора, но в то же время сами создавали императоров.
Отсюда являлся целый ряд зол:
Императорская власть, будучи всеобъемлющей, не была самостоятельной, не могла получить характера верховной. Она не могла иметь должного контроля за управлением. Она отрезалась от народа. В результате, нравственный характер власти мог сохраняться лишь постольку, поскольку это успевала делать Церковь. Но постоянные перевороты выдвигали людей такого типа, который вовсе не легко поддается нравственно-религиозному воздействую. Таким образом, даже и с точки зрения нравственной, произвол в Византии не был надежно обуздываем.
Бюрократия сама тоже чрезвычайно развращалась от своего же всесилия, от отсутствуя общественного контроля, от неимения обществом никаких органов, способных помочь Верховной власти контролировать и обуздывать бюрократию. Вся такая политическая обстановка действовала, наконец, деморализующе и на само общество, отчуждавшееся от государства.
Таким образом, роковым обстоятельством в Византийской государственности было отсутствие или чрезмерная слабость строя социального. От этого портилась вся машина государственного действия, и от этого же Византия теряла способность ассимилирующего воздействия на народности, входящие в состав империи, или ее окружавшие. Византийская государственность не привлекала к себе эти народы, напротив, являлась для них антипатичной, как сила только эксплуатирующая, но не дававшая почти ничего и сверх того сулящая народностям империи только порабощение чиновничеством. Социальные силы всякой провинции, всякой народности, при включении в состав империи, обречены были на захирение и уничтожение. Но при таком условии, самостоятельного стремления быть с Византией, войти в ее состав, не возникло и не могло возникать нигде. И вот в результате общая схема жизни империи состояла в том, что империя постепенно уменьшалась, теряла область за областью, на минуту кое-что расширяла, но потом опять шла на убыль. Количественная сила империи постоянно уменьшалась. И чем слабее количественно она становилась, тем тяжелее делалось для населения содержать грузную бюрократическую административную машину Византии. Такой ход эволюции неизбежно предсказывал роковую развязку. Сила турок могла развиться только потому, что на это им дало возможное растущее захирение самой Византии.
Политическая смерть Византии, таким образом, всецело обусловилась недостатками ее государственной системы, не только не развивавшей социального строя, но даже всеми силами не дававшей ему развиваться. Религиозное начало несколько парализовало злополучные тенденции бюрократического строя, душившего то, на чем вырастает сила государств: строй социальный. Церковь, насколько это ей свойственно, заменяла собой недостаток социальной связи. Церковь, насколько это возможно для нравственно-религиозного влияния, оздоровляла нравы, развращаемые политической системой. Церковь, наконец, придала императорам до некоторой степени значение Верховной власти.
Но старо-римский абсолютизм, неизбежно рождающий централизацию и бюрократию, не дал возможности византийскому автократору развиться в истинную Верховную власть, направляющую управление, производимое ею посредством всех социальных и политических сил нации, а не одной бюрократии.
Этим и обусловилась гибель византийской государственности, не умевшей пользоваться социальными силами.
Настоящий тип монархической Верховной власти, определяющей направление политической жизни, но в деле управления строящей государство на нации, живой и организованной, – этот тип государственности суждено было, впоследствии, развить Московской Руси, взявшей благодаря урокам Византии, монархическую верховную власть в основу государства, а в своем свежем национальном организме нашедшей могучие силы социального строя, в союзе с которым монарх и строил свое государство.