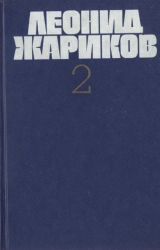
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Леонид Жариков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Бабушка Аграфена, ослепшая и слабая, уже с трудом понимала, что происходит вокруг нее.
Поздно вечером дверь распахнулась и в дом вошли двое рослых красноармейцев в новеньких полушубках, с автоматами в руках.
– Здравствуйте, товарищи! Показывайте, куда спрятались фрицы!
Увидев столпившихся у кровати людей, красноармейцы подошли. Первый, разрумяненный морозом, почтительно снял с головы шапку.
Бабушка Аграфена насторожилась. Она прислушивалась к звукам и, казалось, понимала, что пришли свои. Бледная улыбка затеплилась на ее лице.
– Пришел? – ласково спросила она, думая, что вернулся тот связист, который последним уходил из города и обещал ей скоро вернуться.
– Пришел, бабушка! Все пришли! Гоним фашистов и оглянуться не даем!
– Ну и слава богу, – вздохнула бабушка облегченно и, усталая, впала в забытье. Люди стояли вокруг и ждали, когда бабушка Аграфена откроет глаза, но она их больше не открыла.
1981
ПЕСНИ БОРЬБЫ
ПИСЬМА В ВЕЧНОСТЬ
Жизнь моя песней звучала в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.
Муса Джалиль
Киев стоит высоко над Днепром. Когда над Лаврой встает солнце, Днепр становится ярко-голубым. Он виден на десятки километров вокруг, и тяжелые мосты, перекинутые с берега на берег, кажутся игрушечными.
Днепр, величественный и гордый, седой от старины и кипящий молодостью! Сколько тысяч лет несет он свои воды по степям Украины! Сколько событий хранят его голубые воды! Сколько сложено песен про его былую славу!
Здесь жили дикие скифы и проплывали варяги на своих раскрашенных лодках. На самой высокой горе стоял грозный бог славян – деревянный Перун. Здесь князь Владимир крестил свою дружину и киевлян. Здесь бились с врагами чубатые казаки Запорожской Сечи. Тарас Бульба проезжал по этим степям на своем горячем скакуне.
В Октябрьские дни над Днепром грохотали пушки, атаманы рыскали по кручам со своими шайками, и долго плыли вниз по реке герои-мученики комсомольцы, казненные бандитами под Трипольем.
Днепр, величественный и гордый, седой от старины и ярый от молодости. Когда ветер дует с низовья, Днепр темнеет. Белые барашки пены испуганно мечутся по воде, и рыбачьи лодки спешат к берегам.
Ветер крепчает, и Днепр становится страшным. Огромные валы черной воды, рокоча, обрушиваются на берег, обрывают привязанные канатами баржи, и тогда люди бегут от Днепра. Он воскрешает в памяти неповторимое время грозных битв, когда люди шли на смерть, чтобы обрести бессмертие.
Тогда тоже ветер дул с низовья и Днепр был мрачным и пустынным. Ветер выл в оборванных проводах, хлопал форточками опустевших квартир, срывал с людей солдатские шапки с красноармейскими звездами и катил их по мостовой под веселый хохот идущих на фронт. Гнул деревья к земле, срывал с домов наклеенные объявления и уносил их к Днепру. Листки долго мелькали в воздухе, прежде чем упасть в черную воду, и, когда падали, волны подхватывали их и увлекали с собой. Плыли они, послушные воле реки, и глядели в небо мелкими рядками огненных слов:
«Военно-мобилизационный отдел Союза Коммунистической Молодежи во исполнение постановления общегородской конференции объявляет:
1. Весь союз объявляется частью действующей Красной Армии.
2. Каждый член союза обязан явиться в мобилизационный пункт (Клуб юных коммунаров, Крещатик, № 1) сегодня, 18 июля, от 10 час. утра до 8 час. вечера.
3. Никакая причина не может служить поводом для того, чтобы не явиться в мобилизационный пункт.
4. Все предприятия и учреждения не должны препятствовать членам союза, работающим у них, явиться в мобилизационный пункт.
5. Члены союза – курсанты школ красных командиров и красноармейцы действующих частей от явки освобождаются.
6. Рабочая молодежь, члены профессионального союза могут также явиться добровольно с удостоверением от фабзавкомов, с профбилетами и рекомендацией члена союза и компартии.
Все к оружию в этот грозный час! Молодые коммунары, выше знамя! Революция требует разгромить Деникина.
Военно-мобилизационный отдел КСРМ».
Лютый ветер дул со степи, и Днепр закипал яростью. Тяжелые волны с шумом кидались на мосты, а полузатопленные пароходы качались на воде, как мертвецы.
Из-за далекого Дона шли белые полки генерала Деникина. Кулацкие банды окружали города, сдавливая их жадными лапами ненависти.
Днепр бесновался, скованный берегами. Ветер с визгом пролетал над водой и спешил дальше, к Арсеналу, где строились в боевые колонны вооруженные арсенальцы. Многие еще неумело, но крепко держали винтовки. Их строгие лица отражали решимость. Они шли по улицам города с песнями, шли в свой первый и последний бой.
Комсомольцы, славные вестники новых времен! Они смело шли на смерть, и Днепр стонал от ярости, точно хотел вырваться из берегов навстречу врагу, сжигавшему Украину.
Шли комсомольцы от Херсона и Чернигова, из Юзовки и Екатеринослава, шли упрямо, с верой в победу – и побеждали, падая замертво, посылали письма в вечность, оставляли короткие, написанные кровью слова прощания. Они писали эти слова в последние минуты жизни, писали на клочках бумаги, на стенах тюремных камер. Они посылали их тем, кто оставался жить, кто продолжал сражаться на фронтах и гордо нес красное знамя свободы.
Безусые юнцы, они еще не умели жить, но бестрепетно шли на вражьи штыки, стреляли до накала ружейных стволов, а если выходили патроны, бросались грудью вперед. Падая под вражескими пулями, они передавали товарищам свое мужество, свою ненависть к врагу и светлую веру в победу. Приходили новые бойцы, принимали эту веру, как знамя, и продолжали бой.
В этом бессмертие юных героев, бессмертие коротких и пламенных писем: они вошли в вечность, эти листки, полные жизни, огня и ярости.
«Дорогие товарищи!
Меня арестовали во вторник, то есть педелю тому назад. У меня ничего не нашли. Арестовавши, били, не верили, что я поляк. Весь вторник я просидел в уголовном розыске. Ночь со вторника на среду – в петропавловском участке. Приблизительно до полудня был спокойный, ибо думал, что меня скоро отпустят. Через полчаса меня вызвали на допрос. Там меня били чуть ли не целый час. Били резиной, ногами, крутили руки и ноги. Одну ногу протянули до лица, другую – до затылка, поднимали за чуб, клали на лавку и танцевали по телу, били в лицо, зубы, но так, чтобы не было следов. Наконец рассвирепевший от моего молчания Иваньковский, первая сволочь в мире, ударил меня револьвером по голове. Я упал, залившись кровью. Несколько раз терял сознание. Под влиянием этого я признался, что работал. Мне угрожает смерть, если до этого не случится что-нибудь необыкновенное.
Ночью я дважды пробовал выскочить из окна 4-го этажа, но меня ловили и снова били.
На рассвете меня снова вызвали на допрос и требовали, чтоб я выдал фамилии или адреса товарищей, которые работают со мной. Снова долго били и ничего не добились, потому что на все вопросы я отвечал, что не знаю.
Велели подписать дознание. Я подписал. Потом Иваньковский, махнув рукой, велел отвести меня в участок. Фактически я уже распрощался с жизнью, и если случится так, что я останусь жить, это будет для меня приятный и неожиданный подарок, выигрыш жизни.
Теперь, когда рана на голове заживает, когда по так ощущаешь боль во всем теле и жизненная сила охватила организм, а ближайшие перспективы на воле такие заманчивые, хочется жить, хотя бы что. Без борьбы я не сдамся, без борьбы не умру. И если придется все же умереть, то я встречу смерть с высоко поднятой головой.
Прощайте!
Это письмо дописывалось, когда над морем пылал закат и Одесса, запятая белыми, кипела в пьяном веселье. В ресторанах гремела музыка, офицеры пили заморские вина, стреляли в зеркала, в лакеев и сиплыми голосами пели «Ойру». А над морем пылал закат, и приговоренные к смерти комсомольцы торопливо писали последние слова прощания, последние слова в своей жизни.
«Славные товарищи!
Я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Через восемь дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что погибну так. Жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь я чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как я вела себя при аресте, при приговоре, вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом.
Целую мою маленькую мамочку-товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. Ведь я умираю честной коммунисткой. Мы все, приговоренные, держим себя прилично и бодро. Сегодня читаю в последний раз газету. Уже на Борислав, Перекоп наступают красные. Скоро, скоро вздохнет вся Украина и начнется живая, со-звательная работа. Шаль, что не смогу принять участия в ней.
Ну, прощайте, будьте счастливы!
Дора Любарская».
Искры не могут гореть вечно, и чем ярче вспышка искры, тем короче ее жизнь. Но из искры возгорается пламя, грозное, негасимое. «Прощайте!» – говорили комсомольцы, умирая, и это слово звучало не как страдание, а как призыв к борьбе, в которую так верили они.
«Милые, родные!
Через 24 часа меня повесят в „назидание потомству“. Ухожу из жизни с полным сознанием исполненного долга перед революцией. Не успела много сделать. Что ж? Глубоко убеждена, что процесс 17-ти имеет большее значение для революции, чем смерть 9 человек из числа их.
Милая сестра, не тужи обо мне. Будь революционеркой, успокой маму.
Завещаю твоему малышу сделать то, чего не успела сделать я на революционном поприще.
Очень бодра, удивительно спокойна, и не только я, но и все остальные. Поем, ведем беседы на политические темы, после двух недель ареста сразу почувствовала себя свободной. Только жалею и тужу, что осудили многих слишком строго. Мне 20 лет, но я чувствую, что стала за это время гораздо старше, мое желание в настоящий момент, чтобы все мне близкие отнеслись к моей смерти так, как отношусь я, – легко и сознательно.
Прощайте!
Да здравствует коммунистическая революция!
Ида Краснощекина».
Немало девушек заплачет, читая эти горькие и гордые строки, но ни одна из них не поколеблется, если придется отдать за Родину свою жизнь. Они примут смерть так же стойко, как их старшие подруги, погибнут с их именами на устах, с их прощальными словами в сердце.
Шел девятнадцатый год. Полтавский губернский комитет комсомола объявил о героической гибели шести комсомолок, чье прощальное письмо было написано осколком кирпича на стене тюремной камеры: «Прощайте, товарищи! Прощай, родной комсомол!»
Этих девушек зарубили белогвардейцы на кременчугском мосту через Днепр. Они хватались руками за острые сабли, чтобы хоть на мгновение оттянуть смерть. Они хватались за сабли и кричали в темную пустынную ночь: «Прощайте, товарищи! Прощай, родной комсомол!» Днепровские волны похоронили их. Девушки умерли храбро, как настоящие солдаты. Они верили: помощь идет, идет победа. Ее несли на разгоряченных копях богатыри-буденновцы, несли красные воины на штыках. Они спешили на помощь и сражались беззаветно.
Сколько сохранила история этих трогающих сердце, простых человеческих документов:
«…Враги двинулись в обход. Раненный в руку курсант Бобринов собрал красноармейцев N-ского полка, стоявшего на левом фланге, и бросился во главе их на обошедших с флангов врагов. Те побежали.
Курсант Косырев, будучи раненным в грудь, не покинул строя. Истекая кровью, он ободрял товарищей. Сам стрелял из пулемета по врагам, мчавшимся во весь опор, стрелял до последней минуты, пока белые не изрубили его шашками и не подняли на пики».
В легендарной шахтерской степи махновцы захватили в плен комсомольца-разведчика. Бандиты пытали его, а он отвечал пением «Интернационала». Тогда враги привязали его к мотоциклу, подожгли вместе с машиной и, включив мотор, пустили его в ночную степь. Комсомолец принял мученическую смерть, по горящее тело его осветило степь, как пылающее сердце Данко.
Пусть безвестные могилы давно заросли степными цветами, но память о них живет. Ведь это от них – из одних ослабевших рук в другие – передавался и дошел до нас гордый клич: «Комсомольцы умирают, но не сдаются!»
«Здравствуйте, дорогие родители!
В первых строках моего письма спешу послать с красного революционного фронта свой привет и самые лучшие пожелания. Я жив и здоров, не беспокойтесь обо мне. Разобьем белогвардейские банды, вернемся обратно в свои пролетарские хижины и заживем счастливой жизнью в нашей Советской Республике, где не будет паразитов, которые раньше, как клопы, сидели на нашей шее и пили нашу кровь. Теперь, дорогие родители, мы ведем последний, решительный бой с буржуазией. Она от наших пролетарских штыков дрожит…
Вероятно, местная буржуазия и кулаки нашептывают вам в тылу: вот скоро придет Колчак, установит порядок. Не верьте лживым словам и слухам. Для буржуазии непорядок, а для нас, трудящихся, порядок. Диктатура бедняка не щадит буржуазию, бьет ее на каждом шагу, на каждом перекрестке.
Затем до свидания, дорогие родители, пожелаю вам всего наилучшего.
Пусть гром великий грянет над сворой псов и палачей.
Красноармеец Г. Пажин».
Где, на каком боевом этапе пал безвестный герой? Но как благородна была его жизнь, как светла вера в победу!
«Прочти и передай товарищу!
Дорогие братья и сестры!
Полиция снова арестовала невинных людей.
Те, что писали листовки, на свободе.
Этим извергам и палачам никогда не убить правды. Правду не закуешь в кандалы. Ее не сгноишь в тюремном подвале.
Арестами и пытками немцы хотят поставить нас на колени.
Не выйдет!
Мы будем мстить за каждого арестованного шахтера, за каждую замученную женщину.
Смерть за смерть! Око за око!»
Скорее всего эту листовку писала Уля Громова – очень схож почерк с тем, каким писала она школьные сочинения по литературе и выполняла задания по истории… Она сама творила историю вместе с боевыми товарищами – молодогвардейцами…
Подобно роднику, бьющему из глубин, никогда не иссякнет героизм народа, разбуженного призывом к свободе!
Горят обагренные кровью строки, написанные на всех языках мира. Они – документы борьбы, завещание живым:
«…Я умираю молодым, очень молодым. Но есть во мне нечто такое, что не умрет вовек, – моя мечта. И никогда еще она не возникала перед моими глазами такой светлой, такой радостной и такой уже недалекой теперь…
Кончаю письмо. Стрелки часов бегут. До смерти осталось только три часа. Кончается моя жизнь.
Скоро настанет холодная зима, но за ней придет чудесное лето. Я посмеюсь над смертью, потому что ведь я не умру, а буду жить вечно – мое имя будет звучать не похоронным звоном, а колоколом надежды…» [28]28
Из письма Фелисьена Жоли, французского коммуниста, партизана, казненного гитлеровцами.
[Закрыть]
Днепр, величественный и гордый, седой от старины и вечно молодой! Когда в небе поднимается солнце, Днепр кажется синим. Плывут вверх и вниз по реке пароходы, белоснежные, праздничные, тянутся за чумазыми катерами баржи, осевшие от грузов по самые линии бортов. В дымке видны дальние днепровские рукава, плесы, лиманы, тянется неровная линия песчаного пляжа, мимо которого, как белые чайки, проплывают крылатые парусники.
С днепровских круч простирается неоглядный простор, и кажется, видны отсюда и Дон, и Волга, и величавая Сена, и далекая Миссисипи – реки Человечества, реки жизни и борьбы, реки, соединяющие людей и разъединяющие их. Пусть же несут они: одни – гнев пробуждения, другие – жажду свободы, третьи – мечту, что не умирает вовек.
1938
ПРОЩАЙТЕ, МЕНЯ ВЗЯЛИ НАВЕКИ…(Реквием)
Сладко пахнет горькой полынью… Но почему ты здесь, степная подруга моя, откуда взялась ты в этой походной тюрьме на колесах, в темной душегубке, где даже внутренность кузова обита железом?.. Боятся трусливые гитлеры, боятся, что убегут их связанные проволокой пленники – трое юношей из Краснодона и Люба Шевцова, отчаянная Любка-артистка, отважная шахтерская дочь.
В железном кузове машины зябко и почему-то пахнет полынью. Зовуще и грустно пахнет родной степью, детством, словно вернулось оно, далекое, невозвратное… Почему же далекое? Ведь все было вчера, как будто вчера.
…Мама купила Любе новые желтые туфельки с бантиком, на кожаных рантах. Веселая, помчалась Люба в школу, а оттуда вернулась сияющая, счастливая, озорно и загадочно сверкали ее голубые глазенки… Остановилась перед матерью в рваных тряпичных тапочках и смеется. «Люба, что случилось, где твои туфли?» – «Ой, мамочка, мы с Ниной всех обманули… Я тебе раньше говорила, что сижу за одной партой с Ниной, сироткой. У нее никого нет, и ей некому купить… Я говорю – идем, идем скорее, чтобы нас никто не увидел… Зашли за угол, и я сказала, чтобы она разулась… Ты понимаешь, она стоит, растерялась. „Разувайся“, – говорю… Мамочка, если бы ты видела, как ей пришлись туфельки по ноге! Она веселая пошла домой… Ты не огорчайся, ведь у меня есть другие туфли, и ничего, что они старенькие. Я их буду беречь»…
Так недавно это было и так давно… Везут Любку-артистку неведомо куда. Затемно сегодня погрузили их в машину в Краснодоне и повезли. В кузове холодно, и только слышно, как под колесами скрипит снег. Неужели это последний путь и завтра всех расстреляют? Люба думает о своей гибели до странности спокойно, и черная пропасть смерти не пугает ее. Может быть, потому, что пытки страшнее… Любка, Любка, притворщица и скандалистка! Дерзкий, никого не признающий характер спасал ее от мучительной боли. А насмешки, которыми осыпала врагов, придавали ей силы, и те в самом деле становились в ее глазах смешными и жалкими.
Ах, как сладко и печально пахнет степной полынью! Наверно, в машину полицаи бросили мешок с сеном и теперь на нем сидят немцы-конвоиры. Даже здесь сказался хамский характер оккупантов – сели своими задницами на милую сердцу, святую нашу украинскую полынь!
…Кто-то стонет рядом. Может быть, Сеня Остапенко или Виктор Субботин? Их сильно пытали вчера в Краснодоне, и вот один из них в беспамятстве, и слышно, как безвольно стукается о железную стенку машины его голова.
Люба нащупала рукой мокрую от запекшейся крови голову юноши, бережно положила на колени, обняла, как мать ребенка.
В крохотном окошке машины – решетка. Ее не сломать, не умолить открыться хоть на мгновение, чтобы увидеть запорошенную снегом родную донецкую степь. Машина качается на ухабистой дороге, переваливается с боку на бок, и бесконечным кажется этот, быть может, последний путь.
Сидит Люба, сама вся истерзанная, и держит на коленях голову товарища по борьбе. Покачивается безжизненно голова, и юноша не слышит ничего… «Баюшки-баю, мученик мой и победитель. Ведь фашисты ничего не добились от нас… И пусть заметут вьюги наши с тобой следы… Баюшки-баю…».
Машина замедлила ход, завизжали тормоза. Приехали. Слышится немецкая речь. Люба уже знает: там вооруженная охрана оцепляет прибывшую машину. С грохотом открываются железные двери машины, и конвоиры спрыгивают на снег, разминаются, зябко потирают руки.
– Выходи!.. По одному! – слышит Люба русскую речь нерусской души. Люба не знает еще, что командует сам начальник полиции города Ровеньки Орлов. Вот он стоит в желтых крагах, в синих галифе и кожаной меховой куртке, с плеткой в руках.
– Выходить по одному… Живей!
Люба не знает, куда их привезли. В сумраке зимнего рассвета она видит каменное двухэтажное здание. Над входом – флаг со свастикой в белом кругу. Гестапо!.. «Все равно ничего не добьетесь, гады паршивые. Любки вам не сломить!..»
Ой, сколько охраны! Ведут в подвал здания. Десять каменных ступеней вниз, площадка и еще десять ступенек. С громом отодвигается тяжелый засов на высоких железных дверях, и они, визжа на ржавых петлях, открываются.
– Ну, пшел!
– Иду, иду… Чего толкаешься, черт сопливый!
Люба вошла в громадный узкий каменный полуподвал.
И когда двери за ней закрылись, верная себе, смелая и упрямая, никого из узников не зная, крикнула весело: «Здоровеньки булы, товарищи!»
Никто из пленников не отозвался. Полуподвал был мрачный, стены выложены крупным камнем, а высоко вверху – ряд решетчатых, запорошенных снегом окошек. До них не дотянуться, если даже стать на плечи друг другу…
Уже не первый гитлеровский застенок испытала Люба за последний месяц. И никак не думала она, что в этом полуподвале среди изможденных людей встретит своего комиссара, своего товарища по борьбе, Олега Кошевого… Его трудно было узнать – все лицо в побоях. И все же она узнала. Полагалось по правилам конспирации сделать вид, что не знает и никогда не знала этого юношу, но не выдержала… Все равно уже никогда им отсюда не выбраться и в этом застенке они доживают свои последние дни и часы. И она бросилась к нему на грудь и первый раз за все время пыток и терзаний горько, по-детски расплакалась. Они не сказали друг другу ни единого слова. И только в глазах Олега Люба прочитала: «Успокойся, не плачь… Ведь я никогда не видел тебя плачущей и не хочу видеть!»
Снова начались допросы. Пытками руководил Орлов, бывший деникинец. Он избивал Любу неистово, как пьяный мужик, – кулаками в лицо, а упавшую топтал ногами.
Когда ее приводили обратно обессилевшую, находила в себе твердость ободрять других. Она повторяла по памяти сводки Совинформбюро, которые сама же принимала по тайной рации до ареста, сочиняла частушки про Клейста, «который ехал на Восток, да плохой был ездок», пела любимую песню, торжественную и величавую: «Широка страна моя родная…» И только ночью, когда все засыпали тревожным сном, она украдкой царапала на стене камешком прощальные слова, а написав, плакала без слез, гордо, сердцем измученным, сухими слезами: «Мама, я тебя сейчас вспомнила. Твоя Любаша…»
Еще рассвет не наступил, еще было темно, как бывает темно зимним утром, их по списку вызывали из подвала. Торопясь, Люба написала на стене: «Прощайте, меня взяли навеки. Шевцова. 7 февраля 1943 года».
– Пошевеливайся, выходи по одному… Руки назад!
В лицо ударил легкий морозец, и снова почудилось, будто пахнет полынью, сладко и прощально… На деревьях, насупившись, сидят грачи, и нигде не видно ни одного человека, кроме вооруженных до зубов полицаев и гитлеровцев.
– Трогай… Перепечаенко, заходи справа… Ты – слева…
Повели к заснеженному лесу, что примыкал к городской окраине. Так и не знала Люба и никогда не узнает, что оборвалась ее девичья жизнь в Ровеньках, в Гремучем лесу.
Поставили всех лицом к конвою. У полицаев немецкие автоматы. Начальник полиции Орлов и его помощник Перепечаенко – с наганами в руках.
В последний момент Люба сорвала с себя старенький вязаный мамин платок, который остался как последний печальный привет от нашей Любы, сорвала платок и выступила наперед, заслоняя собой тех, с кем шла до конца. Грянул залп. Грачи, горланя, поднялись над деревьями стаей. Люба упала на руки своих, которых не сумела прикрыть собой…
Ах, как сладко пахнет горькая полынь…
1982








