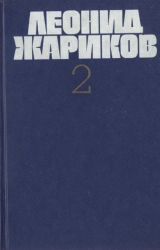
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Леонид Жариков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Не дожидаясь ответа, немец продолжал выкрикивать капризно:
– Кто хозяин дома? Позвать его ко мне. Макс, ты меня слышишь или я должен прочистить тебе уши?
Денщик не слышал, занятый работой. Он складывал вещи на веранде, застекленной с трех сторон. При этом дверь на улицу оставалась открытой, и осенняя сырость наполняла дом.
Солдат распаковал один из чемоданов, когда бабушка, не обращая внимания на офицерика, постучала концом палки по спине денщика.
– Эй, дубина, дверь закрывать надо.
– Вас? – спросил денщик, обернувшись.
– Но нас, а дверь, – повторила бабушка. – Не в свинарник пришел. Хоть ты ерманец, а понимать должен.
– Матка, век! – сердито огрызнулся денщик, продолжая свое дело.
– Ты не векай, а закрой… Энтому простительно, сосунок еще. А ты старик, вон лысина-то какая…
Не обращая внимания на слова бабушки, сердитый денщик выкладывал из чемодана полотенце, зубную пасту, ароматное мыло, одежную и сапожную щетки.
Из-за спины немца дочь подавала матери знаки, чтобы не перечила непрошеным гостям:
– Отойди, мать, застрелит он тебя…
Выйдя за калитку, бабушка смотрела, как текли по улице чужеземные войска: огромные пушки, грохочу^щие танки. Пыль, смех солдат, звуки губных гармошек, тучи войск, как тучи саранчи… С горя бабушка ушла в опустевший осенний огород и долго сидела там на бревнышке, не желая возвращаться в дом, занятый чужеземцами. Невыразимое страдание застыло в ее глазах, вдруг потускневших, словно в них угасал жизненный свет…
4
Офицеру понравилась большая светлая комната, через которую был вход в спальню бабушки. Нужно было завесить этот ход тяжелым ковром.
Немец принялся оборудовать жилье в своем вкусе. Он приказал денщику выбросить на кухню черную тарелку репродуктора, старинные фотокарточки в рамках, портрет Льва Толстого в длинной холщовой рубахе, босиком. Эта простенькая литография много лет хранилась в доме бабушки Аграфены. Лев Толстой как бы стал членом их семьи, всегда присутствовал на семейных сборах в час обеда или за вечерним чаем. Снимая со стены портрет Толстого, денщик порвал его. Так и валялись в угольном ящике рядом два дорогих сердцу бабушки старика – ее покойный дед в пожарной каске да Лев Толстой.
Офицер велел вынести хозяйскую швейную машину, сгреб ногами домотканые русские половики и приказал вышвырнуть их вон. Сияли со стены и старинную картину, засиженную мухами: «Отступление Наполеона из Москвы». Офицер усмотрел в картинке и неуместный намек.
Дубовый резной буфет не тронули: под стеклом была приличная посуда и серебряные ложки. Этим можно воспользоваться. Не снял он и тюлевые занавески с окон: они придавали уют.
Вместо бабушкиных фотокарточек офицер развесил свои. Это были открытки с изображением девиц в набедренных повязках и без них. Рядом он поместил большую фотографию породистой немки с тройным подбородком и высокой модной прической. Веером разместились фотографии самого офицера, снятого то в Париже на фоне Эйфелевой башни, то в Испании на берегу Средиземного моря, то в римском ресторане среди таких же, как сам, молодых офицеров, весело уплетавших полуметровые итальянские макароны. Судя по всему, фотографии должны свидетельствовать, что, несмотря на молодость, офицер успел объездить полмира и побывать почти во всех покоренных странах.
Офицер занимался убранством комнаты самолично. Он вконец загонял денщика, требуя подать то молоток, то гвозди. Бедняга солдат вспотел, но принужден был вытягиваться перед своим господином, потому что тот ругал его и то выгонял из комнаты, то снова требовал к себе.
– Черт бы побрал этих мерзавцев танкистов, – жаловался денщику офицер, – вечно они захватывают лучшие дома, а тебе оставляют одни сараи… Ладно, не будем огорчаться, Макс. Мы с тобой и в этом русском «дворце» сумеем создать удобства.
Собачонка лежала на диване и круглыми, на выкате, блестящими глазами следила, как ее хозяин располагал на стене фотографии, как суетился денщик Макс.
Наконец работа была закончена, и офицер без кителя, с полотенцем на плече, насвистывая, принялся настраивать радиоприемник. Сначала слышался треск, взрывы джазовой музыки, бормотание нерусской речи. И вдруг грянула бравурная маршевая мелодия. Хор мужских голосов ворвался в комнату:
Ха-ха-ха,
Ха-ха-ха,
Это будет веселая война…
Вот чего не хватало! Теперь, в громе гитлеровского марша, русский дом превратился вполне в немецкий. Офицер усилил звук и, ликуя, подпевал:
…Германия велика и прекрасна.
Скоро она раскинется
От Ледовитого океана до Средиземного моря.
Будут у нас белые медведи на севере
И апельсины на юге,
Ха-ха-ха,
Это будет веселая война…
Пока денщик стелил на полу болгарский ковер, офицер открыл чемодан и принялся вынимать и раскладывать возле зеркала мелкие и, по всему судя, любимые вещицы: коробочку с розовой пудрой, французский одеколон в хрустальном флаконе, принадлежности для маникюра из Бельгии, щеточку для усов, которых еще не было.
– Макс, где вода? Подогрей быстро! – покрикивал он через плечо.
Дочь бабушки Аграфены с болью смотрела на портреты, выброшенные в угольный ящик. Она боялась, как бы не увидела мать, поспешно вынула их оттуда и спрятала в чулане.
Гитлеровцы хозяйничали в доме полновластно. На кухонном столе горела спиртовка. Денщик подкладывал под нее сухой спирт, похожий на кусочки сахара. Он подогревал воду в никелированном бабушкином кофейнике. Наконец он доложил:
– Вода готова, господин обер-цугфюрер!
Офицер вышел на кухню, длинный, узкоплечий, этакая белокурая бестия в подтяжках. Он стал мыться до пояса под умывальником. Денщик поливал из кувшина и не мог угодить: то вода холодная, то не так поливал. Наконец офицер залепил денщику пощечину мокрой рукой. Тот вытянулся в струнку, виновато моргая глазами, и стал поливать аккуратнее. Под конец он махровым полотенцем обернул спину офицера и стал делать массаж.
5
Когда бабушка Аграфена вернулась из садика в дом, она не узнала своей большой комнаты, принявшей незнакомый вид. Все ее вещи были выброшены на веранду. В углу валялись скомканные, милые ее сердцу деревенские половики. Когда-то она собирала их по клочку, словно по перышку, ткала, любуясь радужной расцветкой, точно не полотно, а жар-птица рождалась у нее в руках.
Бабушка хотела пройти к себе в спальню через большую комнату, как ходила всю жизнь, но едва перешагнула порог, на нее бросилась собачка. Оскалив острые зубы, она злобно рычала, не пуская хозяйку в комнату.
Офицер сидел перед зеркалом и, смотрясь в него, чистил пилочкой ногти. В нательной рубашке он выглядел совсем мальчиком. Видно было по всему, что ему нравится тот уют, который он сам себе создал. Заметив бабушку в дверях, он дружелюбным жестом указал на свободный стул:
– Битте, зетцен зи зихь[22]22
Пожалуйста, садитесь (нем.).
[Закрыть].
Бабушка Аграфена молча смотрела на немца. Тогда он весело подмигнул ей и сказал:
– Русь пук-пук!
Видя, что она не понимает, немец вынул из кармана зажигалку в форме игрушечного пистолета, приставил себе к виску, сказал: «Пук!» – и нажал курок. Над пистолетиком вспыхнул голубой огонек, и офицер рассмеялся, довольный, что так ловко втолковал свою мысль русской старухе. Прикурив, он спрятал зажигалку в карман.
Бабушка продолжала молчать, устало опершись о палку. Дочь Мария, боясь, как бы не вышло скандала, увела ее в спальню, горячо шепча и умоляя оставить в покое непрошеных гостей.
– Ведь они по-русски не понимают, – объясняла она матери. – Пырнет кинжалом или задушит… Вчера, сказывают, на Пятницкой мужчину штыком закололи: корову свою не отдавал, а в Ленинском сквере пионера повесили – звезду на шапке носил.
Пока женщины шептались за перегородкой, офицер в своей комнате громко говорил денщику:
– Макс, скажи этим русским фрау, пусть меня не боятся. Я их не трону. Но ты знаешь, как я люблю экзотику. Пусть они напекут мне блинов. Настоящих русских блинов, ты понял меня, Макс?
Грохая сапожищами на железных подковах, денщик пришел в спальню.
– Матка, ди русише пфаннкухен, – сказал он Марин и добавил строже: – Шнель, бистро!
– Чего ему? – сердито спросила бабушка, но дочь сама не понимала.
– Гам-гам. – Немец покружил пальцем по ладони и неожиданно зашипел: – Пш-ш-ш… Русише пфаннкухен, гам-гам…
Женщины никак не могли понять, и тогда денщик оборвал кусок газеты кружком, положил его на ладонь и опять зашипел:
– Пш-ш-ш-ш…
– Никак блинов просит, – сказала Мария.
– Козла ему вонючего, – отозвалась бабушка, хмуро глядя на гитлеровца. – Ну, чего уставился, ровно бык? Нет у нас муки, всю поели, – и, подражая немцу, объяснила: – гам-гам…
Денщик стал сердиться, он ткнул в бабушку пальцем и сказал:
– Матка ни гут!
– Ладно, мать, поставлю им блины, пускай жрут… В чулане осталось немного муки. – И Мария повела немца в кухню узким проходом за печкой.
6
Освеженный после умывания и бритья, в ожидании русских блинов офицер окончательно повеселел. Он приказал денщику позвать дочь хозяйки, а сам стал переодеваться. Женщина вошла и смутилась, хотела уйти, но он остановил. Заправляя рубашку в брюки, он одной рукой застегивал ширинку, другой указал на стул.
– Битте… Зетцен зи зихь.
Подчиняясь повелительному жесту, женщина боязливо присела на край стула. Офицер взял из красивой заморской коробки шоколадную конфету, аккуратно разрезал ее на две части, положил на блюдце и преподнес хозяйке. Она сидела, тревожно переводя взгляд с конфеты на немца, не зная, что должна делать. Решив, что русская фрау стесняется принять подарок, офицер взял с блюдца обе половинки и положил ей в руку, объяснив:
– Этот цукер фрау, этот цукер гроссмуттер. – И поднял палец в знак того, чтобы она не спутала, какая часть полагается ей и какая бабушке.
Денщик помог своему господину застегнуть подтяжки и надеть китель.
Офицер надел высокую фуражку, подошел к зеркалу и полюбовался своим отражением. Чувствовалось, что военная форма делала его счастливым. Не спеша он прошелся по комнате, взял из круглой пачки с надписью: «Глория. Будапешт» кружочек печенья, откусил и остальное отдал собачке, она заплясала на задних лапках, прося еще.
Мария с ужасом поглядывала на револьвер, висевший на спинке стула. Улучив момент, она попыталась подняться, но немец прижал ее ладонью к месту. У него явилась потребность говорить, и, значит, фрау должна слушать.
Начал он с того, что представился, ткнул себя пальцем в грудь и объяснил:
– Ихь бин дойче официр… Имья есть Рудольф… Руди…
Прохаживаясь с заложенными за спину руками по ковру, он говорил, что русская фрау может сидеть в его присутствии, хотя русские обязаны вставать, когда с ними говорит немецкий офицер. Он делает исключение для русской фрау: слава богу, Рудольф Карл фон Геллерфорт не какой-нибудь зверь, а сын достойных родителей. Может быть, фрау удивлена, почему он призван в армию раньше срока. Это объяснить просто: по личному распоряжению фюрера!.. О, если бы могла русская фрау видеть, как лопались от зависти его ровесники по отряду «Гитлерюгенд», когда сам божественный фюрер, принимая парад юных тевтонов, остановился именно перед ним, Руди Карлом фон Геллерфортом, пожал ему руку и даже потрепал по щеке… Такое счастье может быть раз в сто лет: сам великий Адольф Гитлер потрепал его по щеке… Пусть фрау поверит, что взрослые немцы, присутствовавшие на параде, потом целовали его один за другим вот в эту щеку!
Офицер говорил на чистейшем немецком языке, совершенно не заботясь о том, понимает его русская фрау или нет. Он говорил для себя и, прохаживаясь мимо зеркала, любовался своим отражением.
Женщина слушала его и не понимала ни слова. Точно пленница, сидела на стуле, покорно сложив на коленях руки. Она чувствовала, что конфета немца тает в руке, и не знала, что с ней делать.
Собачка, лежа на диване, тоже слушала своего хозяина. Когда он прошел мимо, она вскочила, запросилась на руки. Но он лишь погладил ее и продолжал свою «лекцию»:
– Земля полна лишними людьми. О, если бы можно было сманить их в могилу легендой о вечной жизни! – так сказал бессмертный Ницше… Мы, германцы, уничтожим все живое, сопротивляющееся нам…
Денщик пек блины на кухне, и оттуда доносился аромат поджаренного сала и свежего теста. Руди поглядывал на кухню и потирал руки в предвкушении необыкновенного завтрака.
На Руди одобрительно смотрели со степы девицы, дородная немка с тройным подбородком и сам доктор Геббельс. Гитлер же с таким восторгом слушал своего воспитанника, что, казалось, вылезал из чугунной рамки, шевеля черными усиками: «Молодец, Руди! Нагоняй на них страху…»
Слушать немца становилось невыносимо, но и уходить было страшно. Женщина не чаяла, когда отпустит ее «лектор». Но тот, словно нарочно, поднимал палец кверху, чтобы фрау сидела спокойно и слушала.
– Русский народ, будучи завоеванным, только выиграет, ибо озарится светом великой германской культуры… Что же касается фрау, то она будет в прямом выигрыше, так как он, Руди, получив имение в России, возьмет ее к себе. И фрау научится вести хозяйство на высшем немецком уровне.
7
Пока немец разговаривал с Марией, бабушка Аграфена сидела в своей полутемной спаленке и грустно смотрела в окно на низкие облака, тревожно летящие над городом. Сколько она прожила на свете, никогда не думала, что враг может явиться к ней в дом. Но так случилось: враг пришел и творит беззаконие…
Бабушка тяжело поднялась и без спросу вошла в залу. Не обращая внимания на Руди, точно его и не было здесь, она усталым голосом обратилась к дочери:
– Ты кур сегодня кормила аль опять забыла?..
Дочь испуганными глазами показывала на немца, но бабушка повторила строго:
– Чего моргаешь? Иди… Дело на безделье менять не следует. – И пошла вон из комнаты, сердито стуча клюкою.
Виновато улыбнувшись немцу, дочь поднялась с места. Она была рада отвязаться от постылого «лектора» и тихонько, боком, вышла из комнаты, с облегчением закрыв за собой дверь.
Оставшись один, офицер стал играть с собачкой. Он совал ей в рот палец, а Микки – так звали собачку, – завалившись на спину и ударяя лапками по его руке, делала вид, что грызет палец, урчала, слегка покусывала, а потом разлеглась, чтобы хозяин почесал ей живот. Немец стал щекотать ей грудку и увлекся, смеясь, хватал ее то за ухо, то за лапы. Оба они резвились, как дети.
Вошел денщик Макс и весело козырнул:
– Блины готовы, господин обер-цугфюрер!
Офицер вымыл руки и, веселый, уселся за стол, заткнул за ворот кителя накрахмаленную салфетку.
Денщик бегом внес шипящий на сковородке блин, вилкой переложил его на тарелку и помчался в кухню за другими.
– Макс! Я ем русские блины… Напишу сестренкам, они лопнут от зависти… Как думаешь, лопнут?
– Не могу знать, господин обер-цугфюрер.
– Знаешь, знаешь, каналья! Конечно же лопнут!
Бабушка Аграфена не находила себе места. Нахальные постояльцы установили в ее доме свой порядок. Разум бабушки не мог вместить всю несправедливость совершившегося: мало того, что захватчики пришли в ее страну и рассыпали, разбросали ее большую семью, и теперь бесчинствуют здесь. Печальная, прошлась она по двору, заглянула в курятник и удивилась: куры даже не притронулись к еде, забились в дальний угол и притихли от страха.
«…Что же случилось с белым светом? Зять в первую мировую войну вернулся увечный – разрывная пуля угодила в нижнюю челюсть, и его трудно было спасти. Зять с уважением рассказывал, как немецкие санитары нашли его на поле боя, тяжело раненного, доставили в госпиталь. Там его долго лечили, вернули к жизни и обменяли на своего пленного из России… Значит, неплохой был народ германцы-то. Почему же теперь они даже ребятишек не щадят, колют штыками стариков?..» – так думала бабушка Аграфена, сидя в одиночестве на бревнышке во дворе. Думала и не могла найти ответа… Озябнув, она вернулась в дом.
Денщик-немец хлопотал возле походной спиртовой плитки, гремел бабушкиными сковородками и тарелками. Дверь в комнату офицера была распахнута, а сам он, сидя за столом, с аппетитом уплетал блины. Перед ним стояла бутылка французского вина. Время от времени он подливал его в рюмку и отпивал по глоточку.
Увидев бабушку, офицер, жуя, весело приветствовал ее:
– Корош! Русише блина аллее гут!.. Битте.
– Ешь, будь ты неладный… Последнюю муку забрал…
– Блина гут… Кусно!
– Чужое всегда вкусно, – сказала бабушка, глядя, с какой жадностью ест блины немчик. И по странному свойству русского женского сердца где-то в глубине души ощутила бабушка чувство, похожее на жалость к этому, как ей казалось, детенку. Тоже, поди, не по своей воле погнали… Вон какой худенький да узкоплечий, а дали ему леворверт – и стал разбойник разбойником. Разве можно давать дитю в руки оружие, дескать, иди и поиграй в смертушку…
Тяжело опершись на палку, бабушка рассматривала оголенных девиц на стене, горестно качала головой, а потом указала палкой на одну, совсем голую, и спросила:
– Это что же, по-твоему, культур?
– Я-я! – живо отозвался немец, аппетитно макая блин в сметану.
– Кто же тебя послал в Россию людей убивать? – спросила бабушка. – Своей земли у вас мало али живете бедно? Как же так можно – бонбы кидать на мирные дома, детишек губить?
Не зная, о чем бормочет русская старуха, офицер решил, что она благодарит его за свою половинку конфеты, и покровительственно проговорил, жуя и улыбаясь;
– Битте, битте…
– Гитлер велел тебе грабить или ты сам?
При упоминании имени Гитлера офицер воскликнул:
– Адольф Гитлер! Фюрер!
– Так, так… Фюлер, значит… Кто же он, фюлер твой, православный или тоже ерманец? Зачем он людей приказал убивать?
Немец подумал, что бабушка интересуется его особой, и представился:
– Имья есть Руди… Рудольф. – И он стал рассказывать бабушке, что живет в пригороде под Берлином, что его старший брат – офицер генерального штаба и сейчас находится в Норвегии. Есть четыре сестры. У отца три мыльные фабрики.
Из всего, о чем лопотал немец, бабушка поняла одно-единственное слово: «Руди».
– Это ты, выходит, Рудик?.. Ну, а мать у тебя есть? Кто тебя родил? Матка есть?
– Я-я! – обрадованно воскликнул офицер и указал на фотографию дородной немки с тремя подбородками. – Майне муттер!
– Вот оно как… – задумчиво проговорила бабушка. – Значит, мута тебя родила. Ежели бы настоящая мать, она бы не дозволила тебе обормотом быть, сияла бы штаны да всыпала бы как следует… И не пошел бы ты в Россию людей губить… Ай, ай, стыд какой… Вы же, германцы, вроде бы хороший народ, а как опозорились… – Бабушка опять потянулась концом палки к фотографии голой девицы: – Ну, а эта, без штанов, прости господи душу мою, она кто?
– Майне браут, – с нежностью проговорил Руди, достал из бумажника фотографию молоденькой девочки в шубке и поднес к губам. – Майн шатц! Майне либсте…
Офицер забыл нужное русское слово и крикнул денщику, прося вспомнить. Макс в эту минуту принес новую порцию блинов.
– Макс, какой есть русский имья – хохцайт? – Потом сам порылся в русско-немецком разговорнике и воскликнул: – Свадьба!.. Этот есть свадьба…
Бабушка Аграфена решила, что фотокарточка из бумажника и голая девица на стене одно и то же лицо, и горестно покачала головой:
– Свадьба… невеста, значит. Какая же она невеста, ежели выставляет себя голяком? Ведь она будущая мать. Зачем же она пупок всему свету показывает? Мать – чистое имя, как цветок весенний, и дети должны видеть ее чистоту. А твоя Браута бесстыжая… Эх вы, ерманцы…
Продолжая уплетать блины, офицер внимательно слушал бабушку. Он присматривался к выражению ее глубоких темных глаз, стараясь понять, о чем она говорит.
– Ну, и как же у вас, в Германии, люди живут? – любопытствовала бабушка: – Крестьяне колхозом хлеб сеют или как? – и она показала на кусок хлеба, лежавший на тарелке. – Хлеб, говорю, сообща сеют?
– Дас ист брот, – сказал офицер. Ему показалось, что старуха спрашивает, много ли у него хлеба, и он развел руки в стороны, чтобы показать, как много земли имеет отец. Руди взял со стола один из рулонов, сложенных горкой, развернул и показал бабушке служебный красочный плакат о вербовке русских рабочих в Германию. На картинке был изображен обширный, чистый двор, вымощенный каменными плитами, просторный кирпичный коровник, водопроводная колонка посреди двора. Возле нее стоял пузатый немец, как видно, хозяин, и любезно разговаривал с улыбающимися рабочими.
– Отец? – спроспла бабушка, ткнув пальцем в пузатого немца.
– Дас ист бауэр[23]23
Крестьянин, владелец усадьбы (нем.).
[Закрыть],– объяснил офицер и залопотал, расхваливая, как прекрасно живут в Германии иностранные рабочие, как они хорошо одеты.
– Бавер, значит… Так, так. По-нашему – барин. Стало быть, вы, германцы, живете по-старому… Отстали вы со своим фюлером. А ты говоришь – культур. Своего-то ничего нет, все барское: вот вы и пришли чужое грабить… Гляди только, как бы не вышло, что не вернешься к своей муте… Пока Россию не завоевал, не говори пук-пук. Русские расшабашный народ, как почнут колотить вас, тогда и скажешь пук-пук. Русский по характеру доверчивый, ему доброе слово скажи – последнюю рубаху отдаст. А ежели обманешь – держись!
Немец начал догадываться, что бабушка Аграфена говорит ему не лестные слова, и насторожился. Лицо его потемнело.
– Ты давеча по харе съездил своему солдату, а он тебе в отцы годится. – Бабушка палкой нацелилась в портрет Гитлера. – Это фюлер велел тебе обижать людей старше себя? Какая выходит у вас леригия? Бандитская. Твой фюлер душегуб, на цепь его надо посадить…
Мария, глядя в щелку двери, прикладывала палец к губам, давая понять, чтобы мать не говорила лишнего. Но та махнула на нее рукой.
– Ну что ты знаки мне делаешь? Дай с ворогом-то поговорить. – И она продолжала негромко и незлобливо: – Ежели ваш ерманский народ и дальше так будет делать, то все народы отвернутся от вас. Образумьтесь, пока не поздно, прогоните своего фюлера к свиньям и живите в труде, в добре, как все народы живут. На земле хватит места каждому…
Руди по-недоброму смотрел на бабушку, глаза его приняли дикое выражение, а та как ни в чем не бывало продолжала:
– Люди должны жить в мире и помогать друг другу. Вот тогда и будет культур…
Гитлеровец резко встал и повелительно указал бабушке на дверь:
– Матка ни гут!.. Век! – И повторил грозно, берясь за пистолет: – Век форт!
Собачка вскочила и тоже залаяла на бабушку:
– Век! Век! Век!
9
Рудольф Карл фон Геллерфорт в раздражении ходил по комнате. Черт знает, до чего глупа эта старая перечница. Как не понимает, что ему ничего не стоило бы нажать курок… Всех их надо вешать!
Настроение было испорчено, и Руди не знал, чем заняться: идти в штаб было поздно, пригласить к себе приятелей-офицеров – не знал, в каких домах кто расположился. Послать за ними Макса? Не хочется оставаться наедине с этими русскими бабами, да и на улице темнеет. А ему еще в Германии все уши прожужжали: куда едешь, там партизаны… Этих русских не только завоевать надо, а перестрелять всех…
Пока офицер вышагивал из угла в угол, на кухне развернулась баталия.
Денщику понадобилась посудина купать Микки. Ничего подходящего не было, кроме продолговатой фарфоровой чаши, похожей на ванночку. Он налил в нее теплой воды, выдавил туда из тюбика жидкое мыло и стал взбивать пену. Мария с недоумением следила за гитлеровцем и, когда догадалась, что денщик собирался не то стирать в супнице, не то умываться, расстроилась. Ведь эта старинная, разрисованная лилиями супница была украшением стола. Ею пользовались по праздникам.
– Пан, нельзя пачкать… Это супница, – и она показала, как хлебают ложкой. – Я тебе корыто принесу, не трогай, пожалуйста.
– Век! – отстранил ее локтем Макс. – Баден… швимен Микки… Этот есть хорош. – И он указал на супницу.
Женщина не знала, что делать, но когда денщик принес собачку, она все поняла и всплеснула руками:
– Господи! Да где же это видано, чтобы в супнице купали собаку! – Она поспешно принесла цинковый тазик, цо гитлеровский солдат ударил ее ногой.
Привлеченный шумом, на кухню явился Руди. Не разобравшись в сути спора, он оттолкнул Марию так, что она ударилась спиной о печь. Разъяренный Руди пошел за револьвером, готовый застрелить женщину, но она успела спрятаться.
– Ферфлюхте нох маль![24]24
Проклятье еще раз! (нем.)
[Закрыть] – ворчал немец. – Руссише швайн[25]25
Русская свинья (нем.).
[Закрыть].
Денщик погрузил собачку в ароматную мыльную пену. Руди – руки в боки и широко расставив ноги – стоял за спиной денщика, будто охранял его.
– Макс, скажи, чтобы они сюда ни ногой! Здесь германская территория отныне и навсегда! Ты слышишь меня, олух?
– Так точно, господин обер-цугфюрер!
Чтобы успокоиться, Руди снял китель, засучил рукава и сам стал купать Микки. Белая пена хлопьями свешивалась через край супницы и растекалась по столу. Собачка царапалась лапками, задирала голову, боясь воды, и офицер вынул ее из супницы. Денщик уже приготовил теплую воду и стал смывать мыло с собачки.
– Хантух, шнель![26]26
Полотенце, быстрей! (нем.)
[Закрыть]
Денщик сорвал с гвоздя холщовое полотенце, вышитое красными петухами, и подал офицеру. Руди завернул Микки в полотенце и понес в комнату. Там он присел на диван и стал бережно вытирать ей лапки. Собачка дрожала от холода. Офицер, ласково приговаривая, завернул ее в бабушкину шаль с висюльками и, точно куколку, посадил в угол дивана. Собачка глядела оттуда вытаращенными глазами, мигала ресницами и скоро задремала.
10
Приближалась ночь. На душе у Руди было тревожно. Он косился на черные окна и думал, что напрасно утром приказал выбросить хозяйские одеяла, приспособленные для светомаскировки. Ими можно было занавесить окна: вдруг прилетят ночью советские самолеты или, чего хуже, заглянут в окно партизаны и бросят гранату.
Проклятая страна. Даже электричество не горит: вместо него вонючие лампы, пахнущие керосином. Руди приказал денщику отобрать у хозяев все лампы и устроил у себя настоящую иллюминацию. Но стало душно, и он велел вынести лампы на кухню, оставив одну, с цветным старинным абажуром.
Время было располагаться на отдых, а сон не шел. Руди счел нужным принять все меры предосторожности. Он сам с фонариком проверил запоры на дверях. Этого показалось мало, и он велел Максу ночью дежурить у двери с автоматом. Денщик поставил табуретку на кухне, сел на нее верхом и, опершись подбородком на рукоятку автомата, мрачно задумался.
Офицер разделся. Макс постелил ему на диване. Белье забрали у хозяев. Накрахмаленные простыни приятно похрустывали.
Руди взял в постель Микки, повесил на спинку стула автомат, сунул под подушку заряженный револьвер. Он с безотчетным страхом и раздражением прислушивался к звукам ночи: за стеной кряхтела в своей постели старуха. Черт знает, что за проклятая страна. Кажется, уже перемололи все русские дивизии, сколько их было, а за окном слышны выстрелы. Кто стреляет: свои или партизаны? За полночь он забылся, готовый в любую секунду вскочить по тревоге.
Была уже глубокая ночь, когда бабушка Аграфена, привыкшая вставать по нужде, забыла спросонья о том, что у нее в доме непрошеные постояльцы, пошла через большую комнату и запуталась в ковре, которым отгородился офицер. И тот вскочил как оглашенный, выхватил из-под подушки револьвер и наставил на бабушку.
– Цурюк! Хенде хох! – Он был смешон в длинной ночной рубахе с револьвером в руках.
– Чего ты? Я по своим бабским делам иду, а тебя ровно кипятком ошпарили… (Бабушка сама перепугалась истошного крика немца.) У тебя вон леворверт, а у меня один веник… Чего же ты старухи боишься?
С двух сторон в комнату вбежали денщик, вооруженный автоматом, и дочь Мария, простоволосая, с бледным, встревоженным лицом. Она закрыла собою мать и стала просить немца:
– Простите ее… Она старая, не убивайте! – И увела бабушку.
Остаток ночи немцы не спали, громко переговариваясь. А когда забрезжил рассвет, офицер приказал денщику вызвать машину. До последней степени он сейчас презирал русских и не желал никого видеть.
Когда Макс приехал, немцы, грохая дверьми, стали выносить чемоданы. Они не забыли прихватить бабушкино постельное белье и ее теплую шаль. Даже супницу взяли: в конце концов, Микки тоже имела право на собственность.
За каких-нибудь полчаса дом опустел, двери были распахнуты настежь, и сырой ветер гулял по комнатам.
– Мать, они и ложки серебряные унесли.
– Пущай… Будем сами целы, наживем…
Перегруженный вещами автомобиль, взвывая мотором, удалялся по улице. Колеса машины прокручивались в глубокой грязи. Немцы угрюмо молчали. На душе у Руди было отвратительно. Выходило так, что он, победитель, отступал как побежденный. Эта русская старуха вынудила его обратиться в бегство… Фу, до чего противно… Можно подумать, что сама Россия победила Германию… И он, Рудольф Карл фон Геллерфорт, обеспечил это поражение… Чертовщина какая-то… Храбрый потомок тевтонских рыцарей бежит, вместо того чтобы прикончить старуху с ее дочерью и свалить их в помойную яму…
И Руди толкнул шофера, чтобы остановил машину. Стараясь говорить как можно спокойнее, он обратился к своему денщику:
– Макс, мы с тобой оказались невежливыми квартирантами… Не поблагодарили русских фрау, как они того заслуживают. Старуха явно партизанка. И мы с тобой предадим великое дело фюрера, если не заплатим им сполна… – И Руди, оглянувшись, выразительно посмотрел на автомат, висевший на шее денщика.
Угрюмо сопя, тот вылез из машины. Было холодно, дул пронзительный ветер, и денщик бегом вернулся к дому бабушки Аграфены. Он не решился войти, а, подняв автомат, стеганул по окнам. Он не опускал автомат, пока не разрядил всю обойму.
Бабушка Аграфена в эту минуту стояла перед иконами в красном углу. Тайком от дочери она молилась, и слезы медленно катились по глубоким морщинам, как по руслам высохших рек.
Внезапно прогремели выстрелы, и сотни осколков от разбитых стекол впились ей в руки и грудь. Закрыв окровавленное лицо руками, она повалилась на пол. Вбежала Мария, увидела раненую мать и с трудом подняла ее под руки.
– Господи… Доченька, я ничего не вижу. – И она простерла перед собой руки, ища опору. Мария уложила ее в постель и помчалась за помощью к соседям.
11
Немцы стояли в городе два месяца, но в доме бабушки Аграфены никто не поселялся. Случайные солдаты заглядывали, тащили все ценное, пока в доме ничего не осталось. Стоял он с забитыми фанерой окнами, и только сиротливо теплился огонек лампадки.
Забинтованная, точно солдат, бабушка Аграфена умирала. Ее навещали соседи, старались помочь. И когда ее подруга Фатима спросила, утирая слезы: «Что, Аграфенушка, помираешь?» – бабушка отрицательно покачала головой:
– Не хочу умирать на чужой земле, своих дождусь.
– Земля была и остается нашей…
– Нет, пущай ребята придут, хочу красных армейцев увидеть…
Перед Новым годом Красная Армия, наступая, подошла к городу. Завязались уличные бои.
Фатима прибежала передать радостную весть: свои идут!








