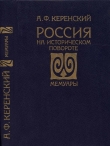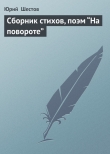Текст книги "Узбекистан на историческом повороте"
Автор книги: Леонид Левитин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Вспомним эволюцию независимой журналистики последних лет перестройки и первых постсоветских лет, когда свободой в первую очередь воспользовались не самые честные и порядочные, а наиболее ловкие и беззастенчивые люди. По этому поводу были написаны такие поэтические строки:
От безответственной свободы
Темнеют страхом небеса,
Дрожит земля, бунтуют воды,
Кричат безрукие леса.
Это написал один из самых известных российских поэтов фронтового поколения Михаил Дудин. Незадолго до смерти он сказал о свободе слова в России: "Не свобода обманула нас, а наша безответственность в использовании свободы".
За прошедшие годы профессиональная культура средств массовой информации в странах СНГ не улучшилась. Вот одно из свидетельств, касающееся сегодняшней российской действительности. "То, что происходит сегодня на телевизионных экранах, иначе как мародерством не назовешь. Журналисты врываются в миллионы домов с заранее избранными их хозяевами жертвами и начинают истязать их, обливая грязью профессиональные и человеческие качества, семью, дом и домочадцев. А чувство абсолютной незащищенности жертвы, которую раздевают, унижают, оскорбляют, растаптывают по всей стране со сладострастием опьяненных запахом крови палачей, с сознанием абсолютной безнаказанности, делают эту вакханалию еще более зловещей" (Мигранян А., Российская элита наступает на те же грабли, что и в начале века. – НГ, 7.10.1999).
Словом, максима "зрелая свобода ограничивает сама себя, незрелая нуждается в ограничениях в отношении СМИ" в Узбекистане не потеряла своего практического смысла. В Узбекистане немало высокопрофессиональных и просто талантливых журналистов, способных быть цензорами для самих себя. Власть должна понимать это. Думаю, что эта мысль вполне согласуется с позицией Президента Каримова.
МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
Когда законы не расходятся с жизнью
По-разному можно оценивать то, что сделано и делается в постсоветском Узбекистане. Относительно многих акций власти и вообще событий общественной жизни в этой стране на поворотном этапе ее истории существуют полярные точки зрения. Но есть сфера общественного бытия, которая воспринимается практически всеми однозначно. Это межэтнические отношения. Здесь, по самому большому счету, соответствующие конституционные положения и принятые в соответствии с ними законы не расходятся с реальной жизнью.
Конституция Узбекистана провозглашает, что народ Узбекистана составляют граждане Республики независимо от их национальности (ст. 8), что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия расы, национальности, языка, религии (ст. 18), что государственным языком является узбекский язык и вместе с тем обеспечивается уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на территории Узбекистана (ст. 4).
Согласно статье 4 "Закона о гражданстве", утвержденного еще 2 июля 1992 г., то есть до принятия конституции, гражданами Узбекистана являются лица, постоянно проживающие в Узбекистане, к моменту вступления закона в силу независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов и т.д., не являющиеся гражданами других государств и изъявившие желание стать гражданами Узбекистана.
Могут спросить: разве другие постсоветские страны, декларирующие мировому сообществу свою приверженность демократическим идеям, не закрепляют в конституции таких же принципов толерантности по отношению к этническим меньшинствам? Ответ звучит вполне определенно: в конституциях закрепляют, но не реализуют. А в текстах законов о гражданстве прибалтийских государств и некоторых стран СНГ даже и не закрепляют.
Чтобы не утомлять читателя, приведу один очень свежий пример. И не из латвийской или эстонской, а из украинской жизни. В интервью газете "Известия" глава русского движения Украины Александр Свистунов, в частности, говорил: "Для русского населения Украины сегодня ситуация архитревожная, а для той части, которая проживает в западных областях, – просто трагичная. Идет сознательная дискриминация русского населения, причем не только духовная, когда людям запрещают говорить по-русски. У многих русских нет работы, человека могут уволить только за то, что он русский. Речь идет просто о физическом выживании русского населения Украины. В восточных областях Украины ситуация пока получше, но, к сожалению, только пока. Тот же сценарий, который раскручен украинскими националистами на западе, через год-два планируется осуществить и на востоке. Хуже всего то, что националисты получают поддержку от властей, которые хотят построить мононациональное украинское государство. В Киеве, где большинство населения говорит по-русски, из 800 школ русских всего 12" (Известия, 11.07.2000).
В Узбекистане по-настоящему высок уровень демократичности языковой политики. А это одно из главных условий межнационального согласия в полиэтнических государствах.
Закон "О государственном языке" в редакции от 21 декабря 1995 г. предусматривает, что граждане вправе по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Он разрешает ведение делопроизводства не на государственном языке на тех предприятиях и в учреждениях, где большинство работающих не владеет узбекским языком. Закон исключает обязательность знания государственного языка в качестве условия занимать определенные должности, то есть языковый ценз. В нем декларируется государственная помощь для свободного развития и функционирования языков этнических меньшинств. Кроме того, из закона не только исчезли ограничения на получение образования для людей, не владеющих узбекским языком, но и закреплено право свободного выбора языка обучения, причем на всех уровнях образования.
Казалось очевидным, что придание узбекскому языку статуса государственного не может не привести к сокращению сферы использования русского языка. Однако, к удивлению многих и внутри страны, и за ее пределами, русский язык продолжает удерживать сильные позиции. На нем по-прежнему издается много специальной и научной литературы, в том числе и объемистых монографий, защищаются диссертации. Он преподается в одиннадцати государственных вузах страны, а факультеты по подготовке учителей русского языка работают в четырех из шести государственных педагогических институтов. В технических вузах в учебных группах с преподаванием на русском языке обучается четвертая часть студентов. Русский язык является рабочим языком при проведении различных международных форумов.
Два класса узбекских, два класса русских
Дело было в январе 2000 г. Юлдаш Саиджанов – первый заместитель министра народного образования Узбекистана, один из самых авторитетных организаторов и ветеранов школьного дела в стране, много и с интересом рассказывал мне о реформе образования, о том, какую важную роль эта реформа призвана сыграть в формировании нового поколения. Я спросил его, в какой мере эта реформа коснется русских и в целом русскоязычного населения. Он подумал немного и сказал: "Вот список школ Ташкента, где обучение ведется на двух языках. В какую вы хотели бы поехать?" Наугад я назвал школу № 17 в Юнусабадском районе столицы. Он позвонил директору школы: "Лия Рахимовна! Еду сейчас к вам с гостем".
Старое двухэтажное здание с новыми пристройками. Два двора. Всюду чистота, аккуратно, по-домашнему ухоженно. Обремененная сверх головы заботами, как и все школьные директора во всех странах мира, Лия Рахимовна выслушала мой вопрос и предложила: "Давайте пройдем по всем классам. Их у нас по два. Два узбекских, два русских. Начиная с первого и до последнего". Так мы и сделали. В классах с узбекским языком обучения практически только узбеки. В классах, где учат на русском, на партах рядом с русскими, украинцами, армянами, евреями есть и узбеки. В узбекских классах обучают русскому языку, в русских узбекскому. И во всех классах английскому или немецкому (в меньшей мере). Никакой разницы в обеспечении школьников учебной и методической литературой, в оснащении классов видео– и аудиоаппаратурой нет. И в тех и в других классах технические средства обучения, разве что за исключением компьютеров, на вполне приличном, даже по западноевропейским меркам, уровне. (Позже Бахадыр Хамидов, начальник Главного управления по материально-техническому снабжению Министерства народного образования, дал мне официальную справку. Оказалось, что на учебники на русском языке, которые закупают в Москве и других городах России, денег тратится больше, чем на учебники на узбекском языке, издающиеся дома.)
Но самое сильное впечатление производят, конечно же, отношения между школьниками. Сказать, что нет межэтнических антагонизмов, значит ничего не сказать. Здесь межэтническая толерантность проявляет себя на самом высшем уровне. Я назвал адрес школы. Каждый, у кого возникнут какие-либо сомнения в правдивости сказанного, может проверить мою информацию на месте. А вообще-то я порекомендовал бы соответствующим структурам ЮНЕСКО или ОБСЕ провести здесь международный семинар о положении национальных меньшинств.
Если школьный актовый зал (он, кстати, очень уютный) окажется мал, можно выбрать любую другую школу. Уверен, что разницы никакой не будет. Вспомним, что в Киеве, где большинство населения говорит по-русски, из 800 школ русских всего 12.
Воспоминания о Мукаррам Тургунбаевой
Несколько личных впечатлений. Выше я писал о напряженности в отношениях между узбеками и русскими, о межэтнических конфликтах, вызванных главным образом дискриминационной политикой Москвы в отношении узбекского населения, особенно с шестидесятых годов. Но ведь было и другое. Были и очень светлые и незабываемые страницы советской истории. О них я писал тоже. Хотелось бы дополнить эту тему.
Яркие воспоминания из моей ташкентской студенческой юности остались от посещения Театра узбекской драмы имени Хамзы, игры Абрара Хидоятова, Сары Ишантураевой, Шукура Бурханова. Это были актеры мирового уровня. Играли они, разумеется, на узбекском языке, но мы, неузбеки, находились во власти их искусства. У меня и сейчас в ушах звучит громоподобный, наполненный удивительной страстью голос Хидоятова в "Отелло". И сегодня помню удивительную женственность Ишантураевой в этой шекспировской пьесе. И образы лукавых, хитроумных узбеков, созданные Бурхановым. В памяти и удивительная зрительская атмосфера в театре.
Но особые воспоминания у меня связаны с великой танцовщицей Мукаррам Тургунбаевой. Ее выступления с узбекскими народными танцами всегда были событием для всего многонационального Ташкента. Она была виртуозна, зажигательна, обворожительна и, используя нынешнюю терминологию, демократична. Весной 1952 г. Тургунбаева выступала в университете. Поскольку по студенческой линии я был одним из организаторов ее концерта, то попал в число счастливцев, сфотографировавшихся с ней на память. Эта фотокарточка и сейчас напоминает мне мои студенческие годы, ностальгические времена моей далекой юности. Она по-прежнему излучает для меня свет рассеявшихся дней.
Сейчас, когда я думаю обо всем этом, вспоминаю то состояние радости и счастья, которые мы испытывали от приобщения к иной культуре. И еще от того, что мы без особого труда вошли в новый, ранее неведомый нам мир. Это было прекрасное состояние. Сегодня, на склоне лет, могу утверждать, что это чувство временами не менее сильно, чем чувство этнической идентичности.
В ноябре 1999 г. на научной конференции в Тель-Авивском университете я встретился с профессором Гоги Хидоятовым, сыном Абрара Хидоятова и Сары Ишантураевой. Рассказал ему о впечатлениях, которые сохранились в моей памяти, о его родителях. Профессор выслушал меня вежливо, но, как мне показалось, как-то отстраненно. Может быть, я не нашел нужных слов? А возможно, мои воспоминания не вписываются в парадигму сегодняшнего национального сознания? В последнее я не могу и не хочу верить. И вот почему.
Прилетая сейчас по делам из Германии в Ташкент и гуляя вечерами и в выходные дни по центральным улицам города, я не перестаю удивляться тому, что русских и вообще европейцев на этих улицах не меньше, чем в далекие дни моей молодости. Они спокойны и веселы. Многие из них с детьми. Удивляюсь я потому, что таких картин, к сожалению, уже давно не наблюдал, скажем, в Бишкеке, где я прожил большую часть своей жизни. У меня было много непринужденных бесед с простыми людьми. И ни один из них, я подчеркиваю, ни один, не говорил мне о каких-то притеснениях, об ущемлении их национальных интересов и национального достоинства. И во всех без исключения случаях они считали, что главным творцом такой национальной политики является Ислам Каримов.
В этой связи еще одно личное свидетельство. В Нью-Йорке несколько лет тому назад один из бухарских евреев, бывший житель Бухары, рассказывал мне о том, как в 1991 г. по распоряжению городского хокима было закрыто еврейское кладбище, поскольку оно находилось вблизи от новых административных зданий. Обращение к хокиму области не помогло. Тогда местная община бухарских евреев написала письмо на имя Президента Каримова. "Мы, – рассказывал этот человек, молили Бога, чтобы письмо попало к президенту. И Бог услышал наши молитвы. Кладбище открыли буквально через пару дней, а хоким области лично принес нам свои извинения. Разве можно забыть такое?"
Все это, конечно, частности, но именно из таких частностей складывается подлинная картина жизни. Хотелось бы спросить самых строгих и непримиримых критиков Президента Каримова в дальнем и ближнем зарубежье: могут ли они себе представить, чтобы в Олий Мажлисе звучали антисемитские выступления, как в парламентах России, Украины и Кыргызстана, чтобы в Ташкенте сжигали и оскверняли синагоги, как это делается в Москве и других российских городах? Вопрос этот, естественно, риторический. Думаю, что в Узбекистане никто не может допустить подобного даже гипотетически.
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ИНСТИНКТ ВЛАСТИ
Еще раз об оппозиции
На Западе еще больше, чем о проблемах независимой прессы, говорят и пишут о некой незавидной судьбе узбекской оппозиции. Нередко обе темы связывают воедино, что, в принципе, имеет под собой основания. К независимости и свободе будет стремиться, прежде всего, оппозиционная пресса. Критические упреки, в ряде случаев вполне, по моему мнению, обоснованные, высказываются и зарубежными друзьями Узбекистана, людьми, в целом высоко оценивающими политику Президента Каримова. Сложная, непростая тема, требующая всестороннего осмысления и анализа. Ни в коей мере на это не претендую. Позволю себе высказать лишь несколько мыслей.
Напомню, что уже касался этой темы, говоря о советском наследстве независимого Узбекистана и о проблемах модернизации – противоборстве взглядов на стратегию реформ, их характер, последовательность, темпы.
Сегодняшняя узбекская оппозиция, к сожалению, никакого отношения к модернизации общества не имеет. Во всяком случае, позитивного отношения. Попытаюсь несколько развить и обосновать эту мысль.
Президент Каримов, беседуя с западными оппонентами об оппозиции, обычно просит собеседников уточнить, кого они имеют в виду. Как правило, называют "Эрк" и "Бирлик". По-видимому, возможен здесь и иной подход, поскольку и по своему происхождению, и по своему составу оппозиция исключительно разнородна. Ее национал-демократическая, точнее, националистическая ветвь осталась в наследство от советской власти. Это, как уже сказано ранее, творческая и гуманитарная узбекская интеллигенция, организационно объединившаяся на гребне антирусского (и в этой антирусской ипостаси еще и антикоммунистического) движения последних лет перестройки.
Вторая ветвь – часть бывшей партгосноменклатуры, причем из ее высшего эшелона, оказавшаяся в силу различных причин в аутсайдерах при формировании и переформировании новых структур власти, не получившая того, что соответствовало ее политическим амбициям. Персоной номер один здесь был Шукрулло Мирсаидов, бывший глава правительства и вице-президент Узбекистана, ставший жертвой им же затеянных политических интриг. К этой части оппозиции примыкают, не организационно, а, так сказать, по оппозиционному происхождению, проворовавшиеся чиновники и недобросовестные бизнесмены, пытающиеся уйти от ответственности, выдавая себя за борцов за права человека.
Третье оппозиционное направление – религиозные исламские экстремисты, объединенные в так называемое Исламское движение Узбекистана во главе с Жумой Намангани и Тахиром Юлдашевым, по сути своей террористическая организация. Так определил ее Государственный департамент США, и с этим определением стоит согласиться.
Стоят ли за этими оппозиционными направлениями какие-либо реальные социальные силы, имеют ли они корни в обществе? И первая, и вторая ветви, очевидно, практически лишены этого. (Мне это представляется вполне очевидным, хотя, возможно, не исключена и другая точка зрения.)
Мне пришлось несколько раз слышать высказывания Президента Каримова в отношении оппозиции, национал-демократической и номенклатурной. Еще в начале девяностых, когда она была на плаву. Не со всеми его высказываниями я согласен, но одна мысль представляется бесспорной. Каримов говорил о том, что ему трудно вести диалог с оппозицией, поскольку ее лидеры не выдвигают конструктивных альтернатив проводимому властью курса. Я попросил Карлайла, который, как он сам говорил, будучи американским демократом в седьмом поколении да еще ирландцем, всегда a priori на стороне опозиции в любой стране, привести аргументы, опровергающие эту мысль Каримова. Карлайл ответил не сразу. Он довольно долго просматривал свои записи, сосредоточенно думал и сказал, что вынужден с этим мнением согласиться.
Что же касается третьего направления, то надо признать, что на его стороне симпатии определенной части маргинальной, люмпенизированной молодежи, не вовлеченной, особенно в Ферганской долине, по разным причинам ни в учебу, ни в труд. Эта молодежь – незатихающая боль узбекского общества, его проблема проблем. Власть вполне адекватно ее оценивает и напряженно ищет пути решения. Религиозные экстремисты всегда были вне этого поиска, они лишь паразитировали на этой части молодежи.
Нельзя не признать, что религиозные экстремисты свою альтернативу нынешней власти обозначили – создание исламского государства. Идея не только не востребуемая, но и отвергаемая узбекским народом и вообще непринимаемая в Средней Азии. Убедительным свидетельством стало сокрушительное поражение исламистов в Таджикистане в легальной конкуренции со светскими силами.
И вот при такой органической несовместимости есть нечто, что объединяет все это пестрое оппозиционное общество. Для лидеров оппозиции, будь они по своему происхождению творческими и гуманитарными интеллигентами, как Мухаммед Салих, бывшими советскими партократами высшего ранга, как Шукрулло Мирсаидов, или активными террористами, как Жума Намангани и Тахир Юлдашев, стремление к власти – и смысл жизни, и иссушающая страсть, которая движет всеми желаниями и помыслами, становится духовным центром их бытия или, как говорил теоретик революционного анархизма Михаил Бакунин, "дьявольским инстинктом". Их звездные часы – это периоды социального и духовного кризиса общества, распада государственности, смены общественных вех.
Дьявольский инстинкт ведет их при всей их несовместимости к объединению в борьбе с властью, к консолидации усилий для того, чтобы у власти власть отнять. Если это получается, как, например, в Грузии или Азербайджане, они очень быстро уничтожают друг друга. Русский писатель Федор Достоевский назвал в свое время подобного рода публику бесами. Правильно, точно назвал.
Очень меткую характеристику сути узбекской оппозиции я услышал там, где меньше всего ожидал. Двадцать четвертого июня и первого июля 2000 г. радиостанция "Свобода" провела "круглый стол" на тему "Центральная Азия: откуда исходят угрозы". Причем произошло это разоблачение помимо воли участников "круглого стола", сотрудников таджикской, узбекской, казахской и кыргызской редакций, которые в связи с визитом Путина в Ташкент собрались, чтобы убедить слушателей в опасности усиления влияния России в регионе.
Среди различного рода инвектив по поводу России и Узбекистана прозвучал такой диалог. Цитирую его дословно, по записи на кассете.
"Нарын Аип (кыргызская редакция): Жума Намангани. Большой вопрос: кому он служит? Талибам, узбекскому президенту или России? Действия Намангани (имеется в виду вторжение в Баткенский район Кыргызстана. – Л.Л.), способствовавшие возвращению России в Центральную Азию, очень напоминают рейд Басаева в Дагестан, спровоцировавший вторую чеченскую войну.
Салимжон Аюп (таджикская редакция): Последние два года вы ничего не слышите о таджикских исламистах... Все эти исламисты (таджикские и узбекские), если использовать теорию Льва Гумилева, это пассионарии, которых в период перестройки привел в движение господин Горбачев. Вот тогда они и вышли на сцену. Одни из них пошли в демократы, другие – в исламизм. Сегодня, когда таджикские исламисты сидят в министерских кабинетах, это уже не исламисты. Чем отличаются рахмоновские министры от министров, которых привел к власти господин Нури? Абсолютно ничем. Они также хотят работать, хотят получить какие-то дивиденды.
Тенгиз Гудава (ведущий): Вы имеете в виду коррупцию?
Салимжон Аюп: Может быть. За что сейчас борются узбекские пассионарии (так он называет Жуму Намангани и Тахира Юлдашева. – Л.Л.)? За то, чтобы сидеть в тех же кабинетах, что и министры Каримова. Дайте им посты министров, и никакой исламской угрозы не будет.
Зебуниссо (узбекская редакция): Салим-ака! Вы только что упомянули, что в Восточном Таджикистане есть районы, которые не подчиняются ни Рахмонову, ни Нури? Как это получилось?
Салимжон Аюп: Это те, кому ничего не досталось. Они говорят: воевали мы, а должности получили другие. Дайте им должности, и всякое противостояние закончится".
Нужно ли что-либо добавить к сказанному? Как говорится, умри, но лучше не напишешь. Очень компетентные суждения, ни в каких комментариях не нуждающиеся.
Есть ли будущее у оппозиции в Узбекистане? Может ли она прийти к власти легальным путем, через парламентские или президентские выборы? Не о террористах, естественно, речь. У них единственная форма активной деятельности – это террористические акты. Мы говорим о цивилизованной оппозиции. Для меня очевиден отрицательный ответ на этот вопрос. Такой узбекской оппозиции сейчас нет. Нынешняя оппозиция исчерпала себя, нужны новые идеи, новые политики, новые лица.
Однако что может произойти со страной, если к власти приходит так называемая национал-демократическая оппозиция, я представить могу.
Летом 1991 г., будучи в служебной командировке в Грузии по поручению Президента Акаева, я получил предметный урок на тему "Национал-демократическая оппозиция у власти". Фантасмагорическое это было представление, как в повести братьев Стругацких "Трудно быть Богом".
Состояние страны уже тогда, через несколько месяцев после прихода Гамсахурдиа к власти, можно было охарактеризовать как разруху и анархию. В магазинах и даже ресторанах отсутствовали самые необходимые продукты, даже в отелях высшего разряда были перебои с водой и электричеством. В приемной Гамсахурдиа и премьер-министра Сигуа на подоконниках и столах сидели давно не бритые люди в черных рубашках, с автоматами, играли в нарды, шумели. Дым стоял коромыслом. Такие сцены я видел только в кинофильмах о гражданской войне в России или о мексиканской революции.
Большинство префектов (руководителей местной администрации) были из бывших диссидентов. Люди, судя по всему, интеллигентные, но не имеющие навыков администрирования.
Например, префектом в Мцхете стал профессор истории, специалист по иудейскому христианству. Он выглядел на новой должности настолько беспомощно, что сам о себе рассказывал анекдотические истории, случившиеся с ним в действительности и выдуманные. Ненамного компетентней был и префект Гори, в прошлом учитель. Умный и наблюдательный от природы человек, он понимал, что оппозиция, придя к власти, оказалась неспособной эту власть реализовать, что страна катится в пропасть. Он так мне и сказал: "Каждому свое. Мы, диссиденты, показали свою способность бороться с тоталитарным коммунистическим режимом, против русификации Грузии. Но создавать, как выяснилось, мы не можем. Не дано нам этого".
Особенно бросалось в глаза тотальное подавление свободы слова и вообще любого плюрализма мнений. Все те обвинения, которые Гамсахурдиа бросал в лицо властям, будучи оппозиционером, на поверку оказались откровенной демагогией. По своим внутренним психологическим установкам он и его ближайшие соратники и не желали, и не способны были к диалогу с оппонентами и вообще с инакомыслящими, проявили себя как политики, начисто лишенные толерантности, в том числе по отношению к этническим меньшинствам.
Причем прибегала новая власть к таким формам борьбы со своими идейными и политическими противниками, которые прежняя власть не допускала. Разве что в сталинских застенках в тридцатые годы. Только один пример. Глубокоуважаемый в Грузии писатель Чабуа Амирэджиби, автор широко известного читающей публике в бывшем Советском Союзе романа "Дата Туташхиа", после выступления с критикой Гамсахурдиа был избит полицией. Семидесятилетнему писателю сломали челюсть.
Не менее убедительным был в этом смысле и опыт Азербайджана, где в 1992 г. президентом стал один из руководителей Народного фронта Абульфаз Алиев, филолог, научный сотрудник Академии наук. Военизированные отряды Народного фронта посадили Абульфаза Алиева в кресло президента и назвали его Эльчибеем отцом народа (титул аналогичный Туркменбаши). Эльчибей и его команда, составленная из наиболее активных представителей националистической оппозиции, в короткое время показали свою полную непригодность для организаторской политической деятельности, неспособность выработать реалистическую государственную линию.
В стране еще более возросла коррупция (хотя казалось,что ей больше некуда расти), усилила свои позиции организованная преступность, продолжался спад производства, была проиграна война за Нагорный Карабах. В июне 1993 г. Эльчибей и его окружение, которые вели себя крайне агрессивно и бескомпромиссно с распадающейся государственной властью на исходе перестройки, оказались беспомощными перед вооруженными бандформированиями полевого командира Сурета Гусейнова, которые шли победным маршем на Баку. Эльчибей ушел в отставку, буквально бросив власть.
Думаю, что один из этих вариантов (скорее азербайджанский) был бы уготован и Узбекистану, если предположить, что национал-демократы во главе с Салихом смогли бы прийти парламентским путем к власти в период своего наивысшего подъема. Причем и в Грузии, и в Азербайджане для спасения страны пришлось призвать бывших советских партократов Шеварднадзе и Алиева. Кого бы призвали в Узбекистане?
Так что же делать? Ждать естественного развития событий, а пока жить без оппозиции? Или нынешний политический режим уже несет в себе новые оппозиционные начала, какую-то особую форму оппозиции?
Некоторые западные исследователи называют сложившийся в постсоветских странах политический режим демократурой или номенклатурной демократией режимом, который ограничивает возможности эффективной массовой политической деятельности, но допускает конкуренцию на элитарном уровне. И видят в этом приемлемую на данном этапе развития этих стран форму легализации оппозиции (Schmitter Philippe С. and Karl Terry L. The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go? – Slavic Review. 1994. № 1).
В постсоветских государствах Средней Азии демократура, помимо всего прочего, это еще и разрыв консолидации титульной нации, это кланы вместо политических партий. Какими бы слабыми ни были сегодня политические партии в Узбекистане, они, несомненно, более прогрессивные общественные структуры, чем различные земляческие и другие субэтнические неформальные образования.
Вместе с тем не могу не повторить: по моему мнению, модернизация в Узбекистане не сможет набрать необходимые обороты без участия оппозиции как силы, способствующей принятию правильных стратегических решений и их реализации. Не менее важно и то, что наличие легальной оппозиции имеет большое значение для поддержания демократического имиджа Узбекистана в глазах ведущих государств Запада, от экономической, политической и военной поддержки которых страна в немалой степени зависит.
Повторю и свой вопрос: что же должна делать власть? На мой взгляд, способствовать формированию такой общественно-политической среды, в которой могла бы достаточно быстро сложиться конструктивная оппозиция. Я имею в виду так называемую лояльную оппозицию, признающую, во всяком случае, законность власти, ее роль в политической жизни и вместе с тем имеющую другие взгляды, другое понимание тех или иных реформ или их отдельных аспектов, чем власть.
В этом смысле развитие партийной системы, дело хорошее и нужное, не является, скажем так, достаточно эффективным путем. По моему убеждению, в сегодняшнем Узбекистане, в значительной мере традиционном, при еще не сложившемся новом среднем классе, сейчас и в обозримом будущем самым высокозначимым элементом гражданского общества, в том числе несущим здоровые оппозиционные начала, мог бы стать блок местного самоуправления. Однако при одном непременном условии: если он не будет соединен с вертикалью исполнительной власти, как сейчас, и будет организован не сверху вниз, а снизу вверх, когда махалля (сюда я отношу с известной условностью и сельские общины) демократическим путем создадут свои объединения в районах и областях и ассамблею или конгресс на республиканском уровне.
Вот отвечающий логике истории становой хребет гражданского общества в стране, вот требуемая общественно-политическая инфраструктура для возможности выражения действительных интересов различных социальных групп, оппозиции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Над центральной площадью Ташкента взметнулся в воздух внушительных размеров глобус. На нем запечатлен Узбекистан в многократно увеличенных размерах. Это нарушение пропорций я воспринимал как художественную гиперболу. Думаю, что ошибался. Ведь, по-видимому, возможно определять размеры того или иного государства исходя не из географических, а из исторических констант, из того вклада, который внесла эта страна в развитие всемирной культуры. И тогда Узбекистан на глобусе – это вовсе не гипербола.