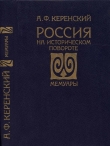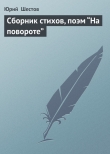Текст книги "Узбекистан на историческом повороте"
Автор книги: Леонид Левитин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
В результате относительно свободных выборов народных депутатов СССР и союзных республик 1989-1990 гг. в стране появились парламенты, претендующие на то, чтобы единовластно решать все и вся, быть высшим органом системы Советов. Такой настрой был и в Верховном Совете Узбекистана образца девяностого года. Местные же Советы снова потеряли свой изначальный смысл, как форма организации муниципальной, коммунальной власти. Вновь ушло куда-то на задний план понимание того, что власть на местах по сути своей не государственная, а общественная, что ее главная задача – обеспечение нужд населения, решение проблем территориальных коллективов. К тому же с учетом местных традиций, сложившихся обычаев, особенностей культуры.
Таким образом, реформа местного самоуправления в независимом Узбекистане, как и в любой другой постсоветской стране, предполагала десоветизацию применительно к обоим видам Советов: и доперестроечных, и послеперестроечных.
А была ли "десоветизация" в Узбекистане?
В поисках ответа на этот вопрос обратимся к Конституции Узбекистана. А именно – к главе XXI, которая называется "Основы государственной власти на местах". В различных статьях этой главы написано, что "представительными органами власти (из текста очевидно, что речь идет именно о государственной власти. – Л.Л.) в областях, районах, городах являются Советы народных депутатов, возглавляемые хокимами", что "хокимы возглавляют одновременно не только представительные органы власти, но и исполнительную власть на соответствующей территории, что хоким области и города Ташкента назначается и освобождается от должности Президентом и утверждается соответствующим Советом народных депутатов. Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности хокимом соответствующей области и утверждаются соответствующим Советом народных депутатов". Местное же самоуправление, как следует из ст. 102 Конституции, начинается и кончается на уровне махалля и сельских сообществ. Словом, все как в доброе советское время. Или, точнее, почти все. Почти, но самое главное – соединение в Советах (заметьте, с большой буквы) функций и законодательной, и исполнительной власти (ст. 100) и их единая система (часть вторая ст. 102). Объяснить этот феномен я не берусь. Тем более что он, как говорится, соткан из противоречий. По точному смыслу ст. 10 Конституции народными депутатами могут именоваться лишь депутаты Олий Мажлиса, а ст. 11 относит разделение законодательной и исполнительной власти к основному принципу государственной власти на всех ее уровнях. Но дело не столько в имеющихся противоречиях. Мне просто трудно понять логику этого решения. Между прочим, такой советский вариант применен, кроме Узбекистана, только в одной стране СНГ – Таджикистане. Во всех же остальных территориальная государственная администрация и местное самоуправление или параллельно сосуществуют и сотрудничают в городах, районах и областях (например, Украина), или разделили между собой территориальные уровни: на городском и районном местное самоуправление, на областном – государственное управление (например, Армения).
Два шага вперед – шаг назад
В начале девяностых власть делала на махалля большую ставку. Президент Каримов тогда говорил: "Если махалля будет занимать подобающее место в нашем обществе, если в махалля будет мир и согласие, у нас на все хватит сил". Вот несколько законодательных фрагментов, отражающих государственную политику в отношении махалля.
В соответствии с Указом от 12 сентября 1991 г. создан республиканский благотворительный фонд "Махалля". В числе главных задач фонда: всестороннее содействие в бережном сохранении и обогащении исторически сложившихся традиций и обычаев; утверждение милосердия и организация взаимопомощи; содействие социальному, экономическому и культурному развитию махалля. Почетным председателем фонда стал Ислам Каримов. С 1995 г. фонд издает газету с одноименным названием – "Махалля".
Второго сентября 1993 г. был принят Закон "Об органах самоуправления граждан" (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 1997 г. и в новой редакции от 14 апреля 1999 г.). И хотя этот Закон предусматривает для координации деятельности органов самоуправления возможность создания Республиканского совета аксакалов, а также областных, районных, городских координационных советов по делам самоуправления граждан, в сути своей он реликт советского прошлого. Очень ординарный, палиативный закон. Другим, собственно говоря, он и не мог быть в системе той инфраструктуры местного самоуправления, которая существует сейчас в стране. Действительно, как могли появиться в Законе необходимый общественный пафос и политический масштаб, если махалля по конституции находится в полном смысле слова на обочине политической жизни.
Справедливости ради нельзя не сказать о том, что в 1994 г. по инициативе Президента махалля были выдвинуты на авансцену социальной политики в стране. Двадцать третьего августа 1994 г. органам самоуправления граждан в махалля (кишлаков, поселков) были переданы полномочия по социальной помощи малообеспеченным семьям из средств государственного и местных бюджетов. Затем эти социальные функции махалля были конкретизированы. С 1 января 1997 г. им было поручено распределять государственные пособия нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет, а с 1 марта 1999 г. пособия для ухода за ребенком до достижения им двух лет, обеспечивать продуктами питания нуждающихся пенсионеров.
Стало очевидно, что власть, проявляя неизменную уважительность и комплиментарность в отношении махалля, явно сделала ход назад в плане усиления их реальной роли как одного из основных институтов гражданского общества. По-видимому, произошло следующее. С одной стороны, передача махалля широких полномочий в социальной поддержке населения задела интересы определенного слоя чиновников в государственном аппарате в центре и на местах. А с другой – и в махалля, возможно, нашлись нечестные люди, случались факты каких-то злоупотреблений. Как бы то ни было, ничего, кроме сожаления, все это вызывать не может.
Однако при всем при том махалля живут и не утрачивают своей огромной потенциальной силы. Сегодня, как и много столетий назад, в них, говоря словами поэта, сохранились "чувства золотого соседства и незримые общие счетчики слез и радостей". Это главное.
Европейская хартия и скандинавская модель
Возрождение интереса к местному самоуправлению, к местным самоуправляющимся общинам и сообществам, к свободным коммунам стало европейской и в известной мере мировой универсалией. Действовали такие институты, как Международный союз общин со штаб-квартирой в Гааге, Международная ассоциация по управлению городами и областями, Европейский союз общин с центром в Париже, Конгресс местных и региональных властей Европы.
В 1985 г. по инициативе Совета Европы была принята "Европейская хартия местного самоуправления" – один из главных источников муниципального права европейских государств, намечающий пути дальнейшего развития местного самоуправления в этих странах (Европейская хартия местного самоуправления. М.: Фонд развития парламентаризма в России. 1998).
При разработке Хартии использовали достижения европейской философской и социологической мысли, сформулированные еще в ХIХ в. Интересно в этом плане высказывание известного французского историка и социолога Алексиса Токвиля: "Общинные институты играют для установления независимости ту же роль, что и начальные школы для науки. Они открывают народу путь к свободе и учат его пользоваться этой свободой" (Токвиль А. Демократия в Америке. – М. 1992. С. 65).
Анализ принципов, на которых основана Хартия, свидетельствует о том, что современная Европа считает уровень развития местного самоуправления одним из основных критериев подлинной демократии. "Именно местное самоуправление, говорится в Хартии, – позволяет гражданам участвовать в принятии решений, касающихся как их повседневной жизни, так и общегосударственных дел, и гарантирует осуществление иных гражданских прав. Навыки самоуправления воспитывают у населения чувство гражданской ответственности. Вместе с тем органы местного самоуправления призваны выполнять роль посредника между личностью и государством".
Из Хартии следует, что местное самоуправление должно уравновешивать власть государства, ограничивать ее, не допускать с ее стороны произвола. Передача властных полномочий на места позволяет также избежать перегрузки центрального правительства частными проблемами, важными для определенных локальных сообществ.
Хартия обязывает государства, входящие в Совет Европы, беречь и укреплять политическую, административную и финансовую самостоятельность местных сообществ. Учитывая стремление стран Европейского континента к политическому, финансовому, культурному объединению, роль коммунальных, самоуправленческих начал наверняка будет возрастать. Громадное административное и экономическое целое, в которое постепенно превращается Европейский союз, требует все более мощных ограничителей и противовесов. А создать их способны, исходя из Хартии, только местные самоуправляющиеся общины (Frieder, Partizipative Demokratie (Erfarungen mit der Modernisierung kommunaler Verwaltungen) – Demokratie am Wendepunkt, Siedler Verlag. – Berlin. 1996. S. 294-307).
Надо отметить, что в мире выделяются три основные модели местного самоуправления. Они условно обозначаются как североамериканская, южноевропейская и скандинавская, или североевропейская. При североамериканской модели сфера деятельности муниципалитета относительно узка, фрагментарна и в большей степени направлена на обслуживание интересов бизнеса, чем на удовлетворение потребностей отдельных граждан.
Южноевропейская модель характерна, например, для Франции и Италии, когда муниципальная активность сравнительно невысока, но местные политические интересы влияют на политику на национальном уровне. Североевропейская модель действует в Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании. Муниципалитеты здесь очень активны и решают широкий спектр задач и местного, и общегосударственного значения. В этих странах развита муниципальная кооперация в области здравоохранения, образования и т.д.
Деятельность названных моделей местного самоуправления может быть оценена, в частности, путем вычисления занятости, которая приходится на муниципалитеты, по отношению к занятости в государственном секторе. Этот показатель в 1991 г. составлял: в Дании – 70%, Норвегии – 64%, Швеции – 54%, США – 50%, Великобритании – 38%, Германии – 15%, Италии – 12%, во Франции – 11%.
Важен и такой показатель, как доля местных общин в потреблении ВНП. Он выглядит следующим образом: Швеция – 18,7%, Дания – 17,7%, Финляндия – 13,5%, Норвегия – 13%, Великобритания – 8,2%, Италия – 7,4%, Нидерланды – 7,5%, Франция – 4,4% (Полис. 1999. № 2. С.158).
Скандинавские и некоторые другие страны сегодня вполне можно назвать муниципальными государствами. Многие исследователи проблем местного самоуправления на основе глубокого анализа современного мирового опыта приходят к выводу, что разделение власти между центром и территориями, между государственной властью и местным самоуправлением сейчас является не менее важным демократическим институтом, чем традиционный механизм разделения власти по функциям (Lane Jan-Erik. Constitutions and political theori. – Manchester and N.Y. 1996. P. 243-246).
Из этих трех моделей Европейская хартия в большей мере ориентирована на североевропейскую. И Узбекистану, в силу некоего удивительного сходства в организации общинной городской жизни, она тоже наиболее близка.
Палата махалля
К чему приводят наши рассуждения о махалля? Какие можно сделать выводы из них? Совершенно очевидно, что этот социальный институт призван решать важнейшие для судеб страны задачи. Убежден, что в Узбекистане, как ни в какой иной постсоветской стране, государственная власть не может быть стабильной, эффективной, если она постоянно не подпитывается жизненными соками мощной корневой системы местного самоуправления.
Работающие на полную мощь махалля – это реальная общественная поддержка демократических и рыночных реформ снизу, это один из путей постепенной реприватизации власти. Именно в махалля могут эффективно решаться вопросы противостояния исламскому экстремизму. И местные сообщества этнических меньшинств Узбекистана – оптимальная среда для реализации их специфических интересов.
Я не призываю к каким-то скоротечным переменам, да они и невозможны. Прежде всего необходимо понимание властью неизбежности коренных реформ государственного управления территориями и местного самоуправления ими. Их разделение должно быть только вопросом времени. Пока же, если я не ошибаюсь, такого понимания нет.
В ходе предлагаемой реформы все должно быть поставлено с головы на ноги: не районные и областные советы должны командовать махалля, а, наоборот, махалля, создаваемыми ими советами.
Как мне кажется, власть не против координации усилий махалля в масштабе всей страны. Думаю, что одной из оптимальных форм такой координации мог бы быть, скажем, Конгресс махалля. Две основные цели этого конгресса: во-первых, содействие решению наиболее важных проблем местных сообществ и их объединений, представительство по этим вопросам в органах государственной власти; во-вторых, содействие формированию политических интересов и политической воли народа Узбекистана на местном уровне.
Словом, Конгресс махалля, по моему мнению, призван стать не только формой взаимодействия местных общин, не только формой их сотрудничества, но и действительно влиятельной политической силой, что отражало бы политическую и общественную специфику переходного периода в Узбекистане.
В начале девяностых, беседуя с политическими деятелями и учеными Узбекистана о перспективах развития парламентаризма в стране, я приводил доводы в пользу двухпалатного Олий Мажлиса. И при этом подчеркивал, что одна из палат должна, по моему убеждению, называться палатой махалля. Последнее вызывало насмешливое недоумение, воспринималось как некое заумное чудачество.
А что, палата общин в английском парламенте, самом старом и самом уважаемом парламенте мира, тоже чудачество?
В 1265 г. в Лондоне собрались рыцари из графств и представители разных городов. Через 30 лет эти представители стали выбираться общинами. И вот выбираются уже 700 лет. Палата общин парламента Великобритании – образец демократически организованной законодательной власти. Думаю, что Узбекистану не грех было бы использовать этот пример, для чего имеются достаточные исторические основания.
В последнее время в теме махалля появился новый аспект. Власть Узбекистана понимает, что борьба с исламским экстремизмом может быть успешной, только если ему будет объявлена всенародная Отечественная война. Отечественная с большой буквы. В узбекском обществе это немыслимо без махалля. Они полки и дивизии народного войска.
В докладе Президента Каримова на сессии Олий Мажлиса 22 января 2000 г. была подчеркнута та большая роль, которую могут сыграть в деле обеспечения безопасности страны и безопасности в стране "Чегара посбонлари" и "Махалля посбонлари" (общественные опорные пункты).
Понятно, что это только начало. Первая страница сюжета, первая ласточка вестник новой формы, нового направления в деятельности махалля. Безмерно важного направления.
Кооперация
Западные ученые, занимающиеся исследованием проблем кооперации, обоснованно утверждают, что кооперативизм стоит посредине между эгоизмом, формируемым в условиях беспощадной конкуренции при капитализме, и примитивным коллективизмом коммунистических государств.
За годы независимости в аграрном секторе Узбекистана немало сделано для выхода из глубочайшего кризиса, в который было ввергнуто сельское хозяйство страны за годы советской власти. О достижениях в проведении аграрной реформы я уже писал.
Вместе с тем нельзя не признать, что это лишь начальный этап настоящей, глубокой аграрной реформы, что кооперативное движение в Узбекистане далеко не отвечает мировым стандартам. И на организационном, и на экономическом, и на политическом, и на правовом, и, что сейчас, по-видимому, самое главное – на психологическом уровнях. Я имею в виду не только коренное изменение психологии самого крестьянства, но и государственной власти на всех ее уровнях.
Аграрная реформа в Узбекистане ставит своей целью создание частного сельскохозяйственного производства на базе фермерской модели сельского хозяйства. Ясно, что вне кооперации такое мелкое хозяйство не сможет обеспечить даже свои внутренние потребности. Кооперация в ее истинном понимании – это прежде всего продолжение деятельности фермерского или крестьянского хозяйства. Фермерское и крестьянское хозяйство и кооперация столь неразрывны, что одно без другого существовать не могут.
Между тем нынешнее состояние кооперации в сельском хозяйстве страны не отвечает потребностям фермерских и крестьянских хозяйств в снабжении сельскохозяйственными машинами и механизмами, их обслуживании и ремонте, в обеспечении горючим, удобрениями, семенами, ядохимикатами, в агрономическом, зоотехническом и ветеринарном обслуживании, в обучении новейшим технологиям, в строительстве на селе, в содействии реализации произведенной сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынке, в организации перерабатывающих предприятий, в кредитовании, в культурно-бытовом обслуживании.
Наряду с производственно-хозяйственными и финансовыми функциями сельскохозяйственный кооператив призван заниматься не менее важными для крестьян социальными, культурно-бытовыми и культурно-воспитательными проблемами. Или, иначе говоря, соединять и усиливать два общественных полюса: предпринимательства и труда и социальной защиты. Выполняет ли сейчас кооперация крестьян в Узбекистане эти функции? Если и выполняет, то в недостаточной мере. Так же как и в случае с махалля, нельзя говорить о будущем кооперации в Узбекистане вне мирового опыта, вне учета того факта, что усиление роли сельскохозяйственной кооперации продолжает оставаться мировой универсалией.
Мне пришлось некоторое время изучать опыт сельскохозяйственной кооперации в Германии. В этой стране удивительным образом реализованы установки выдающегося идеолога кооперативного движения Фридриха Вильгельма Райффайзена (1818-1888.). Свое кредо он выразил так: "По моему убеждению, имеется только одно средство для того, чтобы улучшить социальное и особенно экономическое состояние мелких производителей, – привести в действие принципы солидарности в свободных товариществах или кооперативах".
Райффайзен сформулировал основополагающие принципы кооперации: взаимопомощь, личная и общая ответственность, самоуправление.
В 1997 г. райффайзеновская кооперация в Германии (в стране функционируют кооперативы и иного типа) охватывала 3950 первичных кооперативов – кредитных и товарных, снабженческих и сбытовых, молочных, животноводческих и мясных, фруктовых, овощных и цветоводческих, виноградных, рыболовецких, – объединяющих 3530 тыс. человек. Эти кооперативы являются мощными рыночными организациями, оказывают своим членам многостороннюю хозяйственную, финансовую, техническую, консультационную поддержку и помощь. Вместе с тем они решают важнейшие задачи и социальной поддержки крестьян.
Райффайзеновским кооперативам принадлежит 58% сельскохозяйственных угодий страны. Ежегодно они производят 11,5 млн. тонн зерна, 10 млн. тонн мяса (в убойном весе), 22 млн. тонн молока. В денежном выражении ежегодная продукция кооперативов составляет 75-80 млрд. марок. В рамках райффайзеновского кооперативного движения функционируют 6 крупных кооперативных банков, в том числе 2 ипотечных, 2 страховых центра, инвестиционный союз, фонд недвижимости, союз по лизингу. Райффайзеновский союз Германии оказывает широкую и разностороннюю помощь кооперативному движению во многих странах. Сейчас в мире существуют сотни тысяч кооперативов райффайзеновского типа, объединяющие примерно 350 млн. человек. В связи со 150-летием со дня рождения Райффайзена, в 1968 г. во Франкфурте-на-Майне был основан Международный райффайзеновский союз, объединяющий 92 кооперативные организации и ассоциации из 44 стран.
Таково практическое доказательство значения сельскохозяйственной кооперации.
Не могу не вспомнить слова Александра Чаянова, замученного в сталинских застенках русского ученого и писателя, выдающегося исследователя и неукротимого защитника идей кооперации: "В твоих собственных руках лежит твое будущее, русский крестьянин! Для тебя к светлому счастью трудовой жизни нет иного пути, кроме кооперативного. Знай, что этот путь – единственный. Сбиться с него – значит погибнуть". Думаю, что эти слова в полной мере можно адресовать и узбекскому крестьянину.
В предисловии к своей книге о теории сельскохозяйственной кооперации, написанной в первые годы нэпа, Чаянов рассказывает о путешественнике, который осенней ночью едет по подмосковной проселочной дороге. Дождь, слякоть, тьма. А где-то сияющий мир, залитые светом города. И этому путешественнику очень жаль людей за темными окнами маленьких и кособоких деревенских домиков. Он ведь не знает, пишет Чаянов, что этим людям не надо сострадать, потому что они счастливы, счастливы тем, что они свободные кооператоры. Будущее, которое создадут эти люди, будет наполнено светом, так как это будущее – кооперативная страна. Вот такой возвышенный художественный образ.
Для меня очевидно, что Узбекистан одно из самых благоприятных на земном шаре мест для развития настоящей, истинной кооперации. Многовековая история узбеков сформировала сложный тип мотивации трудовой деятельности. Он не укладывается в классические схемы, основанные или на индивидуализме, или на общинности. В трудовом сознании узбеков – синтез этих двух противоположных ориентаций.
Большинство узбекских крестьян буквально рождаются искусными земледельцами, из поколения в поколение передается у них удивительное трудолюбие и самодисциплина, для них характерен прагматизм и энергичный поиск возможностей личного заработка и личного успеха. И все это на фоне узбекской общинности, сцепления людей разнообразными неформальными связями, одушевления их чувством солидарности, общественного взаимодействия и коллективного труда.
Мне могут возразить, сказать, что в своей критике развития кооперации в Узбекистане я сгущаю краски, сослаться на Закон "О кооперации" (от 14 июня 1991 г., с изменениями и дополнениями от 23 декабря 1993 г. и 29 августа 1998 г.) и Закон "О сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)" (от 30 апреля 1998 г.). Однако, к сожалению, это как раз тот случай, когда между законами и их реализацией достаточно большая дистанция.
Вспоминаются встречи с фермерами в Андижанской и Самаркандской областях летом 1995 г. Вместе с Дональдом Карлайлом мы беседовали с этими людьми о разных сторонах их жизни. Несмотря на естественную сдержанность и даже осторожность, некоторые из них достаточно определенно, правда не называя фамилий, говорили о том, что хокимияты не заинтересованы в развитии хозяйственной независимости крестьян, так как боятся потерять реальную власть над ними.
Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что спонтанно, без постоянной и целенаправленной государственной поддержки на всех уровнях, от президента и до районных хокимов, без неразрывной связи сельскохозяйственной кооперации с местным самоуправлением, без широкой и разносторонней помощи со стороны кооперативных союзов развитых зарубежных стран кооперативное движение в Узбекистане не получит необходимого ускорения. И тогда – застой, торможение аграрной реформы, усиление кризисных явлений. Словом, альтернативы здесь нет. Точнее, нет разумной альтернативы. Понимают ли это в высшем, первом круге власти? Думаю, что понимают.
КОРОТКО О ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
В Узбекистане осуществляется монетарная политика, направленная на защиту национальных интересов. В связи с сокращением в стране валютных резервов в 1997 г. было значительно усилено принудительное валютное регулирование, возможности конвертируемости сума в СКВ снизились, поскольку он официально может обмениваться только по завышенному курсу, который устанавливает Центральный банк Узбекистана.
Особые правила валютного регулирования в Узбекистане властные структуры объясняют необходимостью защиты внутреннего рынка от той зарубежной продукции, которая по причине неконкурентоспособности на мировых рынках устремляется в страны с переходной экономикой, где собственное производство находится в процессе перестройки.
Из официальных документов следует, что свободная конвертируемость сума связана с улучшением структуры производства и экспорта, преодолением технического отставания от промышленно развитых стран, повышением качества продукции, эффективности производства, производительности труда.
В то же время существует достаточно многоголосый хор критиков монетарной политики в Узбекистане. Лейтмотив критики: иностранные инвесторы попадают в этой стране в чрезвычайно сложные условия, связанные с действующими процедурами обратимости сума в СКВ. Приобретение лицензии на конвертирование сопряжено для зарубежных инвесторов с непростым общением с коррумпированными чиновниками.
От этой критики просто так отмахнуться нельзя. В то же время нельзя упускать из виду и то, что те бизнесмены, которые пришли не просто торговать, а строить, созидать, производить, имеют в Узбекистане разнообразные льготы. Для таких инвесторов практически нет валютных ограничений.
В этой связи хочу привести отрывок из интервью Президента Каримова радио "Свобода", переданное 5-6 ноября 1998 г.
"Радио "Свобода": Господин президент! Вот вопрос, интересный для многих бизнесменов, которые хотели бы работать на узбекском рынке: в Узбекистане уже несколько лет ограничена конвертируемость национальной валюты – сума. Он не может быть переведен в доллары. Какая перспектива видится вам в решении этой проблемы?
И.Каримов: Узбекистан хотел бы рационально использовать свои валютные поступления. За счет чего они поступают? За счет продажи в основном сырьевых ресурсов: хлопка, золота, цветных металлов, газа и стратегических материалов. Если бы сегодня мы согласились с тем, что и дальше будем все это поставлять, а поступившую валюту тратить на покупку жвачек, кетчупов или потребительских товаров, к нам со стороны Международного валютного фонда не было бы никаких претензий. Мы даем богатым странам, которые представлены в МВФ, сырье, взамен они дают нам валюту, валюту мы тратим на покупку товаров, производимых в этих странах... Я утверждаю: валютные поступления мы должны разумно распределять между покупкой потребительских товаров и покупкой технологий. И за этот счет обеспечить производство продукции для экспорта. В этом мы видим перспективу Узбекистана. Однако правительство обязалось не позднее 2000 года снять имеющиеся ограничения конвертируемости валюты. Это, конечно, изменит наш валютный баланс, мы будем тратить большую сумму на покупку продовольственных товаров. Что поделаешь, будем действовать по этой схеме, я убежден, что Валютный фонд и Мировой банк поддержат эту идею.
Радио "Свобода": Тогда Узбекистан будет брать кредиты у МВФ?
И.Каримов: "Мы будем брать кредитов ровно столько, чтобы это не превратилось для нас в обузу, чтобы наш бюджет не работал на 40 процентов, как в России, на обслуживание внешних кредитов. Сегодня нами для обслуживания наших внутренних и внешних долгов тратится всего 8 процентов бюджета".
Как считают многие эксперты, противоречие между необходимостью экономически эффективного налаживания всего платежного механизма, включая конвертируемость сума, и большими трудностями его осуществления, создает немалые сложности в современной экономике Узбекистана, такие, как несбалансированность многих отраслей производства, низкая финансовая дисциплина и неплатежи, дефицит ряда продовольственных и промышленных товаров отечественного производства и т.д. Для решения этих проблем потребуется, без сомнения, немало лет упорного труда.
РАЦИОНАЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ:
И ЦЕЛЬ, И СРЕДСТВО
Человеческий фактор государственного
аппарата
На основе мировой практики можно утверждать, что определенный уровень рациональной бюрократии есть необходимое условие модернизации, одна из объективных закономерностей этого процесса. Термин этот применяется достаточно редко, и уже поэтому целесообразно несколько подробнее поговорить о постсоветском государственном аппарате, сосредоточить внимание на его человеческом факторе. В самом общем виде рациональная бюрократия это государственный аппарат, главным образом аппарат исполнительной власти в ее человеческом измерении. Сущность рациональной бюрократии можно понять только в сравнении с ее антиподом – партикуляристской бюрократией.
В профессиональной деятельности рациональной бюрократии существует приоритет государственных интересов над личными и групповыми, а у партикуляристской – наоборот. Партикуляристская бюрократия – по уже упоминавшейся оценке Карла Маркса – в сущности, приводит к потере государственным аппаратом содержательных целей своей деятельности, его функционирование сводится к сохранению и укреплению самой этой бюрократии.
Различие между рациональной и партикуляристской бюрократией иногда недооценивают наблюдатели и аналитики. Между тем оно определяет приоритеты и стандарты повседневной деятельности чиновников государственного аппарата практически всех уровней и в конечном счете создает своего рода кристаллическую решетку стиля управления обществом. Одну или другую. После обретения независимости Узбекистан получил в наследство от советской власти именно партикуляристскую бюрократию. За девять лет независимости она не только не ослабела, но и укрепилась. Ядро аппарата исполнительной власти составляют кадры бывшей партгосноменклатуры среднего уровня, разбавленные новыми карьерными профессионалами-управленцами, которые приняли правила игры своих предшественников. Именно этот слой не только удержал, но и, более того, приватизировал власть.
Приватизация власти по-постсоветски – тема особая, сложная и многогранная. Здесь я хотел бы только заметить, что ее важнейшей стороной является уже хорошо известный нам по Брежневской эпохе клиентелизм, то есть зависимость чиновников (как правило, материальная) от других более влиятельных чиновников, крупных и очень крупных дельцов. Клиентелизм – это утрата властью своего общественного предназначения, это превращение политической карьеры и государственной службы в высокодоходный бизнес.