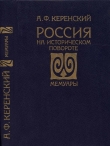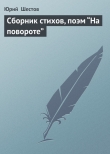Текст книги "Узбекистан на историческом повороте"
Автор книги: Леонид Левитин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Если в большинстве стран СНГ в 1992-1994 гг. продолжался инвестиционный кризис, то в Узбекистане доля капиталовложений, особенно в интенсивно ведущееся строительство, неуклонно росла. Причем в общих объемах строительства значительную долю занимало жилье, что также являлось своего рода инвестициями в будущее. В Навоийской области был введен в строй новый золотодобывающий комбинат и приступило к добыче золота из рудных отходов узбекско-американское совместное предприятие "Зеравшан-Ньюмонт". В Хорезме начал действовать завод по производству грузовых автомобилей. В числе новостроек к концу 1994 г. Асакинский автомобильный завод, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, крупные гидролизные заводы в Коканде и Андижане.
Важнейшей составной частью аграрной реформы явилась программа эффективного землепользования, включающая восстановление необходимой пропорциональности в выращивании сельскохозяйственных культур. С 1985 г. посевные площади под зерновые культуры расширились с 1,1 млн. га до 1,7 млн. га, а площади под овощами и картофелем с 0,1 до 0,2 млн. га. За этот же период площади под техническими культурами сократились с 1,77 млн. га до 1,6 млн. га. Это позволило довести валовой сбор зерновых культур в 1997 г. до 3,6 млн. тонн, увеличив его по сравнению с началом восьмидесятых годов в 3,5 раза. Картофеля было собрано 0,7 млн. тонн (в 2,5 раза больше), овощей – 2,3 млн. тонн (больше почти на 1 млн. тонн). Тем не менее в 1996-1997 гг. Узбекистан продолжал импортировать 47% потребляемого зерна, 50% картофеля, 30% молока (Бизнес и политика. 1997. № 7. С. 27).
Хлопок в Узбекистане перестал быть монопольной культурой, однако остался важнейшим стратегическим продуктом, поскольку его экспорт является основным средством получения свободно конвертируемой валюты. В 1996 г. 75% своих валютных поступлений Узбекистан получил за счет экспорта хлопка. Узбекистан продолжает занимать 2-е место в мире по экспорту хлопка и 5-е по его производству. Осуществляется программа интенсификации и модернизации производства хлопка, что позволило увеличить урожайность с 2,3 т/га в 1986 г. до 2,8 т/га в 1995 г. Однако из-за нехватки машин и топлива 80% урожая в 1995 г. было собрано ручным способом (Uzbekistan. EIU Country Profile. 1995-1996. Р. 117).
В 1991 г. в аграрном секторе было 940 колхозов, 1108 совхозов, 210 различного рода межхозяйственных объединений. На начало 1996 г. осталось всего 16 совхозов, однако число колхозов достигло 1389, к тому же имелось 866 сельскохозяйственных кооперативных и 1895 других хозяйств, главным образом арендных предприятий и крестьянских ассоциаций, объединяющих около 3 млн. личных подсобных хозяйств.
Около 1500 животноводческих ферм превращены в акционерные общества. За период 1991-1996 гг. число фермерских хозяйств увеличилось в 3,8 раза, достигнув почти 20 тыс. В последующие годы рост числа фермерских хозяйств продолжался, и по состоянию на 1 апреля 1998 г. их стало уже 23 тысячи. В результате в 1998 г. 98% сельскохозяйственной продукции (за исключением хлопка) производилось в негосударственном секторе (Основные показатели развития Республики Узбекистан за январь-март 1998 г. – Ташкент. 1998).
Несмотря на то что в Узбекистане в последние годы созданы специализированные аграрные банки, страховые компании, аудиторские службы, в сельском хозяйстве страны, по мнению независимых экспертов, до сих пор практически отсутствует рыночная инфраструктура, ограничен доступ крестьян к кредитным ресурсам, существует множество препятствий при получении земельных участков, не решаются вопросы трудоустройства избыточной рабочей силы. Все это делает малопривлекательным для крестьян участие в акционировании сельскохозяйственных предприятий.
Введение частной собственности на землю в первые годы реформ было официально признано нежелательным. Землю, как уже сказано, можно было получить в виде долгосрочной аренды с правом передачи по наследству. Такой подход объяснялся тесной связью землепользования и водопользования, а также большим числом незанятых трудоспособных лиц в аграрном секторе экономики. Особенно осторожно приходилось проводить земельную реформу в Ферганской долине, где плотность населения одна из самых высоких в мире.
В течение первых двух этапов приватизации в личное пользование крестьян было дополнительно передано более 218 тыс. га земли, в результате чего ее общий размер в приусадебных и садоводческих хозяйствах достиг почти 650 тыс. га, а вместе с фермерскими хозяйствами – 850 тыс. га. А это 20% всего земельного фонда страны. Средний размер земли в личном подсобном хозяйстве увеличился до 0,35 га, что по мировым меркам в условиях ограниченности земельных ресурсов и поливного характера земледелия считается нормальным явлением (Экономика и статистика. 1997. № 10. С. 15-18).
Внешнеторговый оборот республики в 1994 г. составил 3800 млн. долларов. Узбекистан к этому времени уже имел экономические связи с фирмами и компаниями более пятидесяти стран мира, в том числе Германии, США, Франции, Великобритании, Турции, Нидерландов, Австрии, Южной Кореи, Китая, Индонезии, Малайзии, Индии. Всего было зарегистрировано около 2000 предприятий с участием иностранного капитала. Страна установила отношения с 80 иностранными банками. В Ташкенте работают представительства Всемирного банка развития, Дойче Банка, Кредит коммерсиаль де Франс.
В 1997 г. внешнеторговый оборот страны вырос до 8910,5 млн. долларов, увеличившись сравнительно с 1994 г. почти в два с половиной раза. При этом рост общего объема экспорта обеспечивался наряду с традиционными товарами хлопком, цветными металлами и т.д. – вывозом автомобилей, пряжи, бензина, продукции электронной и биохимической промышленности. Поставки за рубеж нефти, нефтепродуктов и бензина в 1997 г. возросли по сравнению с 1996 г. в 4 раза, автомашин – в 7,4 раза, химических штапельных волокон – в 6,8 раза (Экономика и статистика. 1998. № 3. С. 6).
На начало 1998 г. общий объем инвестиций с участием иностранного капитала в Узбекистане превысил 7 млрд. долларов, а количество предприятий с иностранным участием составило 3200. Инвестиции поступили из 80 государств, в том числе 1500 совместных предприятий использовался капитал из промышленно развитых стран. В 1995-1996 гг. была начата работа по 57 проектам за счет средств иностранных инвесторов и кредиторов.
Стабильность политической обстановки и целенаправленность экономического развития являются важным фактором для притока в Узбекистан иностранных капиталов, поэтому не случайно, что по объему иностранных инвестиций на душу населения он занимает 1-е место в СНГ, при этом риск при инвестировании по сравнению со всеми другими постсоветскими странами, включая и страны Балтии, считается самым низким. Благодаря этому ведущие страховые компании мира охотно осуществляют страховые вложения в стране (Узбекистан: обретение нового облика, с. 138, 147).
И вновь о социальной политике – альфе и омеге, цели и средстве, смысле реформ в Узбекистане. Не буду повторять уже сказанное в этой главе. Только несколько дополнений. В начале процитирую Ислама Каримова, который был, без какого-либо преувеличения, и основным разработчиком, и основным экспертом узбекистанского варианта переходных социальных программ. Вот что он пишет в своей книге "Узбекистан на пороге XXI века":
"В начальный период перехода к рынку мы шли по пути упреждающей социальной защиты всего населения. Это сыграло важную роль в предотвращении резкого снижения уровня жизни людей, явилось фактором сохранения спокойствия и стабильности... В первые годы в качестве защитной меры широко использовалась система потребительских субсидий и различные формы защиты потребительских рынков против утечки основных продовольственных товаров за пределы страны. Из средств бюджета компенсировались такие социальные льготы, как бесплатные завтраки для учащихся начальных классов и одиноких пенсионеров, бесплатное питание для детей до двухлетнего возраста, а также беременных женщин, страдающих анемией, льготное питание всех школьников и студентов. Действовали льготы по оплате коммунальных услуг, проезда в городском транспорте, льготы для молодоженов и др. Благодаря такому подходу Узбекистану – стране с самыми неблагоприятными стартовыми условиями и ощутимыми социальными противоречиями удалось избежать социальных конфликтов" (с. 210-211).
Здесь, по-видимому, нужен небольшой комментарий. В первое время в Узбекистане пытались обеспечить фиксированные цены на основные продукты питания и ряд предметов первой необходимости, но громадные и все возрастающие государственные расходы на дотации привели к необходимости сокращения такого рода государственной поддержки населения и переходу к адресной системе распределения социальных благ. При этом, наряду с государственными источниками, широко привлекались средства трудовых коллективов, общественных и благотворительных организаций и фондов. Узбекистан стал одной из первых стран СНГ, осуществивших индексацию вкладов населения по состоянию на конец 1991 г. Всего на эти цели до июня 1997 г. было выплачено 4,4 млрд. сумов (при курсе 1 доллар США=60,8 сума – выплата составила около 73 млн. долларов) – ("Экономика и статистика". 1997, № 7-8, с. 3; "Деловой мир". 1997, с. 3).
Предпринятые меры по социальной защите предотвратили социальную деградацию общества, резкую дифференциацию населения по уровню доходов. В 1996 г. разрыв между доходами наиболее обеспеченной и наименее обеспеченной частей населения составлял до 7,5 раз при пороговом значении 8 раз, превышение которого свидетельствует о серьезном социальном расслоении общества.
Рассказ Николая Кучерского
Для полноты картины уместно дополнить статистические данные свидетельствами участников реформ. В этом отношении вне конкуренции Николай Иванович Кучерский, председатель концерна "Кызылкумзолото", генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината. С этим человеком я имел приятную возможность встречаться и беседовать. В своем деле он признанный специалист мирового класса, доктор технических наук, академик, человек в годах, много повидавший на своем веку и при этом сохранивший бодрость, собранность и энергию мысли. Николай Иванович по человеческой сути своей просто не способен в угоду кому-то покривить душой. Поэтому его рассказ о рыночных реформах в Узбекистане представляется мне весьма ценным. Итак, слово Николаю Кучерскому:
"После войны в СССР был урановый голод. Геологи обнаружили в 1952 г. урановые залежи в Учкудуке. Место, как говорится, гиблое: пустыня такая, что и врагу не пожелаешь. Нет воды, электричества, крыши над головой, перепад летних и зимних температур чуть ли не сто градусов. И что же в итоге? В пустыне, где на сотни верст были разбросаны лишь редкие кошары и всего несколько колодцев на заброшенной много веков назад караванной тропе к Аралу, как материализовавшийся мираж возникла новая промышленная цивилизация. Города, рудники, аэропорты, автострады, заводы, стадионы... Из-за сугубой секретности Кызылкумского проекта построенные города не сразу появились на карте. А там уже жили десятки тысяч новоселов, приехавших осваивать Кызылкум со всех концов Союза".
Прерву этот интересный рассказ для небольшого, но, думается, нужного дополнения. Дело в том, что Николай Иванович не стал вспоминать о том, как строили комбинат. Между тем Кызылкум осваивали люди, приехавшие сюда отнюдь не по своей воле, а осужденные. И в большинстве своем – не за уголовные преступления, а за бытовые и политические, которые по меркам любого нетоталитарного общества и преступлениями не являются. Строительные площадки Зеравшана, Навои, Учкудука, Зафарабада – это концентрационные лагеря, десятки тысяч заключенных, работающих от восхода до захода палящего белого солнца пустыни без элементарных бытовых условий; это тысячи оставшихся инвалидами и преждевременно умерших. За колючей проволокой, за сторожевыми вышками с пулеметами строился комбинат. Так было, и из песни, как говорится, слова не выкинешь.
Продолжение рассказа Кучерского:
"Кызылкумский проект, если оценивать его совокупную стоимость по сегодняшним мировым ценам, потянет, наверное, на десятки миллионов долларов. Возможно, он последняя, лебединая песнь "Средмаша" (советской атомной промышленности). Знаменитая эффективность комбината явилась наглядным торжеством программно-целевого метода. Суть его в том, что инвестиции делались широко и с размахом, зато и окупались быстро и, главное, всегда не за счет трудовых затрат, а благодаря разработке и внедрению новых технологий. Вся история нашего комбината тому свидетельство. Годы ушли на поиск, но в итоге была создана единственная в мире экологически безреагентная технология добычи урана методом его подземного выщелачивания.
Особый сказ про золото Мурунтау. Это крупнейшая в мире по единичной мощности разработка золота. Руда здесь бедная, зато золото дешевое, поскольку используется предложенный нами гравитационно-сорбционный метод извлечения золота из пульпы.
После распада Советского Союза мы в одночасье оказались без госзаказа, накоплений, десятилетиями налаженной кооперации. Почему же Кызылкумский полис не поглотили зыбучие пески пустыни? Прежде всего потому, что в этот час выбора судьбы комбината Президент Каримов проявил дальновидность. Он не только оценил и поддержал наш замысел перехода с бюджетного финансирования на самофинансирование и самостоятельный выход на мировой рынок, но и сделал эту задачу приоритетной. По решению президента мы получили государственные кредиты и государственное покровительство.
Словом, Навоийский горно-металлургический комбинат выстоял и продолжал развиваться. Сегодня золото и уран – два важнейших стратегических товара, с которыми независимый Узбекистан выходит на мировой рынок. Еще в 1994 г. на Лондонской бирже узбекское золото заслужило высокую оценку. В 1997 г. влиятельная Токийская биржа признала золото узбекского аффинажного завода эталонным. При всех колебаниях мировых цен на золото Мурунтау приносит стране устойчивый доход. За последние годы добыча золота увеличилась здесь в 1,4 раза.
Мировая ядерная энергетика предъявляет непрерывно растущий спрос на обогащенный уран. В США, потребляющих 40% всего мирового производства топлива для АЭС, Навоийский комбинат считается одним из основных экспортеров.
Все это удивляет тех, кто пророчил чуть ли не исход всей русской общины из Зеравшанского оазиса. Сегодня в нашем технополисе проживает 200 тысяч человек разных национальностей. И все они обеспечены работой, жильем, заработком. Сохранена социальная сфера, все льготы, гарантии. Многим из нас, выходцам из России, выпала судьба участвовать в построении независимого и процветающего Узбекистана. Мы не чувствуем здесь никакого ущемления. В Узбекистане делается все для того, чтобы наш русскоязычный анклав в Кызылкуме сохранил крепкие духовные связи с Россией. Мы принимаем четыре телевизионные московские программы, внимательно следим за событиями в России. Одновременно с этим происходит наше сближение с новым узбекским обществом. Новая поросль молодых технократов – русских, узбеков, украинцев, молодежи других национальностей вступает в сознательную жизнь уже в независимом Узбекистане. Многие из них обучались в России, США, других странах. Эти люди – будущее страны".
Полагаю, что рассказ Николая Ивановича Кучерского, относящийся к 1997 г., достаточно яркая иллюстрация новейшей истории Узбекистана.
В Ургуте все спокойно
Во многих аналитических материалах по Узбекистану, отечественных и зарубежных, делается вывод, что реформы нередко не давали ожидаемых результатов из-за того, что при принятии конкретных решений, на правительственном и региональном уровнях, и их реализации преобладали частные интересы сохранившей свои позиции бывшей партийно-государственной номенклатуры. (Узбекистан: обретение нового облика, с. 20). Справедливость таких суждений очевидна. Да иного и не могло быть. Партикуляристская бюрократия есть партикуляристская бюрократия. Однако трудно не согласиться с тем, что главы местной администрации – хокимы – становой хребет исполнительной государственной власти. Именно хокимами так или иначе реализуются государственные решения. Согласно конституции в их компетенции обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан, вопросы экономического, социального и культурного развития территорий, формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов, формирование внебюджетных фондов, руководство местным коммунальным хозяйством, охрана окружающей среды и т. д.
Я хотел бы рассказать об одном хокиме – Ургутского района Самаркандской области, хотя бывал и в других областях и районах. Выбор же мой определен тем, что он, по моим понятиям, типичный, средней руки хоким, и тем, что в Ургуте я был в июле 1995 г. вместе с Дональдом Карлайлом, на мнение которого я неоднократно ссылался. Мы могли вместе порассуждать, сопоставить наши мнения, проверить, если угодно, их истинность.
Ургут – районный центр в 40 км от Самарканда. Город, по узбекским понятиям, средний по величине, население – около 40 тыс. человек. Как он управляется? Если смотреть, так сказать, в корень, – как и раньше при советской власти. Во время нашего визита хокимом был бывший секретарь райкома партии. Правда, не ургутского, а другого. Однако – одна немаловажная деталь. Он формально никого не назначает, никого не снимает, но любое назначение или смещение согласовывается с ним, а все вопросы хозяйственной, социальной, культурной жизни района решаются непременно с учетом его мнения. Действуют в этих случаях авторитет хокима и узбекская ментальность. Когда Карлайл спрашивал у людей: "Что будет, если вы не согласитесь с мнением хокима, не выполните его распоряжения?" – собеседники наши удивлялись: как это они не выполнят распоряжение хокима и почему они не должны соглашаться с его мнением? Они даже не задумывались о такой возможности. А надо сказать, что беседовали мы приватно, за пиалой чая, и переводчица у Карлайла была своя, не местная. Опасений, что откровенность повлечет для наших собеседников какие-то неблагоприятные последствия, у них не могло быть.
Хокиму было за пятьдесят. Он показался нам сначала недобрым, неразговорчивым и даже угрюмым, но вдруг охотно начал рассказывать анекдоты об Ургуте и ургутцах. Он обратился к Карлайлу: "Вы – американец, и я хотел бы, чтобы вы послушали анекдот про Ургут и вашего бывшего президента Рейгана. Так вот, уважаемый профессор, вы, наверно, не знаете, но Рейган каждый рабочий день начинал с того, что спрашивал у своего помощника: как дела в Ургуте, спокойно ли там? И только получив ответ, что в Ургуте все спокойно, говорил: "Ну, тогда давайте перейдем к вопросам мировой политики, о стабильности в мире можно не беспокоиться". Дело в том, разъяснил нам хоким, что раньше, до Каримова, Ургут был одним из самых неспокойных мест в Узбекистане. Здесь всегда имелась сильная оппозиция, и самаркандской власти, и ташкентской. Причем держались в этом смысле ургутцы стойко даже в самые свирепые времена. Карлайлу анекдот очень понравился. Он, правда, сожалел, что не сможет рассказать его 40-му президенту США.
Другие наши собеседники говорили о том, что в существовавшем раньше в Ургуте большом колхозе невозможно было нормально организовать труд, поскольку желающих работать было гораздо больше, чем работы. Полеводство – сезонное, животноводство развито слабо. Люди не знали, чем себя занять. Ургутцы обращались за помощью к каждому новому республиканскому лидеру, но ни один из них ничем не помог. Когда пришел к власти Каримов, колхоз упразднили, а землю разделили, раздали в пользование крестьянам. Теперь каждый сам решает, что ему делать. Жить уже стало лучше.
Мы были во многих домах по собственному выбору. Дома в основном двухэтажные. Хорошие мебель и одежда. Радушие, которое шло не только от полноты чувств, но и от полноты достатка. В Ургуте тогда уже работали частные предприятия, частные банки, представительства английской, итальянской, французской фирм. Мы беседовали с местными бизнесменами, которые говорили о том, что, если власть и дальше станет поддерживать их, они превратят Ургут в лучший город в Узбекистане. Словом, в Ургуте были налицо признаки новой, лучшей жизни. Карлайл спрашивал и у крестьян, и у предпринимателей: "В какой мере здесь заслуга хокима?" И во всех случаях получал ответ: "Без сильной власти, без строгого порядка ничего не было бы".
Заключить эту главу я хотел бы следующей констатацией. Мировой, в том числе и постсоветский, опыт переходных периодов в развивающихся странах свидетельствует о том, что это, как правило, длительный, сложный и трудный процесс, чреватый к тому же общественными потрясениями и политическими коллизиями. Узбекистану удалось выбрать и правильное направление, и оптимальную скорость модернизации и не только практически избежать потрясений, но по существу стать одним из лидеров в сообществе постсоветских стран.
Глава 7
КОНСТИТУЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
Создание конституции в переходных обществах, как результат первоначальной модернизации, становится затем условием дальнейших рыночных и демократических преобразований. Вне конституции невозможно становление правового государства и его первоосновы – конституционного государства. Вот с такой формулы, как необходимой посылки я хотел бы начать эту главу.
Стремительные и масштабные конституционные преобразования стали характерной чертой общественной жизни многих стран мира. Если старые конституции и закрепленный ими строй отличались стабильностью, то в современных условиях, особенно в постсоветских странах, наблюдается небывалый конституционный динамизм. Основная причина этого – экономические и политические перемены переходного периода. Вследствие такого конституционного динамизма в политический и научный язык все шире входит понятие "конституционализм".
В нашем сознании давно и однозначно укоренилось понятие конституции как Основного закона государства, определяющего права и обязанности граждан, порядок и принципы формирования государства и его деятельности, как основы всего текущего законодательства. Вместе с тем конституция – это политический акт самого высокого уровня. В общем, с понятием "конституция" никаких проблем нет. А вот с конституционализмом дело сложнее, этот термин до последнего времени был малоизвестен. В самом общем виде конституционализм – это жизнь конституции, ее воплощение в политической системе. Конституционализм – это государство, опирающееся на конституцию, это конституционные методы власти. Словом – конституционное государство.
Надо заметить, что такое государство не всегда синоним демократического государства. И дело не в том, что конституционное государство возникло раньше, чем демократическое. (Конституционные монархии и конституционные республики существовали в Европе задолго до появления демократических институтов в их завершенном виде.) Суть проблемы в том, что отдельные конституционные положения многих современных конституций могут прийти в столкновение с демократией. Так, конституционные положения, защищающие частную собственность, которые когда-то считались непреложными элементами конституционализма, могут в то же время противоречить демократическим установкам на равенство (Dahl R.A. A Preface to Democratic Theory. – Chicago. 1964).
Трудно не согласиться с тем, что в современном мире обеспечение прав человека и гражданина стало обязательной составляющей конституционализма, что конституционное государство должно быть одновременно и демократическим. Тем не менее до сих пор остаются спорными вопросы о том, насколько широким может быть набор гарантируемых конституцией прав человека, на защиту каких свобод она должна быть направлена (Berlin I. Fours Essays on Liberty. – Oxford. 1969).
Степень использования прав и свобод является критерием для того, чтобы различать так называемый сильный и слабый конституционализм. Для сильного конституционного государства характерно множество иммунитетов (прав, не подлежащих пересмотру), прежде всего в сфере, связанной с частной собственностью. Кроме того, в таком государстве на защите конституции строгий судебный надзор, осуществляемый верховным или специальным конституционным судом. Слабому конституционному государству свойственны относительно небольшой набор иммунитетов и мягкий конституционный судебный надзор. Подобное государство охраняет лишь классические свободы, такие как свобода слова и выражения мнений, право на оппозицию власти, свободу совести и т. п. При этом право частной собственности может и не входить в число конституционных и регулироваться текущим законодательством (Brizier R. Constitutional Practice. – Oxford. 1979).
В качестве примера можно сравнить британскую модель конституционализма и американскую. Первая является образцом слабого конституционализма, вторая может символизировать сильное конституционное государство. (Отсутствие в Великобритании обобщающего текста конституции к этой проблеме отношения не имеет.) Какая модель более предпочтительна для перспектив дальнейшей демократизации? Или же оптимальным будет некий промежуточный вариант, подобный германскому или французскому конституционализму? (Lane Jan-Eric. Constitutions and political theory. – Manchester and N.Y. 1996. P. 243-264). Однозначного ответа на этот вопрос ни теория, ни практика пока не дают.
На этой проблеме я остановился не только для того, чтобы разъяснить суть конституционализма. Есть и другая причина. В США уже ряд лет действует авторитетная неправительственная организация "Freedom House", главная задача которой – определять степень свободы в том или ином государстве. Разработана шкала критериев, по которым ту или иную страну относят к рангу свободных, полусвободных или вообще несвободных. Кто спорит, "Freedom House" делает большое и нужное дело. Но иногда она сопоставляет несопоставимое, здорово, как говорится, перехлестывает в своих оценках, сделанных в отрыве от конкретных социокультурных и иных факторов общественной жизни государства. И еще одно обстоятельство. "Freedom House" упорно проводит мысль о том, что перечень основных прав и свобод человека, их иерархия вещь сугубо каноническая. Вот что написано в одном из изданий этой организации: "За последнее время ощущается тенденция, особенно среди международных организаций, расширять список основных прав человека. К фундаментальным свободам они добавляют право на труд, на образование, на собственную культуру, на равенство национальностей и даже на адекватный уровень жизни. Тем самым обесцениваются основные гражданские права и свободы" (Что такое демократия? – Вашингтон. 1992. С. 11-12).
Вряд ли можно безоговорочно согласиться с таким безапелляционным выводом. Очевидно, что есть еще на земле немало стран, где свобода от страха и свобода от нужды важнее, чем свобода слова, при всей ее безусловной общечеловеческой значимости. Даже в самых благополучных странах Запада для большинства людей самые важные ценности их бытия – это гарантированная работа по профессии, доступное медицинское обслуживание, социальное обеспечение, отвечающее необходимым стандартам жилье.
Вернемся, однако, к конституционализму. Нельзя не согласиться с теми, кто утверждает, что он опирается на национальное согласие, правовой формализм и институциональную демократию (Colas Dominique. Les constituons de 1'URSS et de la Russie (1905-1993). – Paris: Presses Universitaires de Franse. 1997. P.
78-85; Пастухов Б. Россия-2000: Цивилизационный выбор и конституционный шанс. – Полис. 1998. № 6. С. 14-15).
Национальное согласие – фундамент конституционной системы. Конституция является реальной лишь постольку, поскольку основная часть населения поддерживает главные принципы государственного устройства и разделяет ценности, определяющие рамки развития правовой системы. Конституционализм (в широком понимании) представляет собой общенациональный консенсус по отношению к экономическому и политическому строю. Достижение такого консенсуса реальное, а не мнимое – исключительный факт в истории любого общества, итог длительной социальной эволюции, вбирающий в себя все особенности исторического развития данного народа.
Правовой формализм – форма бытия конституционализма, способ, при помощи которого осуществляется рационализация государственной жизни. По мере развития конституционализма происходит отделение права от бюрократии. При этом бюрократия, как профессиональный слой управленцев, никуда не исчезает, но ее роль в обществе кардинально меняется. Государство превращается в правовой строй и уже не находит своего выражения в бюрократии. Бюрократия уже не творит право, а обслуживает правовой строй. Если раньше ее воля была тождественна воле государства, то теперь проявление самостоятельной воли бюрократии рассматривается как произвол. Иначе говоря, из партикуляристской она преобразуется в рациональную.
Поэтому, когда Президент Каримов говорит о приоритете законов как об одном из основных принципов организации общественной и государственной жизни независимого Узбекистана, он имеет в виду именно то, что законы правят независимо от воли государственных чиновников, более того, возможно, и против их воли. Автономно, опираясь в необходимых случаях на судебную поддержку.
Если национальное согласие – фундамент, а правовой формализм – форма бытия конституционализма, способ, при помощи которого осуществляется рационализация государственной жизни, то институциональная демократия есть итог этой рационализации. Она находит материальное воплощение в определенных принципах и институтах государственной организации (парламентаризм, разделение властей, независимая судебная система и т. д.). Демократические институты должны быть органичными для данного общества, то есть оформлять сложившийся в обществе жизненный стиль – систему социальных ценностей, норм, запретов, трудовых и бытовых навыков (скажем, махалля в Узбекистане). При отсутствии такого фундамента демократия живет только в виде различных констатаций и неэффективных учреждений.
Сложность в том, что конституционализм – это некий социальный айсберг, возвышающийся над поверхностью океана западной культуры. Его видимая часть представлена набором демократических институтов, кажущихся вполне самодостаточными и легко укореняющимися. Поэтому возникает соблазн отбуксировать подобную демократическую систему в сопредельные цивилизационные океаны. Однако, кроме видимой надводной, есть еще невидимая подводная часть, глубоко погруженная в уникальную историю Запада. И это не следует упускать из виду западным критикам узбекского конституционализма. Чудес в области общественной жизни ждать не приходится.