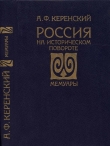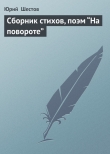Текст книги "Узбекистан на историческом повороте"
Автор книги: Леонид Левитин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Итак, партикуляристская бюрократия в Узбекистане, как и во всех других странах СНГ, благополучно процветает. Между прочим, в этой исключительной ее живучести ответ на вопрос: почему новый прогрессивный строй, при всех его очевидных преимуществах и несомненной привлекательности, так трудно заимствовать или, если угодно, навязать. Однако это тоже предмет для особых рассуждений.
Сказанное мною по поводу государственного аппарата в Узбекистане, разумеется, не содержит каких-либо открытий и неожиданных откровений. Все это хорошо известно из выступлений и книг самого президента.
Констатации Президента Каримова
В феврале 1995 г. в докладе на первой сессии Олий Мажлиса Каримов так охарактеризовал главное препятствие на пути реформирования страны: "Перед нами стоит преграда, которую иной раз трудно пробить и пушечным залпом. Эта преграда именуется бюрократией, коррупцией, местничеством, протекционизмом. Эта преграда возникла из-за отсутствия совести и честности. Цель таких людей понятна: не потерять еще на протяжении пяти-десяти лет свое кресло, занимаемую должность, получать приличную зарплату и еще кое-что сверху" (Народное слово, 24.02.1995).
Позже эта тема постоянно и все более тревожно звучала в выступлениях Каримова. В декабре 1996 г. на сессии Бухарского областного Совета народных депутатов он обратил внимание на то, что в Бухаре существует своебразный клан: личности, занимавшие в старые времена высокие посты, бывшие секретари райкомов и торговые воротилы, работники административных органов, привыкшие к власти, пытаются влиять на хокимов районов (Народное слово, 17.12.1996).
Если в 1996 г. Каримов ограничивался достаточно абстрактной критикой, не называя имен, то в 1997 г. он публично обвинил ряд районных руководителей Каракалпакстана, которым в подборе кадров не удалось избежать таких пережитков, как панибратство, местничество, кумовство. А местничество и кумовство могут привести к деградации нации (Народное слово, 18.07.1997). Спустя год, в июне 1998 г., Президент публично критиковал хокима Кашкадарьинской области за протекционизм, местничество и кумовство, когда назначение на должность осуществлялось по родственным и личным отношениям (Народное слово, 4.06.1998).
В ноябре 1998 г. за факты аналогичных злоупотреблений властью были сняты с должностей хоким Самаркандской области Алишер Мардиев и хоким Навоийской области Хает Гаффаров. На внеочередных сессиях Советов народных депутатов этих областей Каримов подверг беспощадной критике Мардиева и Гаффарова. Он назвал фамилии людей, выдвинутых на руководящие должности, рассказал о совершенных этими выдвиженцами правонарушениях, об их аморальном поведении (Народное слово, 11,12.11.1998).
Здесь представляется уместным небольшое отступление, придающее, если так можно выразиться, дополнительный драматизм повествованию. Мне пришлось в разное время встречаться и с Мардиевым, и с Гаффаровым, особенно часто с последним, довольно продолжительно беседовать с ними. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что, по моему мнению, это очень разные люди, с совершенно различными жизненными и политическими биографиями, с противоположными во многом интересами и установками. По сути своей это были два антипода, а итог их управленческой деятельности получился, в принципе, тождественным. Это мне кажется выразительной характеристикой той разрушительной для личности гравитационной силы, которой обладает сегодняшний стиль жизни государственного аппарата страны. Более того, думаю, что если бы тот же Гаффаров попытался противостоять этой разрушительной гравитации, он был бы так или иначе вытолкнут окружающей его средой.
Меня могут спросить: и что же, никакие исключения здесь невозможны?
Отвечу: возможны. Яркий пример такого исключения – Ислам Каримов во главе Кашкадарьинской области в 1986-1989 гг. Далеко не каждый руководитель областного масштаба и в то время, и сейчас наделен такими качествами, как Каримов, его умом, его волей, одержимостью в достижении высоких целей. Подобное сочетание человеческих качеств, согласитесь, весьма редкое явление.
Интересно в этой связи привести отрывок из книги о Президенте Каримове, написанной в соавторстве с моим другом Дональдом Карлайлом: "Никто, даже злейшие враги Ислама Каримова, никогда не могли упрекнуть его в личной непорядочности или нечестности, никогда не могли бросить ему упрек в том, что его жена, Татьяна Акбаровна, его или ее родственники влияют на решение кадровых вопросов, распределение государственных кредитов или на какие-то иные государственные дела. Западные аналитики узбекских дел, с которыми довелось говорить на эту тему, замечали: "Что же здесь удивительного? Ведь это обычное правило цивилизованной политической жизни". Приятно само по себе признание того, что Президент Узбекистана придерживается в этом вопросе западных политических стандартов. Причем, откровенно говоря, правило это и на Западе не без исключения. Всякое бывает.
Однако вернемся к речи Каримова в Самарканде. Два небольших фрагмента из нее. Первый: "Основу областного государственного аппарата составляют некомпетентные, политически неразвитые, аморальные люди, близкие руководителю, его друзья, кучка подхалимов... Игнорируя принимаемые законы и указы, требования демократии и справедливости, эти люди не ощущают и не признают коренных изменений в нашей сегодняшней жизни... Из-за того, что при отборе кадров не принимаются во внимание одаренность, возможности людей, случайные лица занимают ответственные должности. Они не понимают смысла и значения реформ, не могут избавиться от старых методов работы..."
И второй: "Мы много говорим о том, чтобы давать дорогу молодым, талантливым кадрам, всячески поддерживать их. А в Самаркандской области только двое из 21 первого заместителя городских и районных хокимов, 52 из 289 руководителей хозяйств – в возрасте до 40 лет. После всего этого есть ли вообще смысл говорить о внимании к силе, устремленности, таланту молодежи, современном подходе к жизни?"
В книге "Узбекистан на пороге XXI века" Каримов пишет о сращивании криминальных структур с чиновниками государственных органов, их проникновении в различные ветви власти. Это усиливает ощущение незащищенности граждан, компрометирует в их глазах само государство, к которому возрастает недоверие как внутри страны, так и за ее пределами. Президент делает вывод, что в политическом плане коррупция это соединение изжившей себя командно-административной системы и теневой экономики, стремящихся затормозить развитие новых экономических отношений, так как видят в них угрозу своему существованию (с. 84-87).
Вот такие искренние и тяжелые констатации.
Вместе с тем бюрократия в Узбекистане отнюдь не какой-то особый феномен, не исключение из общего правила. Все сказанное в этом смысле в отношении Узбекистана можно отнести в неменьшей, а может быть, и в большей мере ко многим из постсоветских и даже шире – посткоммунистических стран. Государственный аппарат был и остается самым слабым местом в политической системе любой из них. Что же касается СНГ, то здесь блокирует реформы, препятствует проведению в жизнь нужных народу решений не оппозиция власти, легальная или нелегальная, легитимная или нелегитимная, а находящаяся у власти практически на всех ее уровнях постсоветская партикуляристская бюрократия.
Все это хорошо известно и не требует доказательств. Приведу лишь несколько достаточно авторитетных и вместе с тем экспрессивных замечаний по этому поводу российских исследователей.
Александр Солженицын в мае 1999 г. в речи, произнесенной им при получении Большой Ломоносовской медали Российской академии наук, назвал постсоветсткую Россию уникальным в человеческой истории пиратским государством под демократическим флагом, в котором заботы власти лишь о самой власти, а не о стране и населяющем ее народе, в котором национальное богатство ушло на обогащение правящих олигархов (НГ-сценарии, 9.06.1999).
Видный российский политолог-государственник Андроник Мигранян пишет, что за годы демократических экспериментов, закончившихся приватизацией немногочисленными группами всех материальных, финансовых, административных и информационных ресурсов страны, эти хозяева новой России оказались неспособными познать азы демократии – терпимость, способность к компромиссу, договоренность о правилах поведения, – проявлять хотя бы внешне обозначенное уважение к народу (Мигранян А. Российская элита наступает на те же грабли, что и в начале века. – НГ, 7.10.99).
Разработчики экономической программы нынешнего правительства России, так называемой программы Германа Грефа, констатировали: "Без коренного реформирования аппарата никакие реформы в стране дальше не пойдут. Государственный аппарат в том виде, в каком он существует, реформу провалит. Как уже провалил все реформы, которые в какой-то степени полагались на ресурсы аппарата" (МН, 4-10.07. 2000. С. 8-9).
В моем личном архиве собраны тождественные свидетельства, касающиеся государственных аппаратов Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины и даже Венгрии, Словакии, Польши.
Азимуты кадровой политики
Написав о том, что Узбекистан в смысле системы управления не имеет каких-то особенностей, отличающих его от других стран СНГ, я погрешил против истины. Такие особенности есть, и они связаны с личностью Президента Каримова.
Президент Каримов не только критикует положение дел в государственном аппарате страны, но и пытается, насколько это в его силах, изменить его. Проще всего прибегнуть к акциям, если так можно выразиться, силового характера: привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, виновных во взяточничестве и других формах коррупции, отставки высокопоставленных чиновников, допустивших нарушения государственной дисциплины и этических норм. Можно привести в качестве примера изданный в октябре 1998 г. президентский Указ об освобождении от должности первого заместителя председателя Государственного налогового комитета Мурадулло Куролова. В вину этому чиновнику поставлены проявленные нескромность и тщеславие, помпезность и расточительность при проведении семейного свадебного торжества, пренебрежение народными обычаями.
Дали ли подобные силовые акции ожидаемый эффект? Надо признать, что проводились они, в сущности, спонтанно и уже в силу этого имели в основном локальное в общественном пространстве и ограниченное во времени воздействие. Президента, как я понимаю, во всех этих случаях заботила политическая стабильность в обществе, и он не организовывал, в отличие от руководителей некоторых других стран СНГ, антикоррупционных и других подобного рода кампаний.
Решение архисложных проблем совершенствования государственного аппарата в Ташкенте ищут на пути смены генераций. Президент Каримов определил свою позицию на этот счет следующим образом: "Моя самая большая надежда – это молодое поколение. Ибо умная и энергичная молодежь, обладающая самыми современными знаниями, воспитанная, эрудированная, – это наше будущее. В ней я вижу и свою судьбу, и судьбу нашей страны, и судьбу независимости" (Народное слово, 11.11.1998). На это же направлен и Закон "Об основах государственной молодежной политики" (от 20 ноября 1991 г, с изменениями и дополнениями от 1 мая 1998 г.).
Вот что писал Дональд Карлайл в 1995 г.: "Университет мировой экономики и дипломатии, открывшийся в январе 1993 г., должен готовить дипломатов, журналистов и менеджеров по западному образцу. Там внедряются международные стандарты обучения. Несомненно, западные учебники и учителя, обмен преподавателями и студентами внесут вклад в создание нового поколения лидеров, действительно приверженных демократии и рыночным экономическим моделям".
Я бы добавил, что в этом университете готовится новая когорта политиков, приобщенных как к своей, отечественной, так и к западной культуре.
Выпускники университета – это молодые и вместе с тем профессионально хорошо подготовленные специалисты, что в немалой мере является заслугой министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, являющегося по совместительству ректором университета. Он и сам по себе яркий пример такого прекрасного культурного сплава. В том же ключе стремятся работать Академия государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана и Банковско-финансовая академия – головные учреждения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящих работников органов власти и управления, специалистов экономических структур.
Поэтому я думаю, что Узбекистан уже сейчас располагает резервом для выдвижения на руководящие должности представителей не постсоветской, а, скажем так, несоветской политической элиты. Проблема здесь, как мне кажется, в том, чтобы создать политическую атмосферу особой востребованности молодежи с ее энергией, предприимчивостью, решительностью, склонностью к риску в разумном сочетании с опытом и традиционным консерватизмом старших поколений. Проблема и в том, чтобы эта новая, свежая кровь не была отторгнута нынешним организмом государственной власти, чтобы не возникло противостояние двух групп элит. Одной, стремящейся к архаизации, условно назовем ее ретрадиционалистами, и другой, технократической, вестернизированной, реформаторской. Возможно, что от решения этой проблемы зависят все среднесрочные и долгосрочные прогнозы дальнейшего развития Узбекистана.
Понятно, что для смены поколений в государственном аппарате необходимо время. Но оно не ждет, оно требует принятия мер быстрого реагирования. Среди этих мер – создание кадрового резерва для всех, в том числе и самых верхних, ступеней государственного аппарата, открытые конкурсы и тендеры на занятие административных должностей, включая и руководителей местной государственной администрации, и, возможно, отдельных министров. Стоит широко использовать в этом деле прессу, другие средства массовой информации. Даже управляемая гласность, как свидетельствует не столь уж далекий советский опыт, приносит известную пользу. Возможно, необходимо сокращение числа чиновников с одновременным повышением в государственном аппарате заработной платы и введением некоторых социальных льгот. Недаром говорят, что дешевый чиновник не только разорителен, он опасен.
В Узбекистане все еще отсутствует законодательная база государственной службы. Естественно, что самые совершенные законы не могут решить проблемы формирования рациональной бюрократии, но в совокупности с другими факторами они необходимы. Немало можно было бы почерпнуть в этом отношении из опыта западноевропейских стран.
Скажем, в Италии основные вопросы государственной службы решаются на конституционном уровне. Конституция этой страны, в частности, устанавливает, что государственные служащие находятся исключительно на службе народа, должности государственной администрации замещаются по конкурсу, кроме особых, установленных законом случаев (статьи 97, 98).
В Германии конституционные положения о государственной службе конкретизируются в целом пакете законодательных ак-тов. Сейчас их уже 25. В их числе "Закон о чиновниках" (от 27.02.1985 г.), состоящий из более чем двухсот статей, которые регламентируют практически все возможные аспекты их профессиональной деятельности, в том числе и право на карьеру (на эту тему 13 статей). Имеется и специальное, объемистое (48 статей) постановление "О праве на карьеру федеральных служащих" (от 8.03.1990 г.). Можно назвать и такие акты, как постановление "Об испытательных требованиях, предъявляемых при принятии на должность в государственном управлении" (от 9.01.1991 г.), постановление "О предоставлении особого вознаграждения за дополнительную работу" (от 13.03.1992 г.). Чиновники в Германии (как и в большинстве других западноевропейских стран) имеют многочисленные социальные льготы и преимущества.
Особого внимания заслуживает закон ФРГ "О порядке осуществления государственного управления" (от 25.05.1976 г.). Сто три статьи этого закона регламентируют взаимоотношения, которые могут возникнуть между чиновниками и гражданами в процессе государственного управления, их взаимные права, обязанности и ответственность.
Могу повторить, что я достаточно скептически отношусь к самоценности законов в странах СНГ. И все же хорошее законодательство о государственной службе внесло бы определенные изменения в общественное сознание, создало бы правовой фундамент для столь необходимых перемен. Какой это дает конечный результат – другой разговор. Однако в любом случае без законодательной базы положительных сдвигов будет еще меньше.
Как бы то ни было, еще на многие годы создание рациональной бюрократии одна из главных целей реформ в Узбекистане и вместе с тем, по мере достижения этой цели, одно из самых действенных средств реформ.
Независимая судебная власть
О судах в постсоветских странах принято говорить в связи с правами и свободами человека. Действительно, сколько бы и как бы торжественно в той или иной постсоветской стране ни провозглашались права и свободы человека, они в конечном счете пустой звук, если нет независимого и сильного суда. Именно суды призваны олицетворять само бытие свободы в обществе. Вместе с тем суды – одно из важных средств модернизации, поскольку они должны обеспечивать функционирование всей общественной системы, разрешая либо предотвращая внутрисистемные конфликты. От этих высоких истин – к земным проблемам, судебной власти в Узбекистане. Конституция Узбекистана предполагает равенство всех ветвей: законодательной, исполнительной и судебной. А что же в действительности? Пока это стало реальностью только в текстах конституции и других законов, что является, так сказать, универсалией всех стран СНГ. В мае 1994 г. в Бишкеке состоялся первый съезд судей Кыргызстана. В нем принял участие Президент Акаев. От природы он человек очень наблюдательный и всегда удивительно точно улавливает и настроение аудитории и ее уровень. Когда мы встретились с ним после съезда, он сказал: "Мне даже как-то не по себе. Кто творит правосудие в Кыргызстане? Это не просто некомпетентные люди. Это люди, у которых нет даже искры общественного интереса. Знаете, пока шел съезд, большинство из них откровенно дремали, а те, которые выступали, говорили такие вещи, что мне, неюристу, было стыдно за их правовую безграмотность".
Очень верная, хотя и очень грустная констатация. Судьи во всех без исключения странах СНГ в большинстве своем оказались абсолютно не готовы к выполнению новых и непривычных для них функций третьей власти.
На протяжении всей советской истории суд был послушным орудием партийно-государственного аппарата. Я очень хорошо помню то время. Помню, как в райкоме, горкоме, обкоме согласовывались приговоры по всем более или менее значительным уголовным делам, как судей на заседаниях партийных бюро освобождали от должности за либерализм, игнорирование партийных директив и т.д. Помню, в каких ужасных помещениях ютились суды, как выклянчивали судьи у местных властей жалкие копейки на совершенно необходимый ремонт. (Например, на починку провалившегося потолка.) Нынешний суд так же беден и зависим от исполнительной власти, как и в советские годы.
Я имею возможность сравнивать уровень профессиональной подготовленности судей советского и постсоветского, нынешнего времени. С полной ответственностью скажу: сравнение не в пользу сегодняшних судей. Убежден, что аналогичное мнение выскажет любой ветеран этой профессии. И, поверьте мне, не в силу некой возрастной ностальгии, а с болью за утерянный профессиональный капитал.
В декабре 1998 г. авторитетный московский юридический журнал "Государство и право" опубликовал интервью с профессором Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России, а ныне председателем Совета при Президенте России по вопросам совершенствования правосудия. Заключал интервью вопрос: "Оглядывая российскую правовую систему с высоты прожитых при новой конституции лет, можем ли мы сказать, что начинает пробивать себе дорогу понимание новой роли судов? Все-таки кажется, что это еще недостаточно отложилось в сознании не только населения, но и профессиональных юристов". Весьма осторожный и деликатный профессор Туманов ответил: "Я думаю, что в этом плане наше общественное правосознание еще далеко от стадии зрелости" (Государство и право. 1998. № 12. С. 15-19).
Полагаю, что такую же оценку можно дать и общественному правосознанию в Узбекистане.
Реальная защита прав и законных интересов граждан при помощи суда практически невозможна без активного содействия адвокатуры. В Узбекистане были приняты очень неплохие законы "Об адвокатуре" (от 27 декабря 1996 г.) и "О гарантиях адвокатской деятельности" (от 25 декабря 1998 г.). Однако социальное расслоение, а нередко и просто бедность части населения создает неравные возможности в использовании гражданами адвокатской помощи. Большинство людей просто не в состоянии оплатить услуги адвоката вообще, а квалифицированного тем более.
В мае 1992 г. я был в США в составе небольшой делегации юристов Кыргызстана. У нас состоялась встреча с судьей Верховного суда Антонием Скалия. Принял он нас очень приветливо и предупредительно. Провел в небольшой и уютный зал судебных заседаний, рассказал о различных процедурных тонкостях судебных процессов в Верховном суде. Скалия спросил нас о том, как идет судебная реформа в независимом Кыргызстане. Мы ему честно обо всем рассказали. Он выслушал наши откровения и поинтересовался: "Джентльмены! Хотел бы уточнить. Если я вас правильно понял, то далеко не все люди в вашей стране могут пригласить своего адвоката в случае их задержания полицией или ареста по постановлению суда?" Выслушав ответ, что такое могут позволить себе, если вопрос будет урегулирован в законе по американскому образцу, не более пяти, ну, может быть, десяти процентов населения, он спросил: "А остальные 90 или даже 95 процентов? Когда у них появится такой шанс?"
Мы ответили, что если рыночные реформы будут идти без больших задержек, то лет через 10-15. (Какими оптимистами были мы тогда!) Скалия заметил: "Человек из аппарата конгресса, который готовил нашу встречу, говорил мне о том, что Кыргызстан – остров демократии, что ваша страна на всех парусах идет по пути западных демократий. Он, оказывается, не имеет представления о том, что у вас делается". То есть, по мнению Скалия, если человек не в состоянии воспользоваться услугами адвокатов для защиты своих прав, ни о какой демократии не может быть и речи. Наверное, в сути своей это утверждение близко к истине.
Особый разговор о хозяйственных судах. В конце мая 1993 года в Институте восточноевропейского права в Киле (Германия) состоялась очень представительная конференция на тему "Признание и исполнение иностранных судебных решений в Восточной Европе". (Сюда же отнесены были и все постсоветские страны.) В конференции приняли участие руководители арбитражных судов (государственных и третейских) России, Украины, Германии, Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии, а также видные ученые в области арбитражного процесса. Имел честь участвовать в этой конференции и я. Среди прочих обсуждалась проблема инвестирования. Отмечалось, что инвесторы, которые имеют коммерческие интересы на постсоветском пространстве, прежде всего спрашивают: "А там есть правовые правила? Они соблюдаются? Есть средства, обеспечивающие соблюдение этих правил? Защищающие от их нарушителей?" Если есть, тогда капитал идет. Если нет, серьезные и уважающие себя бизнесмены уходят.
Участники конференции говорили о том, что если и есть в странах СНГ соответствующие арбитражные правила, то они повсеместно нарушаются. В частности, был сделан вывод, что хотя по законам этих стран признается юридическая сила решений иностранных арбитражных (третейских) судов, действующих на постоянной основе и созданных для конкретного дела (ad hoc), они или не исполняются вообще, или исполняются только в коррупционном режиме. Между тем иностранные инвесторы рассматривают возможность обращаться за защитой своих интересов именно в эти суды как весьма значительную правовую гарантию. (Anerkennung und Vollstreckung ausl?ndischer Entscheidungen in Osteuropa, Verlag C.H., 1994).
До сегодняшнего дня, насколько мне известно, положение дел в этом отношении не изменилось. У меня записаны на диктофон рассказы отечественных предпринимателей, иностранных бизнесменов, адвокатов о царящей в хозяйственных судах, в том числе и в Узбекистане, коррупции, ставшей в полном смысле слова нормой их жизни.
Начиная от помещений, где работают суды, и кончая действительным статусом судей, ни о каком равенстве не может быть и речи. Разве можно серьезно даже помыслить о том, что председатель районного, городского или областного суда действительно независим от соответствующего хокима? Многие государственные чиновники самого высокого ранга по-прежнему воспринимают суды в одной связке с органами милиции, другими административными учреждениями. И, смею утверждать, отнюдь не в качестве ведущего звена этой связки. Словом, как в добрые советские времена.
Между тем дальнейшее пребывание судов на обочине государственной и общественной жизни может причинить очень серьезный урон прогрессивному развитию Узбекистана. Коренным образом улучшить материальные условия работы судов, поднять их общественный престиж, провести существенную кадровую смену в судейском корпусе, осуществить массовую и качественную переподготовку судей в короткие сроки явно невозможно. Но ведь начинать это когда-то надо.
Средства массовой информации
В модернизирующихся обществах СМИ имеют ряд в значительной мере совпадающих функций. Одна из них – информировать и просвещать. Другая осуществлять контроль и наблюдение за действиями правительства и иных институтов власти. СМИ могут взять на себя и более активную роль в политической жизни, организуя кампанию в поддержку определенного политического курса, тех или иных реформ, формируя или изменяя общественное сознание. Понимание СМИ как всенародного форума отнюдь не преувеличение.
Выполняют ли СМИ эти функции в Узбекистане? Судите сами. Статья 29 Конституции Узбекистана гласит, что каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего строя и подпадающей под другие ограничения, предусмотренные законом. В соответствии со статьей 67 Конституции средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации. Эти конституционные положения получили развитие в двух законах, принятых Олий Мажлисом 24 апреля 1997 г.: "О гарантиях доступа к информации" и "О защите профессиональной деятельности журналиста". Статья 14 второго из названных законов предусматривает, что должностные лица государственных органов, учреждений, организаций несут ответственность за осуществление цензуры, оказание давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность. Но эти правовые нормы нацелены в значительной мере на будущее. Позиция государства в отношении СМИ заключается в том, что, поскольку они являются мощным средством влияния на массы, желательно сохранить государственный контроль над их работой. В стране функционирует управление по охране государственных тайн, исполняющее практически и довольно жестко роль цензуры. Соответствующий механизм был отработан еще в советские времена. Все республиканские, областные и столичные газеты печатаются в концерне "Шарк". Любая из них будет принята типографией к печати только при наличии на ней специального штампа. Этот разрешительный штамп ставит по прочтении инспектор Госкомитета по печати. При этом он может вычеркивать отдельные фразы, абзацы, снимать с полосы материалы, не имеющие никакого отношения к государственным тайнам (Шулепина Н. О чем умалчивают узбекские СМИ. – НГ, 14.05.1999).
Главнейшими средствами массовой информации наряду с газетами в Узбекистане, как и во всем мире, является телевидение и радио. Четыре общегосударственные телекомпании и пять радиостанций полностью контролируются Узбекской национальной телерадиокомпанией (Узтелерадио). В Узбекистане функционируют около сорока частных неправительственных теле– и радиокомпаний на местном (областном и районном) уровнях. Наиболее заметной считается независимая компания в Самарканде (STV). Все они чрезвычайно чувствительны к влиянию со стороны официального Ташкента. В национальном масштабе частное теле– и радиовещание отсутствует. Что же получается в результате? Прежде всего, власть Узбекистана не может отрицать то, что по газетам, теле– и радиопередачам трудно составить реальную картину о положении дел в Узбекистане. Негативная информация и вообще критические статьи в СМИ – редкое исключение. Закрытость многих тем, далеко не всегда вызванная интересами государства, требованиями его текущей политики, ведет к тому, что СМИ не могут стать барометром настроений в обществе, зеркалом общественных интересов.
Понятно стремление власти не допустить в СМИ деструктивную информацию, однако дозировка информационного потока мешает нормальному осмыслению хода экономических реформ. К примеру, потенциальные инвесторы за рубежом (включая Россию) хотели бы побольше узнать о стране, получить через прессу не только официальную информацию, но и составить представление о реальной обстановке в стране, о настроении населения и т.д.
Судя по всему, такое положение весьма заботит Президента Каримова.
В последнее время в своих публичных выступлениях он все чаще обращается к вопросу о СМИ как четвертой власти, говорит о том, что в газетах, на телевидении и радио слабо освещаются приоритетные направления политики государства, не показываются правдиво недостатки, что газеты инертны и скучны и журналисты уходят от острых тем.
Весьма ярким и, думаю, многообещающим было в этом отношении выступление Каримова на сессии Олий Мажлиса в апреле 1999 г. Он сказал, что пресса должна действовать как институт общественного контроля за исполнением законов и законодательных актов, контроля за выполнением государством и чиновниками своих обязанностей. Именно средства массовой информации должны быть трибуной, где каждый человек имел бы возможность выразить свое мнение (Народное слово, 15.04.1999).
СМИ в Узбекистане должны стать более свободными, это очевидно. Однако ясно и то, что здесь требуется разумная постепенность. На Западе по этому поводу говорят: ни минуты промедления, разрешить публиковать и оглашать любое самое резкое критическое высказывание в адрес президента, правительства, Олий Мажлиса, любые политические призывы, разрешить печатать все, даже то,что находится за рамками пристойности (например, в Кыргызстане оппозиционная печать называет власть уличной девкой, и это в условиях восточной культуры). Хотел бы в связи с этим привести слова Иммануила Канта: "Может быть, это хорошо для теории, но не годится для практики".