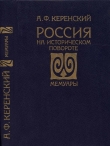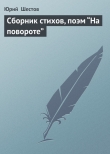Текст книги "Узбекистан на историческом повороте"
Автор книги: Леонид Левитин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
С 1929 г. проводились расписанные по пятилеткам мощные кампании, призванные коренным образом перекроить страну и людей: индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. До самого конца советской власти в Узбекистане продолжалось узаконенное самоуправство Москвы, союзных министерств и ведомств, пренебрегающих местными экономическими и социально-культурными потребностями и интересами. В результате на местах создавалась и функционировала убыточная экономика. Примеров тому тьма. Вот некоторые из относительно близкого нам времени. Информация постоянного представителя правительства Узбекистана в Москве за 1962 г. В ней говорится, что в течение года в союзные органы поступило 1153 ходатайства ЦК КПУз и СМ Уз ССР по различным, в большинстве своем частным, сугубо местным, вопросам хозяйственного и культурного строительства в республике. Из них 1081 рассмотрены: в том числе положительно 910, отрицательно 113, сняты с обсуждения 38. Или, иначе говоря, подавляющее большинство вопросов, на решение которых было истребовано высочайшее разрешение, не вызывало никакого сомнения в своей обоснованности и разумности. И все же ни в областях, ни в Ташкенте не имели права решать их самостоятельно (ПАУзФИМЛ. Ф.58, Оп.235. Д. 263. Л.159).
Во времена Рашидова имел место такой эпизод. В ходе освоения земель центральной Ферганы возникла необходимость образовать на новых землях Кызылтепинский район. По расчетам компетентных специалистов, это дало бы возможность не только ускорить развитие здесь совхозов, но и на базе местных источников термальных вод заложить курорт республиканского значения. Идею поддержали в Ташкенте. Однако, несмотря на все усилия руководителей республики, включая Рашидова, Москва отказала в этой просьбе (Правда Востока, 3.11.1992).
И еще примеры. В 1956 г. дефицит электроэнергетических мощностей в Узбекистане составил 250 тыс. кВт, в то время как потенциальные гидроэнергетические ресурсы Узбекистана определялись в 40-45 млрд. кВт. При наличии огромных запасов угля (более 2 млрд. тонн) завоз его в Узбекистан из года в год увеличивался. В 1956 г. было завезено 2 млн. тонн. Еще хуже обстояло дело с использованием газа и нефти. Как отмечалось на IV Пленуме ЦК КПУз, виной всему то, что строительством скважин, угольных шахт и разрезов занимались союзные министерства...
По производству минеральных удобрений Узбекистан занимал 3-е место в СССР. На его долю приходилось 88,2% всей химической продукции, вырабатываемой в Средней Азии. И в то же время республика вынуждена была завозить минеральные удобрения, ядохимикаты, дефолианты.
Да, большими потерями и жертвами пришлось заплатить народу Узбекистана за модернизацию по-советски. Прежде всего, резким ограничением уровня жизни большинства населения. Но не только людей, природу, как говорится, ломали через колено. Так ведь иначе, утверждают сейчас некоторые, и не вскочили бы узбеки на полном ходу в поезд, идущий в индустриальное общество, не вышли бы вновь на авансцену мировой жизни, не бывает иначе в истории. Почему же не бывает?
Образец другого пути к прогрессу – эпоха Мэйдзи, точнее Мэйдзи-исин (буквально – просвещенное правление), в Японии. Она началась с революции 1867-1868 гг., способствовавшей модернизации страны. В результате Япония стала одной из ведущих мировых держав. Японцы в течение десятилетий инициативно, строго по своему усмотрению (!) использовали западный опыт организации экономики, западные технологические достижения, многие западные культурные ценности. В частности, в Японии было осуществлено широкое заимствование западных правовых систем (французских, немецких, английских законов). Вместе с тем бережно сохранялся уникальный японский стиль жизни. Традиционный образ мышления и поведения и по сей день присущ большинству японцев. Так что по-разному бывает в истории.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
И все-таки колониальный вариант
В тридцатые годы главным направлением индустриализации было превращение Узбекистана в одного из основных поставщиков сырья для промышленных предприятий, находящихся в России (Москва, Ленинград, Западная Сибирь, Урал). Однако в период Второй мировой войны положение коренным образом изменилось. В Узбекистан вместе с производственными коллективами были эвакуированы 48 машиностроительных, металлообрабатывающих, химических и других предприятий тяжелой промышленности, 45 предприятий легкой промышленности. В республике была создана собственная угольно-металлургическая база для обеспечения потребностей ее развивающейся промышленности.
Думаю, что в истории узбекского народа это был один из "звездных часов". В дни общенародного горя словно от прикосновения волшебной палочки ожили души людей, надломленные годами унижений, пробудились от века присущие узбекам терпеливость и терпимость, сострадание и доброта. За свою жизнь мне довелось беседовать со многими людьми, эвакуированными во время войны в Узбекистан, прожившими там эти тяжелые годы. И все они, без единого исключения, с теплотой и благодарностью вспоминали о Ташкенте и Самарканде, Андижане и Фергане, о тех людях, которые делили с ними хлеб, кров, тепло очага.
И все они могли повторить сказанное Анной Ахматовой: "Кто мне посмеет сказать, что здесь злая чужбина?" Вот что написала она, человек исключительной искренности, в одном из своих ташкентских стихов в сорок четвертом году:
На этой древней сухой земле
Я снова дома,
Китайский ветер поет во мгле,
И все знакомо...
Гляжу, дыхание тая, на эти склоны,
Я знаю, что вокруг друзья
Их миллионы.
В послевоенные годы в Узбекистане начинается активное освоение богатых природных ресурсов. Узбекская урановая и золотодобывающая промышленность становится влиятельной на мировом рынке. В этот период была создана крупная газовая промышленность и электроэнергетика. Индустрия республики достигла такого технического уровня, который позволил освоить производство электровакуумных, полупроводниковых, электронных и радиотехнических приборов, различных сложных машин, станков и механизмов.
В целом за годы советской власти в Узбекистане было создано более 100 отраслей промышленности, построено около 1500 крупных предприятий, оснащены технически на уровне мировых стандартов транспорт и современные средства связи.
В то же время темпы урбанизации в Узбекистане были значительно меньшими, чем в других республиках региона. В качестве иллюстрации этой темы представляется весьма интересной следующая статистическая таблица.
ДИНАМИКА УРБАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ (% )
1926 г. 1939 г. 1959 г. 1979 г.
Титульная нация
Узбеки 18,6 15 22 29
Казахи 2,2 16 24 32
Кыргызы 1,4 4 11 20
Таджики 15,3 12 21 28
Туркмены 1,5 10 25 32
(Ист. Simon Gerhard. Nationalismus und Nationalitutenpolitik in der Sowietunion: Von der totalitaren Diktatur zur nachstalinistische Geselschaft. – К?ln/ Baden-Baden. 1986. S. 432.)
В данном случае надо иметь в виду, что исходная позиция в Узбекистане была на порядок выше, чем, скажем, в Туркменистане или Кыргызстане. Так ведь и масштабы индустриализации в Узбекистане тоже были на порядок шире. Здесь дело главным образом в факторах иного рода, сложных и противоречивых.
Во-первых, столкнулись экономические интересы Москвы и долговременные интересы узбекского народа, его стратегические цели. Для Москвы оказалось выгоднее перебазировать в Узбекистан большой корпус российских командиров промышленного производства и специалистов, а также квалифицированных рабочих, чем исподволь готовить национальную техническую интеллигенцию и национальный рабочий класс.
Во-вторых, в интересах упрочения своего политического господства для Москвы было крайне важным в короткие сроки значительно увеличить прослойку русского населения в Ташкенте и других крупных городах Узбекистана. Это оказалось более приоритетным, чем установка на ослабление в процессе урбанизации традиционных связей узбеков, изменение их социально-профессиональной и демографической структуры образа жизни, культуры. И действительно, русские до последних дней существования СССР оставались силой, сдерживающей самостоятельность местной политической элиты. Как следствие, если в 1926 г. доля русских в общем этническом составе населения Узбекистана составляла 4,7%, то в 1959 г. она выросла до 13,5%, почти в 3 раза.
Некоторые российские исследователи продолжают утверждать, что центр делал все от него зависящее, чтобы подготовить национальные кадры рабочих и ИТР. В частности, принимались соответствующие партийные решения и государственные нормативные документы, предусматривающие определенные поощрительные меры и льготы. Однако ориентация на местные трудовые ресурсы была подчас невыгодна руководителям промышленных предприятий. Их использование было сопряжено с определенными трудностями, заботами и лишними хлопотами, проходило за счет материальных и финансовых средств предприятий. Многие руководители, несмотря на строгие указания руководящих органов, продолжали отдавать предпочтение квалифицированным кадрам из других регионов страны.
Москва хотя и не препятствовала увеличению коренного населения в крупных городах Узбекистана (да она при всем желании не могла этого сделать, не ввергнув себя в очень крупные неприятности), но и сколько-нибудь энергично не способствовала этому процессу. Что же касается упомянутых партийных решений и нормативных актов, то подобного рода маскировка истинных намерений большевиками и их наследниками была отработана детально, и не только в области национальной политики. Если бы на Старой площади действительно стремились к урбанизации узбеков и созданию в короткие сроки национального рабочего класса, то она была бы эффективно осуществлена в достаточно короткие сроки. (Другое дело, какую социальную плату пришлось заплатить? Но это уже отдельная тема.)
Словом, если не ломиться в открытую дверь и не доказывать известные истины, можно констатировать, что при всем том положительном, что дала советская индустриализация Узбекистану, здесь был осуществлен колониальный вариант перехода от аграрного к индустриальному обществу.
Тотальная война против крестьянства
Еще одно сбывшееся пророчество Г.Плеханова: "Чтобы преодолеть кризис политико-экономического характера, большевикам придется объявить крестьянству тотальную войну и уничтожить лучшую его часть – тех, кто умеет и хочет трудиться".
Такая тотальная война была победоносно и в короткие сроки проведена в форме коллективизации сельского хозяйства. Думаю, что это одно из самых страшных преступлений сталинского режима. Веками существовавшие и выживавшие при любом, даже очень жестоком, правителе единоличные хозяйства узбекских крестьян, великих тружеников и талантливых земледельцев, были практически уничтожены.
Проводилась коллективизация в Узбекистане, как и по всей стране, безжалостно и беспощадно, с широким использованием методов насилия и репрессий по отношению к крестьянству. Привела она не только к значительному разрушению производительных сил и сокращению сельскохозяйственого производства, но и к разрыву или по меньшей мере ослабению традиционных связей в деревне. Идея же классовой борьбы в деревне была в Узбекистане еще большей фикцией, чем в России.
Колхозы стали с первых же дней своего существования всеобъемлющей системой принудительного труда. Чрезвычайный закон от 7 августа 1932 г. предусматривал за кражи колхозниками своей же кооперативной собственности смертную казнь расстрел, а при смягчающих обстоятельствах – 10 лет заключения в концентрационном лагере. Принятый по личной инициативе Сталина и отредактированный им закон по своей бесчеловечности не имел аналога в новейшей истории. Поскольку исполнение исходящих от Сталина актов строго контролировалось сверху донизу, закон от 7 августа действовал.
По официальным данным, скорее всего заниженным, в 1933 г. расстреляли в целом по стране более двух с половиной тысяч крестьян и сотни тысяч направили в концентрационные лагеря за сбор колосков на убранных полях. Надо заметить, что тогдашнее руководство Узбекистана, к его чести, усердия в репрессиях против своих крестьян не проявляло. Во всяком случае, в соответствующих архивных документах, которые мне удалось прочитать, Москва грозно требовала принять все необходимые меры для усиления борьбы с хищниками (!) в колхозах.
Но даже и более мягкие формы государственного принуждения, направленные на беспощадную эксплуатацию колхозников, в том числе и детей, превосходили по своей жестокости все, что когда-либо имело место в отношении узбекского крестьянства в Бухарском, Кокандском или Хивинском ханствах. Среди этих форм и такие специфические для советского социализма, как лишение колхозников паспортов, направление их в уголовном порядке в отдаленные районы Сибири за невыработку обязательного минимума трудодней и т. д.
Хлопковая экспансия
Одной из острейших проблем социально-экономического, политического и национального развития Узбекистана стало при советской власти превращение в монокультуру хлопка, необходимого и для текстильной, и для оборонной промышленности. В этом отношении большевики продолжили линию своих дореволюционных предшественников. Такой факт: уже в 1883 г. российские предприниматели завезли в Узбекистан американский хлопчатник, во много раз превосходивший по урожайности местные сорта.
За годы советской власти производство хлопка-сырца выросло в 9,7 раз (!) за счет главным образом его экстенсификации. Производство же зерна неуклонно снижалось. В 1913 г. оно составило 1019 тыс. тонн, в 1950 г. 425 тыс. тонн (снижение в 2,4 раза), в 1975 г. 1079 тыс. тонн (увеличение на 5,6% при стремительном росте населения).
В целом в бытность СССР Узбекистан лишь на 25% обеспечивал потребности республики за счет собственного зерна, а остальное был вынужден импортировать из России, Казахстана, США.
А Москва все подгоняла и подгоняла Узбекистан. В постановлении ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 3 февраля 1948 г. "Об ошибках КП(б) Узбекистана и Совета Министров УзССР по руководству хлопководством в 1947 г." в самых резких выражениях говорится о забвении в Узбекистане общегосударственных задач в пользу местных интересов. И это в то время, когда площадь засеянных хлопчатником полей долгое время занимала почти 80% всех обрабатываемых земель, когда рациональная структура земледелия была разрушена и для зерновых культур выделялись некачественные земли с дефицитом воды, когда резко снизилось производство фруктов и овощей. Причем закупочные цены на хлопок были настолько низкими, что едва покрывали производственные затраты.
Изнурительным трудом на сборе хлопка были до глубокой осени заняты женщины и дети. Высокая заболеваемость и детская смертность, низкое качество образования – вот цена, которую Узбекистан платил за навязанную Москвой хлопковую экспансию. Будучи преображенным в одну большую хлопковую плантацию, Узбекистан вышел на путь длительного трагического эксперимента, подтверждая возможность хлопка оказывать отрицательное воздействие не только на сельское хозяйство, но также на промышленность, образование, здравоохранение и в конечном счете общественную нравственность. Влиятельный немецкий политолог Уве Хальбах дал своим материалам о кризисе в советском Узбекистане впечатляющее, хотя и не оригинальное название "Белое золото, белая смерть" (Halbach Uwe. Weisses Gold, weisses Tod... Materielle Krise und ethnische Unruhe in Sowjetisch-Zentralasien, in Biost, 1991, S.2). Действительно, "белое золото" оказалось проклятием.
В связи с тем, что хлопком в Узбекистане засевалось, как уже сказано, почти 80% всех посевных площадей, была нарушена экология региона и высохло Аральское море. Арал, как известно, пополнялся за счет двух источников естественных осадков и воды впадавших в него двух крупнейших среднеазиатских рек – Амударьи и Сырдарьи. Именно из-за неразумного и неумеренного использования водных ресурсов этих рек для орошения Арал стал недополучать почти 90% обычного притока воды. За последние 30 лет он потерял 75% своего объема и 50% акватории. Проблема Арала приобрела планетарный характер. Средняя Азия и Казахстан оказались в эпицентре экологической катастрофы, последствия которой уже сейчас испытывают на себе 60 млн. человек. Аральский кризис влияет и на глобальные экологические процессы в отдаленных от него районах Евразии.
Все это давно и хорошо всем известно. Но необходимо повторять и повторять эти цифры. Они должны звучать набатом тревоги, напоминая миру о беде, страшной и, к несчастью, уже неотвратимой.
Хлопковая специализация Узбекистана обусловила высокую долю сельского хозяйства в занятости населения, производстве валового общественного продукта и национального дохода. В частности, в 1976 г. эти показатели по Узбекистану и СССР выглядят следующим образом: 39,7% и 23%; 22,1% и 14,2%; 32,1% и 16,3%.
Узбекистан серьезно отставал от других республик по производсту и потреблению продуктов на душу населения. Например, в 1955 г. в республике на душу населения было произведено 14 кг мяса, 62 кг молока, 29 кг овощей, тогда как в целом по СССР соответствующие показатели составляли 32 кг, 215 кг, 71 кг.
В ЭТОМ ЖЕ ГОДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В КГ СОСТАВИЛО:
Республика Продукты
Мясо Молочные продукты
Уз.ССР 23 111
Латв.ССР 60 395
Белор.ССР 45 224
Казах.ССР 43 180
Туркм.ССР 33 110
(Ист. Гитлин С. Национальные отношения в Узбекистане: иллюзии и реальность. – Тель-Авив. 1998. С. 192-193.)
Диктат над национальной культурой
Привлекательность для многих и одновременно слабость социализма в его исторической ставке на массы, в его биологической ненависти – на уровне родового инстинкта – к сильному личностному началу, к божьей искре, к самостоятельной и напряженной работе мысли, к индивидуальности. Боязнь всякой незаурядности, вражда к состязательности и конкурентности, подозрительное отношение к творчеству – все это само по себе не могло не вести к деградации людей. Апология массы всегда вербовала и вербует сторонников социализма среди маргиналов, обеспечивает утверждение охлократии, то есть власти толпы.
Именно поэтому Ленин, как известно, не находил лучшего слова для интеллигенции, чем "дерьмо". В официальной большевистской доктрине интеллигенция определялась как прислужница буржуазии, как прослойка между классами, не имеющая исторической перспективы. Недаром и Сталин любил напоминать, что большевики – это люди особого склада, а не какая-нибудь интеллигентская плесень.
Но для себя, для служебного пользования, так сказать, по-гамбургскому счету, большевики понимали, что интеллигенция – это сила, что именно она честь, совесть и мозг нации. Как наиболее образованная часть любой нации, интеллигенция призвана нести в массы просвещение, гуманные и прогрессивные идеи, в конечном счете чувство национального достоинства. Это и являлось для большевиков самым страшным. Поэтому их террор и был направлен прежде всего против интеллигенции, в том числе и национальных республик.
В Узбекистане, как и во всей стране, тоже утверждался искусственный отбор местных кадров. Талант, компетентность, умение уже не играли решающей роли. Это не могло не дать и продолжает по сей день давать ядовитые всходы.
В Узбекистане Москва боролась с интеллигенцией перманентно, время от времени, меняя лишь формы и методы борьбы. Открытый террор 1937-1938 гг., не считавший жертв, сменился в конце сороковых – начале пятидесятых выборочными репрессиями, творившимися без особого шума. Все эти годы для национальной интеллигенции действовало непреложное правило: если хотела выжить, она должна была быть политически благонамеренной перед Москвой.
Главным фронтом идеологической борьбы стала историческая память узбеков. Внешне этой по сути своей беспощадной борьбе придавался характер поиска ответа на сакральные вопросы: "В какой мере может быть воспринято советской действительностью национальное культурное наследство? Как оно согласуется с советским настоящим?"
Именно об этом с пронзительной болью писал Чингиз Айтматов: "Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто смеет посягнуть на память человека?!"
Причем в этом отношении складывалась весьма своеобразная ситуация. В русской национальной культуре значительная часть прошлого, по инициативе Сталина, рассматривалась как прогрессивная, истинно народная, обогащающая новую культуру, национальную по форме и социалистическую по содержанию. В отношении же нерусского национального культурного наследства, в том числе и узбекского, Москва придерживалась принципиально иной позиции. Во время очередных кампаний с завидным постоянством отыскивались произведения и творения, содержащие реакционные, враждебные социалистическим идеи.
Показательным в этом отношении был XIV пленум ЦК КП(б) Уз (28-30 августа 1946 г.). В подготовленном в Москве докладе указывалось, что "в ряде научных и художественных произведений имели место ошибки националистического толка. Со стороны отдельных исследователей и историков делались плохо прикрытые попытки идеализации феодального прошлого, слюнявого (стиль-то каков! – Л.Л.) умиления перед этим прошлым".
Кампании травли, первоначально в виде осуждения в печати, освобождения от занимаемых должностей, лишения права трудиться по призванию и т.д., а затем арестов, усилились в конце сороковых годов. В 1951 г. были репрессированы поэт и драматург Шукрулло (Шукрулло Юсупов), видные литераторы Мирзакалон Исмаили, Шухрат, Хамид Сулейман и др. В космполитизме были обвинены Айбек, Тураб Тула.
Апогеем истерии в борьбе с национализмом стал пленум ЦК КП(б) Уз, состоявшийся 21-22 февраля 1952 г. На пленуме – вновь гром и молнии в адрес историков, философов и писателей, страдающих национальной ограниченностью, протаскивающих мысль о том, что далекое прошлое было золотым веком узбекской истории, смазывающих и умаляющих действительно величайшие социалистические преобразования, достигнутые в Узбекистане при советской власти.
Подобный дьявольский шабаш организовывался так или иначе во всех национальных республиках. В начале пятидесятых годов по явно надуманным поводам развернулась ожесточенная критика тюркского героического эпоса "Дастан". В действительности Москва боялась, чтобы прославление борьбы тюркских народов со своими врагами не привело бы в национальном общественном сознании к такой же положительной оценке противостояния российской колонизации.
В аналогичном ключе была проведена кампания против узбекского народного эпоса "Алпамыш".
Крайне остро ставился вопрос о проявлениях пережитков национализма в оценке социальной природы джадидизма. Ведь джадиды тоже были столь нелюбимыми и опасными для большевиков национальными интеллигентами. История джадидизма в течение многих лет находилась в забвении. Вместе с тем джадидизм, как важнейший этап в истории просветительства, являлся своего рода культурным ренессансом в Средней Азии. Тем он и был страшен для Москвы. На пленуме ЦК компартии Узбекистана (12-13 июля 1963 г.) указывалось на необходимость непримиримой борьбы с попытками обелить контрреволюционное, буржуазно-националистическое движение джадидов и реабилитировать его идеологов. И только в последнее десятилетие советской власти карантин в отношении джадидов был ослаблен, стало уделяться большее внимание изучению биографий и трудов представителей джадидизма Махмудходжи Бехбудия, Абдурауфа Фитрата и др., историческое мировоззрение и творческое наследие которых было мало или совсем неизвестно широкой общественности.
А вот ход борьбы с кыргызским эпосом "Манас" носил по тем временам весьма специфический характер. Неожиданно для Москвы кыргызы, в том числе и их политическая элита, мужественно и открыто выступили в защиту своего великого культурного наследства. И уж совсем необычным стало то, что статьи в защиту "Манаса" публиковала издававшаяся на кыргызском языке газета "Кызыл Кыргызстан", орган ЦК компартии Киргизии.
В Москве забеспокоились. Под эгидой центра в столице Кыргызстана была проведена весьма представительная научная конференция, в которой приняли участие известные российские ученые и представители других союзных республик. Однако и эта конференция, с ее многодневными спорами и борьбой взаимоисключающих мнений, не дала, в сущности, никаких результатов. Стороны остались на своих позициях. Защитники "Манаса" не согнули головы перед Москвой. Естественно, что после этого последовали политические, точнее кадровые, решения, главные протагонисты разыгравшейся драмы из местной политической и научной элиты лишились своих постов.
Большие потрясения пришлись на долю узбекского языка. В конце двадцатых начале тридцатых годов под флагом борьбы с религией специальные отряды чекистов уничтожали заодно с Кораном древние рукописи на узбекском языке, труды ученых средневековья и сборники классической национальной поэзии. Ярким проявлением политики насильственной русификации были проведенные по команде центра реформы национального алфавита и административные меры по распространению русского языка среди узбеков.
В начале 1929 г. была отменена арабская графика узбекского языка и насильно введена латиница. В 1939 г. после замены латиницы кириллицей на какое-то время узбеки вообще оказались оторваны от своей литературы, своей исторической научной классики.
Год за годом русский язык вытеснял родной язык узбеков в системе общего среднего образования. Узбеки из числа наиболее европеизированных стремились к тому, чтобы их дети получали образование в русских школах, поскольку там уровень получаемых знаний был заметно выше. Они учитывали, что в сложившихся в СССР условиях это обеспечит их детям жизненный успех. Сфера преподавания на узбекском языке в высших и средних специальных учебных заведениях инженерно-технического и медицинского профиля не могла охватить выпускников узбекских школ, стремящихся получить соответствующее образование. Поэтому значительная часть национальной научно-технической интеллигенции, работников партийных и советских органов недостаточно хорошо владела своим родным языком.
В то же время низкий уровень преподавания узбекского языка в школах с русским языком обучения, отсутствие социальных мотиваций применения узбекского языка обусловили слабое знание его русскоязычным населением.
Ислам в годы советской власти
В первые месяцы своего пребывания у власти большевики предприняли ряд шагов, способствовавших привлечению на их сторону мусульман. В декабре 1917 г. Совет народных комиссаров постановил возвратить мусульманам уникальный экземпляр Корана Османа, который в конце XIX в. по указанию губернатора Туркестанского края Кауфмана был вывезен в Санкт-Петербург на хранение в Государственную публичную библиотеку. (Осман – третий праведный халиф в Арабском халифате из рода Омейядов, один из сподвижников и зять пророка Мухаммеда, первый систематизатор коранических сур, был убит в результате дворцового переворота в 656 г. В соответствии с исламской традицией в момент гибели он держал в руках Коран, на страницах которого сохранились пятна его крови.)
Этот шаг оказал влияние на значительную часть духовенства, которое, видя готовность советской власти к сотрудничеству, декларировало идею общности социальных установок коммунизма и ислама и выдвинуло лозунг "За советскую власть и шариат".
Однако очень быстро медовый месяц большевиков и исламского духовенства закончился. Политические расчеты Москвы на революционный порыв ислама неизбежно вступили в противоречие с ее атеистическими взглядами и, главное, с тоталитарной сущностью большевистского режима. Уже в 1918 г. Москва пытается поставить жизнь мусульман Средней Азии под свой контроль.
С середины двадцатых годов доминирующей в отношении советской власти к исламу стала тенденция подавления. Именно в этот период были заложены предпосылки деления ислама на зарубежный и внутренний. Если первый рассматривался как естественная часть мировоззрения общества в мусульманских государствах, как политический фактор и даже как допустимая форма идеологии национально-освободительного движения, то второй считался безусловно реакционным и отмирающим. Именно в этот период мусульманские религиозные организации были поставлены под прямой контроль НКВД.
И все же в Средней Азии большевики подходили к религиозным проблемам более осторожно, чем в России, что было обусловлено и укорененностью в этом регионе ислама, и непрекращающимся антибольшевистским сопротивлением (так называемым басмачеством), шедшим под знаменем священной войны – джихада. Вместе с тем в 1925 г. с началом земельно-водной реформы осуществлялся комплекс социальных мер по ее поддержке и идеологическому обоснованию модернизации общества. Составной частью этой модернизации стало наступление на ислам.
Во второй половине двадцатых годов сократился, а затем практически прекратился выпуск религиозной литературы. (В 1928 г. были закрыты мусульманские журналы "Ислам" и "Дианат".) В конце двадцатых – начале тридцатых годов началось изъятие и закрытие мечетей. Разгром мусульманских приходов и разгон мулл приводил в полный упадок мусульманскую систему религиозного образования. Сильный удар по этому образованию нанесла замена в течение 1929-1931 гг. принятой среди советских тюрков арабской письменности латинским алфавитом – яналифом. Дополнительные сложности в этом отношении внес и последовавший позднее переход на кириллицу.
Отмена арабской графики, хотя и способствовала приобщению узбеков к европейским достижениям в области науки и техники (пусть даже и в советском варианте), разъединила их с зарубежными единоверцами, с центрами исламской цивилизации на Ближнем и Среднем Востоке.
В середине тридцатых годов в обстановке нарастающего сталинского террора в Узбекистане началось физическое уничтожение влиятельного слоя исламского духовенства, которое шло параллельно с репрессиями против буржуазных националистов. Любое проявление недовольства действиями властей беспощадно подавлялось.
Результатом тотальной атеизации явился разгром исламской классической культуры, ликвидация слоя духовной элиты, уничтожение системы религиозного образования. Преследованию подвергались и бытовые религиозные традиции, которые в Узбекистане оказались очень устойчивыми, приспособились к новым жизненным реалиям и существовали как бы параллельно с ними.
В первые же дни Великой Отечественной войны авторитетные мусульманские деятели выступили с призывом бороться против общего врага, объявив войну советского народа против нацистской Германии джихадом. Признанием заслуг мусульман и мусульманского духовенства перед государством стало создание в 1943 г. трех духовных управлений мусульман, в том числе – Средней Азии и Казахстана (САДУМ) с центром в Ташкенте. САДУМ вскоре приобрел неформальный статус духовного лидера всех советских мусульман. (Между прочим, первый глава САДУМа муфтий Зияутдинхан ибн Ишан Бабахан несколько лет до своего избрания провел в заключении.)