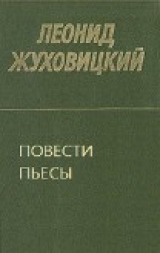
Текст книги "Повести. Пьесы (СИ)"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Оставалось часа три свободных. Делать было нечего, и никуда не тянуло, ибо для себя он из города уже ушел. Пермяков прикинул, куда бы лучше эти три часа вытряхнуть, и решил, что правильней всего сходить к реке. Природа, она всегда природа.
Да и народу там меньше. Не встретишь, кого не надо. Он пошел к берегу напрямик, через пустырь и кустарник. По реке текло солнышко, и вода сверкала, казалась теплой, летней. Пермяков посидел на груде бревен, потом дошел до знакомого кострища и там, на лавке, опять посидел.
То ли день был хорош, то ли еще что, но с берега город вдруг показался Пермякову красивым. Разбросанные дома, правда, еще не выстроились в улицы, зато между ними, во дворах и на пустырях, зеленело все, что могло зеленеть. Подальше, на окраине, долговязо тянулись к веселому небу три бело-голубые башенки микрорайона. Городок был невелик, пространства вокруг подавляюще огромны, и тем не менее он существовал, занимался своими делами, шевелил кранами…
И откуда что взялось, подумал Пермяков.
Ему вдруг вспомнилось давнее, самую малость схожее ощущение: он, молодой, блаженный, глупый, выходит из роддома, а в руках нечто нежное, до ужаса хрупкое – только бы не споткнуться! – то, что впоследствие стало Лариской. И удивление: ничего ведь не было, а вот – есть…
Само собой вздохнулось.
Привык, усмехнулся Пермяков, своим человеком стал – все дружинники в корешах…
Потом он подумал, что у Павлика скоро обед.
Жалко было уходить, что и говорить, жалко. Но ведь и яблоневый, вишневый совхоз под Харьковом не хотелось покидать. И на сплаве тянуло остаться – уж очень мужики попались подходящие.
Тянуло остаться – потому и уходил.
Страшно было постепенно возникавших привязанностей, что исподволь, незаметно вползали в душу, прорастали, пускали корни, а потом, в проклятый момент, кто-нибудь вдруг выдернет их жестоким рывком вместе с кровоточащим мясом. Это ведь не гипс снимать – больнее…
Уходить надо, уходить.
А что жалко, тут уж ничего не поделаешь: на то и человек, чтобы жалеть…
Время шло, но медленно.
Краем неба прошумел самолет. «Антоха», – автоматически, не подняв головы, отметил Пермяков, и в тысячный, наверное, раз подосадовал на себя: от многих лишних привычек избавился, но эта – узнавать самолеты по гулу – осталась. Уже просто так, для забавы, Пермяков проверил себя – посмотрел в небо, убедился, что прав, и подумал: у былой его профессии подлая бабья манера, предав человека, все же не отпускать его до конца, придерживать на случай…
Когда в то утро на взлете неожиданно развалилась резина на левой «ноге», он в общем-то не испугался, потому что сразу подумал: в крайнем случае – на воду. Не сахар, конечно, но живы будем. Сяду, а там поглядим.
Однако водный вариант отпал так же быстро, как и возник. Это еще какой получится удар. Вполне реальна разгерметизация. В салоне полсотни пассажиров, кто-то зазевается, кому-то не повезет. Опять же, в аэропорту полная паника: всю речную спасательную службу надо дыбом поднять! А и обойдется – у парней из анекдотов не вылезешь, какой-нибудь там уткой прозовут или утопленником… Странно, но это соображение тоже сыграло свою роль.
Для приличия он подождал команды с земли. Команда была для таких ситуаций обычная: на усмотрение командира корабля. Улетели недалеко, но разворачиваться он не стал, так и пошел в порт назначения. Во-первых, надо было выработать горючее – с полными баками на аварийную посадку и дурак не пойдет. Во-вторых, летели домой, а бетонка хоть везде жесткая, но дома все же своя.
Он запросил погоду. Сказали – слабый дождь. Он еще строго кинул бортпроводнице Верке:
– Ты куда же смотришь? Дома дождь, а мы с тобой галошу потеряли!
Она с готовностью засмеялась, и вся сценка прошла содержательно, как в кино: командир в трудный миг шутит, стюардесса преодолевает страх. Что таить – еще подумал тогда, что Верка фразу запомнит, перескажет девкам в порту, а уж те разнесут по всему летному городку, по тому малому миру, который только и сможет понять и точно оценить происшедшее.
Любопытно – в те минуты, а их было порядочно, больше ста двадцати, он думал не о посадке, а лишь о том, что будет после нее. Думал, как встретят его в порту, как товарищи по отряду, едва событие поостынет, начнут деловито влезать в детали – осваивать аварийный опыт, как сам он после скромненько, пробросом, расскажет про чепе жене, как станет отшучиваться от тревожных вопросов аэродромных девчонок, а тревога их будет искренней, ибо все они летают в одном небе и у всех внизу одна твердая земля. Самой посадкой тогда мозги не терзал – не была необходимости. И так знал, что все будет зависеть от вещи элементарной: сумеет ли он, чуть накренив машину, приземлить ее на правую, здоровую «ногу» и, главное, сможет ли потом в течение секунд приблизительно двухсот, пока не погаснет скорость, удержать самолет в равновесия. Завалит вправо – авария, полетит крыло. Завалит влево – разутое колесо выбьет из бетона целую метелку искр, и мало ли чем это кончится…
В газетке потом написали, что, благодаря высокому мастерству всего экипажа, удалось избежать пожара. На радостях приврали: пожар, строго говоря, был, но маленький, его быстро задавили, хотя передний салон потом час откашливался, а в кабине вообще стало как в печной трубе. Пермяков выбрался сам и в «скорую» не полез – командир отряда подбросил его до медпункта на своей «Волге». Правое ухо кровило. Болела голова, а сильно или нормально, этого Пермяков не понимал, поскольку болела впервые. Он не тревожился – все позади, машина цела, люди целы, пустяком отделался. Он еще не знал, что больше никогда не поднимется в воздух, даже пассажиром…
Голова болела долго, чуть не полгода он лечился – странное занятие! Потом боли поутихли. Но финальная медкомиссия никаких иллюзий на дальнейшее не оставила.
Должность на. земле ему нашли приемлемую, с некоторой даже перспективой, в деньгах не так много и проиграл. Но для тридцатисемилетнего мужика это было все равно что пенсия…
До сих пор шевелилась в нем обида, нелепая, бессмысленная и – сам знал – несправедливая. Обида была не на врачей – врачи на должности! – а на друзей: не то сделали, не то сказали, не так посочувствовали. Хотя сам же, когда хотел вдуматься, прекрасно понимал – ничем, кроме сделанного, помочь они не могли. Их безвинная вина была в ином: они и сейчас летали, а его, как муху булавкой, безжалостно пришпилило к земле…
Может, и привык бы, приспособился. Но оказалось невозможным приспособиться к иному: в собственном доме, где прежде, в нерегулярные и краткие приезды, привык чувствовать себя веселым, щедрым, любимым хозяином, он оказался мешающим квартирантом, и все, до того скрытое, быстро и скандально полезло наружу…
Ладно, утешил себя Пермяков, главное – живу. И – ничего. Могло быть и хуже…
В отдалении виднелся причал. Пермяков подумал, хмыкнул – чем черт не шутит! – и двинул туда. Место оказалось грязное – доски, рассыпанный гравий, кучки песка, подтеки солярки.
Вот и сапоги пригодились, усмехнулся он. По корявому откосу он спустился к реке, пригнувшись, походил под сыро пахнущим настилом и все же обнаружил, что искал: под самым обрывом из-под осыпавшейся земли и разного бетонного лома сочилась вода. Струйка была слабенькая, с карандаш. Она даже до реки не добегала, расплываясь по песку темным пятном.
Пермяков поковырял песок сапогом. Ямка получилась некрасивая, со следом подошвы. Вода в ней скапливалась крохотной мутной лужицей.
Он посоображал немного, огляделся и принес доску. Положил ее возле родничка относительно чистой стороной вверх, встал на колени и принялся твердой щепкой углублять и расширять ямку. Рыхлить песок щепкой было удобно, но выгребать – плохо, и он стал орудовать руками. Под ногти набилась земля, одна брючина подмокла в колене, зато родничок получился очень даже ничего. Вполне получился родничок.
Пермяков подождал, пока ямка наполнится, и пригоршнями вычерпал мутноватую воду. Снова подождал, снова вычерпал. И так повторил раз десять.
А потом просто стоял на коленях, ожидая, пока осядет муть.
Наконец вода в лужице посветлела. А ничего… озерцо, подумал Пермяков. Называть дело своих рук лужей ему даже мысленно не хотелось.
Он сходил к реке, тщательно, без спешки, вымыл руки и вернулся к озерцу. Вода в лунке просвечивала до дна.
Он вновь встал на колени, горстью зачерпнул из родничка и напился. Вода была холодная, без привкуса.
Вот и нормально, подумал Пермяков. Родник, он и есть родник. Колькин ключ. Теперь будет существовать. Пустячок, а приятно. А что место вокруг грязное, не беда. Даже лучше, меньше будут лезть. Не затопчут.
Он еще постоял у родничка. Затем, не без сожаления, пошел назад, к автостанции.
Выйдя из кустарника, он увидел, что по шоссе к городу протрюхала груженая полуторка. Значит, все в норме, мост функционирует.
Возле автостанции теперь виднелись только два автобуса. Два, значит, ушли. Ну и бог с ними, попутного ветра.
Сориентировавшись, он зашагал пустырем прямо к развилке. Рюкзачок на спине был не тяжел и даже приятен.
Пермяков глядел только на шоссе впереди, на постороннее не отвлекался и двигался так, пока глаз автоматически не уловил нечто тревожащее. Тогда Пермяков сосредоточился и понял, в чем дело: от автобусов наперерез ему шла Раиса.
От неожиданности он остановился, глупо улыбаясь.
Значат, точно – не судьба, подумал он. Поймали…
Он вдруг почувствовал облегчение. Вот и решилось. Слава богу, само собой. Теперь уж не отвертишься, и ни к чему мучить мозги. Зовут – надо идти…
Он дурашливо развел руками и пошел ей навстречу. Потом опять остановился.
Раиса надвигалась набычившись, сжав губы, собрав пальцы в маленькие крепкие кулаки. Надвигалась угрюмо и решительно, как бесстрашный дворовый мальчишка идет на сильного обидчика, когда победа невозможна, но и унижение нестерпимо.
Пермяков так и стоял, глупо улыбаясь.
– Вот и встретились, – начал было он, но посмотрел на нее и замолчал.
– Ох и гад! – сказала Раиса.
– Ну вот, так сразу и гад…
– Гад, – повторила она, – с тобой как с человеком… Не договорив, она вдруг бросилась на него с кулаками.
Пермяков с трудом перехватил ее руки, сжал в запястьях. Легкий его рюкзачок свалился на землю, усеянную битым кирпичом.
– Ну, ты чего, – примирительно забормотал он, – ты чего?
Раиса вырывалась, удержать ее было трудно, но он удержал, сжав запястья сильней. Она скривилась от боли, и Пермяков тут же отпустил.
– Гад, – еще раз выругалась она. И вдруг заплакала, зло и беззвучно.
– Рай…
Она повернулась к нему спиной. Пермяков осторожно положил ей руку на плечо, но она вывернулась, резко и враждебно.
– Рай, – позвал он, – ну, чего ты?
Она не отозвалась.
Тогда он попытался объяснить:
– Рай, ну ты пойми… Это ведь одно мученье Мне что, мне с тобой только лучше. Но тебе-то на черта жилы рвать?
Раиса глянула через плечо и сказала почти с ненавистью:
– А вот это не твое дело!
Пермяков опустил плечи, вздохнул и проговорил подавленно:
– Тебя же пожалел.
Она ответила:
– Нужна мне твоя жалость…
ЖЕНЩИНА ДО ВЕСНЫ

– Мальчик, а мальчик!
Батраков не сразу понял, что это его. Хорош мальчик! Тридцать лет, ростом не обижен, плечами не беден, куртку купил пятьдесят второго размера, едва сошлась. В этой вот куртке он и сидел на лавке в скверике при станции, пристроив локоть на рюкзак. Рюкзак был большой, довольно тяжелый, но набит только нужным, а на нужное Батраков горба не жалел.
– Какой невежливый мальчик, а? Хоть бы пошевелился для приличия.
Тут уж обернулся. Две бабешки лет по двадцать пять – тридцать, одна симпатичная, другая никакая. У обеих через плечо одинаковые торбочки, вроде сумочек, только повместительней. Говорила симпатичная, а другая стояла, отвернув лицо, и вид у нее был то ли смущенный, то ли обиженный.
– Мальчик, а мальчик, где тут буфет?
– Буфет с утра будет, теперь все. В городе ресторан есть, там до одиннадцати, – ответил Батраков. Сдержанно ответил, потому что ситуацию понимал не до конца: то ли клеятся, то ли развлекаются. Вроде не местные, с вещичками, но, может, и местные, дурака валяют со скуки.
– Ресторан нам не подходит, – сказала симпатичная, – мы девушки небогатые, кроме души, золота нет. Алла Константиновна, подходит тебе ресторан?
Та просто шевельнула верхней губой.
– Вот видишь, Алле Константиновне ресторан не подходит.
– Голодные, что ли? – спросил напрямую Батраков.
– Какой догадливый мальчик! – похвалила симпатичная.
– Ладно, – сказал Батраков, – присаживайтесь.
Теперь он знал, что делать. Голодные девки, и все. А это с любым бывает.
– Особого нет, но малость перекусить, это найдется.
Он распустил узел на рюкзаке, достал хлеб, сырки, пяток огурцов, тяжелый и рыхлый кусок вареной колбасы. Хотел поужинать в Овражном, с чаем, в тепле и покое, ну да ладно…
– Ого! Запасливый мальчик.
– Просто люблю ни от кого не зависеть. – Вышло грубо, Батраков покраснел и исправился: – В смысле, от обстоятельств.
Симпатичная вздохнула:
– Зависеть, это и мы с Аллой Константиновной не любим. Не любим, а приходится. Хотя от такого хорошего мальчика зависеть даже приятно. Тебя как звать-то?
– Батраков Станислав.
– Стасик, значит? А чего – красиво. Правда, Алла Константиновна?
Подруга никак не отозвалась, и симпатичная решила за нее:
– Вот и Алла Константиновна согласна.
Девки ели аккуратно, не торопясь и не жадничая, последний огурец и кусочек колбасы деликатно оставили на бумажке. Батраков велел доедать, не прятать же назад.
– Поровну – возразила симпатичная и умело поделила остаток трапезы на три дольки.
– А тебя как зовут? – запоздало спросил Батраков.
– Марина, – назвалась симпатичная, чуть помедлив, будто прикидывала, стоит знакомиться или нет.
Батраков, пока ели, успел ее разглядеть. Ладная девка и знает, что ладная: все, что надо, на месте, брючки легкие, летние, розового цвета, сидят, как целлофан на сосиске, и почти так же просвечивают. Блондинка, а глаза черные, умные, верхняя губа вздернута, словно целоваться собралась. В красавицы не зачислишь, но выбирать из мужиков может. Лет сколько? Вот тут вопрос: может, двадцать пять, а может, и тридцать, жизнь потрепала, этого не спрячешь…
– Стасик, а ты не шофер?
– Механизатор.
– Жаль. А, Алла Константиновна? Такой хороший мальчик, а не шофер.
– Шофером тоже могу, полтора года работал. Но не здесь.
– А где?
– В Читинской области.
– Это далеко, – огорчилась симпатичная Марина, – это нам не годится. Алла Константиновна, годится тебе Читинская область?
Подруга что-то бормотнула, послушно и вяло подыграв, и Марина с удовольствием развела руками:
– Вот видишь, Стасик, Алле Константиновне Читинская область не годится. Алле Константиновне годится Сухуми. На крайний случай, Сочи. Туда, случайно, не собираешься?
– Да пока что не зовут.
Сентябрь кончался, он был в этом году довольно теплым, но пасмурным, вот и сейчас за станцией, за путями, пустырем и лесом, похоже, набирал силенки дождь.
– Ночевать-то есть где? – спросил Батраков просто из сочувствия.
– Эта проблема у нас с Аллой Константиновной еще не решена, – без выражения отозвалась Марина.
Батраков помедлил. Но и девки медлили. И от этой дыры в разговоре вопрос получился как бы и не вопросом, а предложением. Выходило, что не девкам, а Батракову, мужчине, эту проблему положено решать. Мог бы, конечно, и отвертеться, увести разговор на другое, но жалко стало девок, бездомных и безденежных. Он знал этот городишко, маленький и грязный, – ну где им тут искать крышу на ночь, какому случайному мужику (чем – понятно) за ночлег платить?
– В Овражное еду, – сказал он, – не Сухуми, правда, но переночевать можно.
– А чего там, в Овражном? – с сомнением спросила Марина.
– Райцентр. Молокозавод строим. Полчаса поездом.
Та повернулась к подруге:
– Как, Алла Константиновна?
Алла Константиновна неожиданно прорезалась:
– А шоссе там есть?
– Как раз на шоссе и стоит. Можно на Курск, можно на Киев.
– Ну и нормально, – с готовностью подхватила Алла Константиновна, – чем здесь торчать…
Интонация у нее была просительная, что Марине, видимо, не понравилось.
– Все, едем. Овражное – звучит красиво, а Алла Константиновна у нас девушка романтическая, ей главное, чтобы красиво.
До поезда было часа полтора. Дождь и вправду пошел, они спрятались в вокзальчик, похожий на сарай, но с двумя колоннами у входа. Батраков взял три билета. Что дальше, загадывать не стал, он вообще не любил загадывать. Как будет, так и будет. Одному с двумя девками делать нечего, тем более Марина себе цену знает, сразу видно, а насчет себя Батраков не заблуждался. Урод, может и не урод, но планы лучше не строить. Давно еще, до армии, в училище механизации напросился провожать незнакомую девчонку с дискотеки. Она вроде бы и согласилась, но всю дорогу раздраженно топырила губы, а когда он у дома хотел ее поцеловать, отпихнула его и бросила со злобой: «Да твоей мордой только гвозди забивать!» Потом, конечно, случалось всякое, с бабами Батраков теленком не был, но и фразу ту грубую не забывал…
В вокзальчике девки устроились на длинной лавке у стены, Батраков хотел сесть сбоку, но Марина подвинулась, оставив ему место в середке.
– Ну что, Алла Константиновна, – сказала она, – повезло нам со Стасиком?
– Повезло, – согласилась Алла Константиновна и покраснела.
Батраков все не мог привыкнуть, что он Стасик. Так его никогда не звали. В детстве был Славка, в школе в училище Батрак, в армии Батраков, после армии опять Батраков. И когда случалось думать о себе, даже в мыслях называл себя – Батраков. А теперь, выходит, перекрестили. Но не вылезать же с такой мелочью! Стасик, так Стасик.
Он спросил девок, откуда они. Марина ответила уклончиво – из-под Брянска. Уточнять Батраков не стал, но Марина, видно, сама устыдилась ненужной скрытности и начала объяснять:
– У нас там рабочий поселок, три тысячи народу, в общем-то деревня. Жить можно, но не Москва. Вот мы с Аллой Константиновной и намылились на майские праздники в Москву. Так до сих пор и празднуем.
Что ж, подумал Батраков, и так бывает, понять можно. Он сам рос в поселке, сперва любил его, потом возненавидел, бежал с другом в Тулу, в училище, начинать новую жизнь, а после оказалось, что новая жизнь всего лишь долгая увольнительная от старой, цветной лоскут, вшитый между двумя ее кусками. Училище, армия, три последующих, уже вольных года в Забайкалье, стройка под Минском, а кончилось тем же поселком, который собирался забыть навек, тем же кровом, под который сам себе клялся не возвращаться, материнским домом, до отвращения не своим. Всяко бывает…
– Родные не беспокоятся?
– Кому мы нужны? – сказала Марина.
В Овражном Батраков сразу пошел в общагу, девки со своими торбочками остались на ступеньках. Общага была хорошая, квартирного типа, два подъезда в пятиэтажке. Дежурила Люба, тетка за пятьдесят, въедливая, но не злая: обмануть ее было трудно, но уговорить можно.
– Люба, – попросил Батраков, – устрой двоих на ночь.
Люба вытянула шею к окну. Девки сидели как раз под лампочкой.
– К тебе, что ли?
– Зачем ко мне… Где место есть.
– Все равно у тебя окажутся, только лишние постели мять… Ладно, бери к себе. Но если что, гляди – я ничего не видала.
Батраков квартировал в двухкомнатной, на пять коек.
Но вот уже неделю квартира пустовала, парни принимали оборудование, ожидались дня через два. Девки свое дело знали: прокрались на третий этаж, как индейцы, ни скрипа, ни шороха. Просить у Любы чистые постели он не стал, и так спасибо, что пустила. Начал перед девками извиняться – только ладошками замахали, делов, мол. Марина тут же проявила находчивость: перевернула простыни, пододеяльник наизнанку, наволочки наизнанку… Алла Константиновна тоже даром не сидела, нашла веник и не быстро, но старательно подмела пол. Марина вызвалась постирать, но для первого раза это было бы слишком. Да и что стирать, почти все чистое. С этим у Батракова затруднений никогда не было, привык и умел, еще с училища.
Он поставил чайник. Девки тем временем попросились помыться, то есть просилась Марина, а Алла Константиновна краснела и отводила взгляд. Мылись они весело, с визгом, дверь в ванную прикрыли неплотно, щель в три пальца словно бы приглашала заглянуть. Но Батраков пользоваться случаем не стал, вышло бы некрасиво, будто плату взимает за ночлег.
Из ванной Марина вышла в легком, совсем уже летнем сарафанчике, Алла Константиновна в том, в чем и прежде была, видно, лишних вещей с собой не брали. А осенью как же, подумал Батраков, на что рассчитывают?
Гостьи легли в комнате попросторней, Батраков в другой. Вежливо пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.
Спать он не стал, после крепкого чая не хотелось, да и подозрение было, что не придется. И в самом деле не пришлось.
Девки в соседней комнате шептались, пересмеивались: похоже, и Алла Константиновна умела смеяться. Потом зашлепали шаги, вошла Марина.
– Не спишь? – Она стояла у двери в ночной рубашке.
– Да нет.
– Вот и я чего-то. – Она подошла к постели и села на край. – Много тебе с нами хлопот?
– Разве это хлопоты!
– Сам виноват, напросился. Хороший мальчик, а хорошим трудно жить.
Батраков хотел возразить, но не успел: жесткая нежная ладонь уже гладила его по лицу. Прочее произошло само собой: зажмурясь, ткнулся губами в ласковые пальцы, руки потянулись к женщине, под рубашку, в тепло – и тут же, одним движением скинув ночнуху, Марина нырнула под одеяло. Грудь у груди, пальцы, причитания, стоны, жадность и дрожь ее вздернутой губы… Бог ты мой, бывает же так!
– Хорошо тебе? – ее голос.
– А то не видишь…
– И мне…
Она снова потянулась к нему, и на этот раз было еще лучше.
– Я уж спать собралась, – сказала она, – Алла Константиновна не велела. Иди, говорит, а то будет нехорошо.
– Почему нехорошо?
– А это она не объясняет, – Марина засмеялась. – она только команды дает.
– Подруга твоя?
– Самая закадыка. Надежная и верная, вроде тебя. Видишь, какая я: сама плохая, а люблю хороших. – она усмехнулась.
– Почему это ты плохая? – Он не то, чтобы протестовал, просто спрашивал.
– Потому что сама навязалась! – прошипела она и прижалась к нему небольшими мягкими грудями.
Спорить Батраков не стал, но и поверить не поверил. Ему, конечно, хотелось знать про нее побольше, но самое главное он и так знал. С плохими так здорово не бывает. Плохой другого человека так никогда не поймет…
Вообще-то Батраков в людях разбирался так себе, знал это за собой и на всякий случаи обычно бывал осторожен: не раз и не два напарывался, пока не привык, что собственным начальным оценкам доверять нельзя… Но сейчас осторожности не было – была лишь неутоляемая мужская тоска по женщине, лежащей рядом, и горячая солоноватая жалость к родному бедному телу, к торбочке, к сарафанчику, к свалившейся на пол мятой ночнухе, к губке, вздернутой будто для поцелуя, к постельной умелости и покорности, к готовности ему, сегодня лишь встреченному, охотно и щедро служить. Мотается по свету в своих розовых тонких брючатах, ну, а осень – тогда как?
– Ну, а осень? – спросил Батраков. – Тогда как?
Она неопределенно шевельнула теплым плечом.
– Планы есть?
Подумала немного.
– У Аллы Константиновны бабка в Курской области.
– Ну и что?
– У них там сахарный завод, наверное, можно устроиться.
– У тебя какая специальность?
Ответила, но не сразу:
– Вообще-то поваром работала…
– А там кем рассчитываешь?
– Как получится.
– А чего ты зимой наденешь?
Поколебавшись, она сказала:
– У нас знакомый есть под Сухуми… у Аллы Константиновны. Свой дом, сад. Ну, и насчет работы может похлопотать.
– Он ей это обещал?
– Не обещал, но…
– Да, – сказал Батраков, – один план лучше другого… У самой-то родные есть?
И вновь пауза.
– Есть. Но можно считать, что нету.
– Ладно, – сказал Батраков, – прорвемся… Значит, так. Курская бабка, сухумский знакомый – это все одно воображение. Короче – оставайся со мной.
– А я не с тобой, что ли? – шевельнула она губами и опять пошел разговор кожи с кожей, сладкий полет двух вмятых друг в друга тел…
Батраков отрезвел и заметил, что начало светлеть. Часа четыре, наверное.
– Так остаешься? – проговорил он безразличию, как о деле решенном и потому маловажном.
Но полет уже кончился, они вернулись, лежали теперь порознь, и она поинтересовалась с легкой настороженностью:
– А зачем это тебе?
– Значит, надо. – Он хотел сказать, что жалеет ее и любит, но чувствительные слова с языка не шли, и он объяснил, как получилось: – Такой бабы, как ты, у меня никогда не было.
– А много у тебя их было?
– Все мои, – в тон подначке ответил он. Но, убоявшись, что разговор сползет в шутейную болтовню, уточнил серьезно: – С десяток было.
– Богатый, – незло усмехнулась она.
Вроде бы, и ее полагалось спросить про то же, но Батраков не стал. Не хотел ничего знать – не боялся, просто нужды не было. Если жизнь вдвоем получится, пускай начнется с нуля, с сегодняшнего дня.
– А хороших сколько? – это уже без усмешки.
– По-своему, все ничего, – сказал он, – но по-настоящему – одна.
– Где же она?
– Умерла. Замерзла. Там, в Читинской области, как раз когда я шоферил.
Марина приподнялась на локте:
– Это как же?
– Пила она. При мне держалась, не давал. А тут уехал на два дня, она и отвела душу. В своем дворе замерзла, десять шагов до двери. Приехал утром, а она…
– С чего пила-то?
– Не знаю. Она на восемь лет старше была, мне уже пьющей досталась… Ты-то не пьешь?
Она ответила шуткой, видно, уже привычной:
– Мы с Аллой Константиновной как солдаты – не напрашиваемся, но и не отказываемся.
– Теперь будешь отказываться, – не жестко, но твердо пообещал Батраков. И смягчил: – Ее потерял – тебя не потеряю.
Он понимал, что берет лишнее, что никаких прав на Марину у него пока что нет, может, никогда и не будет. Но об этой вещи хотел договориться сразу. Потому что самое жуткое, что он в своей жизни видел, было обнаженное стылое тело любимой женщины, никак не желающей оживать…
– Ты же меня не знаешь, – необидно укорила она.
– Что надо, знаю.
– Стасик, – сказала она. Вздохнула и повторила: – Стасик.
На сей раз это ему не понравилось.
– Батраков моя фамилия, шесть специальностей, четыре сотни в месяц. Понадобится, могу и больше.
– А зачем тебе столько?
– Чтобы жить.
– Со мной, что ли?
– Наконец-то догадалась.
Марина полезла ласкаться:
– Вот дурачок! Замуж, что ли, зовешь?
Батракову бабские фортели надоели, и он сказал:
– Значит, так, пойдешь или нет?
– Да, конечно, пойду, – отозвалась Марина, – думаешь, таких дурачков много? Да я за тобой куда хошь пойду. Только не выгоняй до марта, дай перезимовать.
– Перезимуешь, – пообещал Батраков и решил: – Завтра у меня тут дела, послезавтра тоже. А в пятницу поедем домой.
– Куда – домой?
– Где теперь твой дом?
– Где мужик.
– Наконец-то стала соображать, – похвалил он и улыбнулся, – давай и дальше так.
– У меня ж ни паспорта, ни трудовой…
– Это не проблема. И вообще запомни – больше у нас с тобой проблем нет.
Это он, конечно, погорячился – проблемы были, много проблем. В том числе и одна, им упущенная.
– А как же с Аллой Константиновной? – спросила Марина.
Он растерялся, но потом вспомнил:
– Так она же вроде к бабке собиралась.
– Она же со мной собиралась… Видишь, как некрасиво: гуляли вместе, а как мужик порядочный, так мне.
– Ну и она найдет. – предположил Батраков без большой уверенности.
– Где найдет! – отмахнулась Марина. – Стасики стаями не ходят.
Батраков развел руками:
– А чего же делать? Мусульманства у нас на любимой родине нет.
– Единственная моя настоящая подруга.
– Ну хочешь, я ей скажу?
– Не надо. Сама.
Она накинула ночнуху и пошла в соседнюю комнату. Не возвращалась долго, видно, проблема оказалась не из простых. Но Батраков о ней не думал, ему, как быстро выяснилось, и своих проблем хватало.
Самая первая – в пятницу предстояло везти Марину домой, а дома у Батракова, по сути, не было. Дом записан на мать, и хозяйка – мать. Конечно, и у него права есть, но не судиться же. Когда-то он мать очень любил, и отца любил, и дом, еще тот, старый, кособокий, но от этого тем более родной, с чуланом и низким чердаком, по которому можно было только ползать, даже ему, тогда семилетнему, негде было подняться в рост. Жили хорошо и весело, ходили с отцом по грибы, держали умную и хитрую дворнягу. Стасиком он никогда не был, а вот Славиком был – именно в те времена…
Потом отец уехал на полгода, с весны до зимы, вернулся гордый, с деньгами. Через неделю пришли плотники, двое, и вместе с отцом стали рядом с домом строить новый. Работали быстро, с каждым днем наращивая сруб. И мать помогала, и он, Славик, паклю подавал.
Тогда он не понял, почему все разом вдруг взорвалось и развалилось, потом уж объяснили добрые люди. А запомнилось – ночь, густой, злобный крик отца, звон, стук двери, странный, шепотом, вопль матери… Вроде утихло, и он уснул. Утром спросил, где мать. Отец сказал, что уехала в гости, а на сколько, будет видно.
Мать гостила долго, года четыре. Сперва изредка наведывалась, ловила у школы, целовала, кормила вкусным, но с собой не звала. Потом приехала толстая, сказала, что все лето будет занята. И больше не приезжала.
Дом отец все же достроил. Но жизнь не заладилась. Снова жениться он не хотел, а временные мачехи не задерживались. Когда Батракову было двенадцать, отец разбился – не удержал самосвал на скользкой февральской шоссейке.
Через неделю после похорон приехала мать. Соседки встретили ее жестко, бегали в собес, подучивали мальчишку, где и что говорить. Но оказалось, мать с отцом не разводилась, с новым своим жила без записи, так что домой вернулась вполне законно. Батраков, тогда уже не Славик, а Батрак, уперся, на вопросы важных теток из собеса не отвечал, бормотал, что ничего не знает: тетки были чужие, а мать своя. Он спросил ее, где новый ребенок. Ответила, не повезло, родила слабенького, так и не выходила, слава богу, сказала, ты есть, ласточка мой, Славик, сыночек. Он был рад, что мать вернулась, что соседки больше не будут хозяйничать в доме и жалеть.
Но вскоре оказалось, что пять лет слишком большой срок – оба отвыкли. Мать кормила куда вкусней, зато при отце была воля, а мать все допытывалась, куда, да с кем, да зачем, командовала, с кем дружить, с кем нет. Отец не ругал за рваное, вдвоем зашивали кое-как да еще смеялись. Мать же кричала, что она деньги не ворует и миллионов у нее нет, лезла драться. В отместку Батрак злобно ощетинился против первого же отчима. Мать пошла на принцип, но тут уже соседки горой встали за бедного сироту. Когда убегал в училище, была даже мстительная идея поджечь дом – слава богу, рука не поднялась. С годами и долгими отлучками все кое-как утряслось, но и по сию пору жили напряженно. И везти Марину к матери не хотелось. Однако иной возможности пока что не было…








