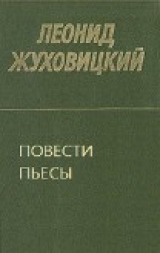
Текст книги "Повести. Пьесы (СИ)"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
– «Просто люблю» – это хорошо. Но давай все же попробуем логически. Примитивно. Я его не знаю, но уж ты, пожалуйста, разберись спокойно. Может, он действительно совершенство. Тогда что ж, не жалко и плюнуть на собственную судьбу, на будущее, на достоинство – просто за счастье бегать для него в магазин. Уж если это такой уникальный человек!
Марина посмотрела на него задумчиво.
– Он добрый, – начала она нерешительно.
Батышев поймал ее на интонации:
– А почему сомнение в голосе?
Марина вздохнула:
– Не хочется об этом думать, но иногда мне кажется, он просто ко всему безразличен. Никогда не выходит из себя. Возьмет газету – хоть дом гори, пока не кончит, не оторвется… Но с другой стороны, он ведь мне здорово помог?
Она словно спрашивала, и Батышев ответил тоже вопросом:
– Другие помогали меньше?
– Так не помог никто, – возразила она твердо. Но тут же скривилась и замотала головой, будто стряхивая дурман или сон: – Да нет, конечно! Чушь. Другие помогали в сто раз больше. Да и в тот раз он, по-моему, не столько хотел помочь, сколько боялся. Он вообще довольно труслив.
– А чем помог-то, если не секрет?
Она удивленно вскинула глаза:
– Я же вам рассказывала. Тогда, на даче. Мне это было вот так нужно!.. Но есть у меня подозрение, что он пошел в лес не поэтому, а… Ну, просто испугался, что я сделаю какую-нибудь глупость. А это ему, конечно, ни к чему.
– Из двух зол выбрал меньшее?
Марина усмехнулась:
– Да, пожалуй.
Но тут же оговорилась:
– Хотя настроение чувствует тонко. В этом ему не откажешь. Все чувствует!
– Ну и что? – неприязненно возразил Батышев. – Ну, чувствует настроение. Понимает людей и пользуется этим. Не такой уж большой плюс… А вся его, как ты выразилась, доброта… Да ему, если хочешь, быть добрым просто удобней. Во всех отношениях удобней. Вот ты говоришь, он трусоват…
Девушка попыталась вставить:
– Я имела в виду только…
Но Батышев остановил ее поднятием руки – он боялся потерять мысль:
– А ведь быть добрым совершенно безопасно. Если ты гладишь людей по голове, тебе никогда ничего не грозит. А вот за резкое слово, пусть тысячу раз справедливое, можно расплатиться весьма и весьма…
Чем дольше он говорил, тем неприятнее становился ему этот неглупый, осторожный, видимо, обаятельный и тем особенно опасный эгоист. Ну чего он губит девчонку? Зачем, без всякой к тому необходимости, просто так, автоматически, держит при себе? При желании мог бы оттолкнуть, а ведь не отталкивает!
Батышев вдруг заметил, что девушка слушает невнимательно, нетерпеливо подергивая губами. Может, и вообще не слушает, а только ловит паузу. И действительно, едва он остановился, она заговорила торопливо:
– Я не так объяснила. Вообще-то он не трус. Он раньше в другой конторе работал – знаете, почему ушел? Выживали его друга, так он единственный встал на защиту. И сам вынужден был уйти. В каких-то вещах он как раз смелый…
Батышев снова поднял ладонь.
– Постой! Ты же говоришь – друг. Но вступиться за друга – это еще не смелость. Скажи, мог он поступить иначе? Да его все знакомые считали бы подлецом! А потерять уважение к самому себе? Нет, это не смелость, это поступок вынужденный.
Марина довольно долго морщила брови.
– Скажите! А мне и в голову не приходило…
Она еще помолчала и озадаченно уставилась на Батышева:
– А почему вы так хорошо все понимаете?
Это было сказано без намека на лесть, с обычной ее прямотой. Батышев даже смутился немного:
– Ну, милая… Поживешь с мое – и ты будешь понимать. Всего-навсего опыт. Все мы люди. И ходим, в принципе, по одним и тем же лесенкам. Хочешь познать мир – познай самого себя. Так что никакой особой мудрости тут нет – возраст, личный опыт, и больше ничего.
Девушка спросила с сомнением:
– Значит, вы такой же, как он?
Батышев опешил. Этот вывод, и в голову ему не приходивший, железно вытекал из его собственных слов. Не зная, что ответить, он виновато развел руками:
– Наверное, в какой-то степени…
И вновь Марина огорошила его неожиданным поворотом мысли:
– Но ведь вы хороший человек. Значит, и он хороший. С недостатками, но ведь хороший. Разве не так?
Она ждала ответа, даже рот приоткрыла.
Но Батышев молчал. Он по-прежнему был уверен в своей правоте. И наверное, смог бы найти аргументы пожестче и посильней. Но к чему они, аргументы?
Вот ему этот незнакомый мужик заглазно неприятен, и Батышев вполне обоснованно вывел, что он трус и ничтожество. А девочка его любит, и по трезвым законам той же логики для нее он хороший человек. У Батышева логика неприязни, у нее логика памяти губ, кожи, коленок, дрожавших тогда на берегу, изворотливая и жадная логика измученного ожиданием тела…
– Жаль, – сказал Батышев и вздохнул, – жаль, что у тебя с ним все это было. – Он хотел выразиться проще и прямей, как говорит она, но губы сами преобразовали грубоватое слово во вполне пристойный эвфемизм. – Теперь тебе трудно будет от него освободиться.
Она не сразу поняла:
– А-а, вы об этом. Нет, это ерунда. Тогда, в лесу, мне с ним было никак. И еще комары кусались. Может, я вообще холодная, не знаю. Понимаете, для меня главным был сам факт, что вот это – он. Да и сейчас мне все равно, с кем он спит. Если бы только знать, что я ему хоть зачем-нибудь нужна…
– Ты меня извини, – сказал Батышев, – но я здорово устал. Давай-ка ложиться.
Разговор был бесполезен. Он словно крутился в воронке, и после любых виражей все равно сползал к горлышку, к начальной точке, к тому, что она его любит и не может без него.
– Я вас обидела чем-нибудь? – с тревогой спросила Марина. – Вы не сердитесь, я просто дура, не умею слушать, мне многие это говорят.
– Да нет, – поморщился Батышев, – при чем тут обида? Просто сейчас я ничем не могу тебе помочь. Завтра поговорим, еще будет время. Стели и ложись. А я отлично высплюсь в кресле.
Марина принялась стелить постель. Движения у нее были виноватые.
– Вот, – сказала она, – ложитесь.
– Ложись, ложись.
– Давайте без глупостей, – попросила она и зажгла маленький свет. – Я пойду на кухню, а когда ляжете, еще посижу с вами. Пока не уснете. Ладно?
Минут через десять, когда девушка пришла и села на пол возле кушетки, она была совсем другая – притихшая и присмиревшая. И Батышев отчетливо ощутил, что спор кончился: она пришла слушать и соглашаться.
Он погладил ее по голове и произнес устало:
– Тебе ведь ничего не надо объяснять, ты все прекрасно понимаешь. Даже бог с ним, с унижением. Но ты держишься с ним рядом на тонюсенькой паутинке – на прихоти его жены. Может, ей просто забавно смотреть, как неудачливая соперница вылизывает кафель у нее в туалете…
Батышев поймал себя на том, что вновь начал доказывать то, что в доказательствах не нуждается. Он вздохнул и просто сказал:
– Беги, пока можешь.
– Раньше хотела замуж, – проговорила она задумчиво и грустно, – хотела детей. Да и сейчас хочу – хоть завтра родила бы, даже институт бросила. Но ведь пока от него совсем не отвыкну, ну какая я буду жена?
– Несколько лет. Это быстро не проходит.
– Если бы ребенок от него… Но на это он никогда не пойдет…
– Тот парень в Москве тебя любит?
– Очень. Вот уж он-то точно добрый. Без всяких сомнений.
– Надо разорвать этот круг, – сказал Батышев.
Она кивнула:
– Все. Я уже решила. Сама хочу. Ведь это может десять лет тянуться. А рожать когда?.. Эх, хоть бы летали завтра!
– Вот и умница, – сказал Батышев.
– Можно поцеловать вас в щеку? – попросила она.
– По-моему, даже нужно.
Уже засыпая, он слышал, как девушка шуршит книгами…
Спал он недолго, часа два наверное, и проснулся от скрипа шагов. За окном было серо и мутно. Марина стояла у двери в свой куртке с «Шикотаном» и сумкой через плечо.
– Не хотела будить, – сказала она. – Я вам записку написала. Ключ суньте под половик. Там кофе отыскался, я на плите оставила… Вы спите, я будильник завела.
– Разве пора? – удивился Батышев, еще не выбравшийся из сна. – Нам же к восьми.
– Я не полечу. Сдам билет. А на Южный – в шесть двадцать.
Он потер веки, проснулся окончательно и молча посмотрел на нее.
– Да, – сказала она, – назад.
Лицо у нее вновь было независимое и замкнутое.
Батышев не возразил.
Тогда она напоследок проявила вежливость: объяснила тоном беззаботно-холодноватым, начисто исключавшим всякую возможность дискуссии:
– В конце концов, мне всего двадцать один. Не так уж страшно. Даже если еще три года потеряю – ну и что? Другие вон и в сорок рожают…
Собственно, на том история и кончилась. Больше Батышев ее не видел. И их сентиментальный уговор – раз в год встречаться на острове во имя спасения души – постигла участь большинства подобных соглашений. Марина ему так и не написала. А сам он хотел, но постеснялся – взрослый человек девчонке, да, в общем, и повода не было, кроме элементарного любопытства, как там у нее повернулось. По въевшейся привычке все додумывать до конца он потом долго ломал голову над этой странной личностью и странной судьбой. В мозгу крутились привычные формулы: упрямство, безволие, инфантильность – хочу, и подай! Но потом откуда-то сбоку вдруг выплыла мысль, почти нелепая, но любопытная и неожиданно стойкая: во всяком случае, опровергнуть ее Батышев не сумел, хотя и старался.
Мысль была вот какая. Как зерну для нормального развития нужно не только тепло, но и холод, так и человеческому существу, чтобы вырасти здоровым и жизнеспособным, необходим в молодости не только опыт радости, но и опыт страдания. Чаши этой никому не миновать. Разница лишь в том, что сильный выбирает себе страдание сам, а на слабого оно сваливается, как кирпич с балкона. Есть, конечно, хитрецы, которым удается вообще избежать всякой сильной душевной боли, но и они не становятся исключением из правила: вся их пресная, осторожная, мелкая жизнь оказывается страданием в рассрочку…
Батышев вспоминал, как в чужом городе, в чужой квартире он убеждал угрюмую девушку не плыть по течению, взывал к ее гордости и разуму. Но, может, на самом-то деле все происходило наоборот – он уговаривал ее малодушно оттянуть неизбежное? А она, молодец, не поддалась и все-таки пошла навстречу страданию, как смелый первоклашка в грозный день укола первым, не дожидаясь вызова, подставляет лопатку под шприц…
Сам Батышев тогда все же слетал в Москву. Кстати, авоська с рыбой действительно не понадобилась – он хоть и вручил кету, но уже после, когда все было решено. В результате, как он и предполагал, у него стало чуть больше денег и чуть меньше времени, чтобы их тратить, – лоскуток собственной, свободной, только ему принадлежащей жизни усох еще на четверть или на треть.
Словом, счастливей Батышев не стал. Но не стал и несчастней. Положение его на факультете упрочилось, за полтора года удалось организовать две довольно интересных конференции, и легче стало проталкивать в аспирантуру способных и симпатичных ребят. Вообще административная деятельность оказалась приятней, чем он ожидал. А когда дочка кончила десятый и сдавала на филфак, не пришлось даже никого просить – все решилось как бы само…
Нет, жалеть было не о чем.
Лишь иногда Батышеву становилось беспокойно, зябко, и он вздыхал, что в ту хабаровско-московскую неделю, не остановившись, пробежал последнюю крупную развилку на своем жизненном пути. Спокойнее было думать, что колея, на которую его вынесло, – лучше. Он так и думал.
Конечно, хотелось бы знать, что осталось там, за поворотом. И жаль было, что та, другая возможность потеряна, вероятно, навсегда. Но Батышев, как человек умный, утешал себя тем, что вся наша жизнь, увы, на три четверти состоит из потерь.
РЕБЕНОК К НОЯБРЮ
После того звонка Дарья три дня думала в одиночку – колебалась. Когда стало невмоготу, позвонила Надин – мол, есть разговор, надо посоветоваться.
– А где проблема? – удивилась Надин. – Заваливайся прямо сейчас. Мужик, вон, сохнет, весь у двери извертелся, а ее нет и нет. Другая бы на твоем месте бегом бежала.
Она говорила громко и с удовольствием, видно, муж сидел рядом.
– Потерпит, – ответила Дарья.
Это были их обычные шуточки.
В общем-то, все было ясно, большого выбора не предлагалось. Вот только решиться было не просто. Ведь это не шутки – всю жизнь менять.
До Гаврюшиных было неблизко, минут сорок и две пересадки. Но дорога накатана – уже лет семь, с тех пор как Надька с Ленькой получили свою двухкомнатную, Дарья ездила к ним каждую неделю, а то и два раза, а то и все три. Если же Леньку угоняли в командировку, то и вообще переселялась. В огромной Москве у Дарьи только и было две таких набитых дороги – на работу и к Гаврюшам. По сути, Надька с Ленькой были ее семьей, она и смотрела на них как на семью: на равных с Надькой готовила, прибиралась, стирала и штопала Ленькины носки, возилась с ребятенком – Кешка, ныне восьмилетний прохиндей, уже в раннем детстве ее раскусил и с тех пор любил, но снисходительно и небескорыстно, ездил на ней верхом и использовал ее как щит в своих осложнениях с матерью. Ближе Гаврюшиных у Дарьи на свете никого не было.
Открыла Надин, ногой придвинула тапочки. В маленькой комнате с перерывами взвывал телевизор – Ленька смотрел что-то спортивное. Кешки не слышалось, не дожидаясь вопроса, Надин сказала – у стариков. Старики были Ленькины, Надькины жили далеко, за Уралом.
Прошли в большую комнату, сели. Надин была в халате, из разбросанных по дивану подушечек слепила гнездышко– ловила кайф. Дарья села в свое кресло: оно когда-то и покупалось в расчете на нее, потому что раскладывалось на ночь.
– Ну, – сказала Надин, – чего там?
Дарья медлила, она вообще спешить не умела.
– Ну? Телись, телись.
– Верка звонила, – буркнула Дарья, кося в сторону, – Верка Лаптева. Помнишь?
– С телефонной станции, что ли?
– Спохватилась, – ворчливо осудила Дарья, – она уже сто лет как в райисполкоме.
– Так я ее и не видела сто лет. Ну?
– Вот тебе и «ну», – Дарья снова скосила глаза, словно дальше говорить предстояло о стыдном. – Выселять нас будут.
– Так, – сказала Надин, – любопытно. Действительно, новость. И куда?
– Откуда ж она знает? Она там мелкая сошка. Институт, тот, здоровый, что на углу, забирает дом. Ну, а нас…
– Новость, – повторила Надин и музыкально постучала пальцами по деревянной боковинке дивана.
– А я что говорю!
– Ну, и?
– «Ну, и», – осудила Дарья Надькину торопливость. – Вот и пришла посоветоваться.
– Да, тут, конечно… – начала было Надин, запнулась и крикнула – Эй, Леший!
Ленька за стенкой приглушил звук и что-то мыкнул в ответ.
– Давай, давай! – снова крикнула Надин и по-домашнему, без удовольствия, пожаловалась: – Вот черт Леший, совсем обленился.
Вошел Ленька в джинсах, распахнутой рубахе и носках – тапочки он не любил, а подметала Надин чисто.
Кличка появилась у него давно, еще когда они с Надькой женихались. Из Леньки стал Лешей, из Леши – Лешим… Тут справили свадьбу, нужда в новых ласкательных прозвищах отпала, и молодой муж так и остался Лешим.
– Ого, – восхитился Ленька, – какие люди к нам ходят!
Он приподнял Дарью с кресла, поцеловал и привычно облапал, в шутку, не ощутимо. Дарья равнодушно высвободилась, сняла его руки с груди: Ленька был почти все равно, что Надин, его прикосновения эмоций не вызывали.
– Обрадовался, – проворчала она, – братик Вася.
«Братик Вася» – это была еще одна его кличка. Лет пятнадцать назад, Дарья тогда еще жила в общежитии, Надин и Ленька провожали ее с вечерушки домой. Перед дверьми Ленька стал придуриваться, проситься ночевать. «Мне-то что, вахтерша не пустит», – отмахнулась Дарья. «А ты скажи, братик Вася из деревни приехал»… Так за ним и осталось – «братик Вася».
Вообще в их компании, теперь практически распавшейся, по именам не звали, каждому находили кликуху. Не специально, само получалось. И всем это нравилось: возникал как бы свой язык, ограждавший от посторонних, дававший хоть малое, но ощущение избранности…
Кстати, и Дарья по бумажкам значилась вовсе не Дарьей – в чумную минуту родители записали ее Джульеттой, с тем и жила на потеху сверстникам. Она уже и сама не помнила, как из ненавистной Джульетты переназвалась в Дарью. Зато уж это имя сидело на ней, как влитое. Приземистая, крепко сбитая, с крепкими икрами и сильными короткими руками, волосы цветом и качеством в паклю, сумрачное лицо с постоянной морщиной на лбу от тугой, медлительной мысли… Дарья! Дарья – и только так. Хотела даже паспорт переписать, но Надин отговорила – это ведь сколько документов менять, да еще объясняй всем и каждому…
– Леший, – сказала Надин, – ну-ка, напрягись. Дашкин дом расселять будут.
– Да? И как же… – машинально озаботился Ленька, душой еще не оторвавшийся от вопящего ящика. Потом до него дошло: – Так это же здорово. Квартиру дадут.
– Дадут, – огрызнулась Дарья, – догонят и еще дадут.
– Сунут в малосемейку к какой-нибудь бабуле, – хмуро поддержала Надин.
– Так сейчас же вроде нельзя? – удивился Ленька. – Вон в газетах…
Женщины посмотрели на него с сожалением. Он растерялся:
– Ну, а чего делать?
– Чего ж тут поделаешь, – за Дарью ответила Надин, – выбирать не из чего. Сама-то как?
Дарья снова отвела глаза:
– Да я чего? Тут и думать нечего. Если уж рожать, так теперь.
Тут врубился и Ленька:
– А чего – верно! Родишь – куда денутся. Вынь да положь.
– На мать-одиночек особый список, – проинформировала практичная Надин, – если мальчик, вообще двухкомнатную обязаны. Найдем пути.
Надин вообще была умна, в житейских сложностях ориентировалась быстро и вела дом, как опытный водитель, едва заметно пошевеливая руль. Но последнее слово всегда оставляла за мужем, чтобы чувствовал себя главой семьи. Вот и сейчас повернулась к нему:
– Ну что, мужик, как решишь: рожать или не рожать?
Ленька неуверенно посмотрел на жену:
– А чего бы и не родить? Ты как считаешь?
– Я что, – сказала Надин, – я девушка забитая, крепостная… В общем, подруга, мужик велел – значит, рожай и не сомневайся.
Дарья молчала.
– Еще проблемы? – насторожилась Надин.
– А ты думала!
– И чего еще?
– Ну, ты даешь, – с укором отозвалась Дарья. – Рожают-то от кого-то.
– Ну, на такое дело любителей…
– Я первый! – перебил Ленька и поднял руку.
– Вот видишь. А ты опасаешься…
Дарья переждала смешки, выждала паузу и только потом сказала то важное, ради чего, собственно, и пришла:
– Я ведь не замуж напрашиваюсь. Если замуж, тогда чего уж, тогда где берут, туда и беги. А уж ребенка – это извините…
– Ну и кто на примете? – осторожно поинтересовалась Надин.
– В том-то и дело, что пока не ясно.
Подруга задумалась.
– Это ты верно, ребенка от кого попало нельзя. И гены нужны приличные, и… Все-таки, нравиться должен мужик. Без охоты, вон, и блины подгорают. Ну, хоть какого типа – прикидывала?
– Ну… – замялась Дарья.
Ленька снова вклинился:
– Я не подойду?
Она слегка обиделась на его легкомыслие:
– Обойдемся. Нам дурак не нужен, нам умного надо.
– Ну, умный – ясно, – не отвлекаясь на мужа, подхватила Надин, – а еще?
– Не алкаш.
– Ясно. Дальше?
– Красавец, конечно, не обязательно, но…
– Чтоб смотрелся?
– Не урода же рожать, чтоб всю жизнь мучился.
– Возраст? – деловито продолжала Надин.
Дарья пожала плечами:
– Да это, в общем, без разницы. Хоть тридцать, хоть пятьдесят.
– А нация какая? – всунулся Ленька.
Дарья растерялась:
– Да, наверное, все равно. Европейская.
– Ну, а латыш, например?
– А Латвия тебе в Азии? – возразила Надин.
– А армянин?
– Да если хороший…
– Армяне умные, – поддержала Надин.
Дарья вспомнила рослого красивого таджика, с которым познакомилась когда-то в поезде, и уже решительно проговорила:
– Нация все равно какая.
– Ясно, – сказала Надин, – еще?
– Н-ну… Характер, конечно. Лучше бы добрый, по крайней мере, не эгоист. Характер-то передается. Вот у меня мать была упрямая – сами видите…
– Видим, – охотно согласился Леший.
Надин подытожила:
– Значит так: не дурак, не алкаш, не эгоист и смотрится. Еще?
– Хватит, – сказала Дарья, – такого не найти.
Внезапная Дарьина хмурость подействовала на подругу, она тоже потускнела и притихла. Ленька же наоборот решил поднять настроение и стал доказывать, что мужиков полно, проблем не будет, вот только Дарье надо выбрать с умом.
– Конкретная идея есть? – допытывался он.
Дарья уклонилась, сказала, там видно будет.
Разговор усох, Лешего опять потянуло к телевизору – приглушенный, но не выключенный, он так и бормотал за стеной.
– Сиди, – приказала Надин и тут же, умница, смягчила: – останемся тут, две дуры – на что годимся без мужика?
– Справитесь, – ободрил Леший, словно бы машинально продвигаясь к маленькой комнате. В дверях вдруг остановился и радостно заорал: – Тройню рожай! Тройню! Пятикомнатную дадут!
Оставалась еще сложность, которой пока что не касались. В конце концов, чтобы у подруги не было неясностей, Дарья заговорила сама:
– Насчет денег продумала. Восемьсот на книжке, еще подкоплю, пока время есть, на ремонте подхалтурю. А потом буду вязать. За вязку сейчас хорошо дают, у нас бухгалтерша вяжет.
– Ты разве вяжешь?
– За девять-то месяцев научусь! – уверенно возразила Дарья.
Надин помолчала, покивала и лишь потом негромко отозвалась:
– Ладно, это все дела переживаемые. В конце концов, у нас мужик есть. Лень!
Леший за стенкой вновь приглушил телевизор.
– Зашибешь лишнюю тридцатку для любимой женщины?
– Для Дашки, что ли?
– А у тебя что, еще любимые есть?
Ленька всунулся в дверь, постучал себя по груди и торжественно заявил, что, пока он жив, Дашка с голоду не помрет.
Когда ящик вновь заорал, сказала:
– Ничего. Надо будет, и полтинник подкинет. В чем, в чем, а в этом мужик. Добытчик.
Надин была прижимиста, каждой копейке знала нужное место – хозяйка! Все для дома, для семьи. Дарья чуть не разревелась от умиления. И раньше-то чувствовала себя у Гаврюшиных родней, а тут и вовсе… Надо же, какие люди! Да ближе и на свете никого нет. Вот скажи ей – умри за Надьку, или за Леньку, или за Кешку-прохиндея…
Кресло разбирать не стали, постелили на Кешкином диване. Уже в темноте долго, из комнаты в комнату, переговаривались. Ленька, дурачок, как всегда, хохмил, звал к себе, чтобы с левого бока не дуло. Дарья, как всегда, отвечала:
– Сейчас, только шнурки наглажу…
Ничего, поддержат. Есть друзья. Не пропадет.
Дарьину судьбу в основном определили две черты характера: упрямство и порядочность. Порядочность обрисовалась со временем, а вот упряма была с детства. Как упряма! Мать требовала, чтобы звала отчима папой, лупила по щекам, однажды в кровь разбила лицо – восьмилетняя Дарья, тогда еще Джульетта, стояла насмерть. Как-то крикнула матери: «Ты предатель!» Результатом была высылка к вдовой тетке в подмосковный промышленный городок, дымный, но перспективный, вскоре вошедший в пределы столицы. С теткой, слабовольной и больной, Дарья ужилась на диво мирно: тетка приказывать не умела, только просила, добром же из Дарьи можно было веревки вить.
Впоследствии упрямство стоило Дарье среднего технического образования: на втором курсе техникума, где училась вместе с Надин, вступила в конфликт с глупой и хамоватой завучихой. Извинилась бы, и все – но Дарья, уверенная в своей правоте, уперлась рогом, в результате чего стала ученицей штукатура-маляра на строительстве овощехранилища. Да и потом сменила чуть не десяток работ – из-за расхождений с начальством во взглядах на справедливость. Последние шесть лет стояла у станка в шлифовальном цехе. Заводик был плохонький, но иногда доходило и до двухсот. Хватало.
Нынешней коммуналкой она тоже была обязана характеру. Тетка умерла от почек (Дарья ходила за ней до последнего), оставив квартиру Дарье и Ленуське, младшей сестре, которую успела прописать за месяц до последней больницы. Ленуська вышла замуж, родила, мужа довольно быстро разлюбила, но разводиться не стала, а начала долгую и сладостную окопную войну, в которой была любительница и мастерица. Муж был добр и простоват. Дарья, постоянно привлекаемая в третейские судьи, встала на его сторону. Сестра злобилась, с глазу на глаз устраивала скандалы, надрывно вопрошала, кто Дарье родная кровь – она или этот. И опять Дарья упиралась – мол, он же прав. «Да какая тебе разница?!» – бесновалась Ленуська. Кончилось разменом, воюющие супруги отправились в двухкомнатную малометражку, а Дарью с ее справедливостью спихнули в коммуналку: три одиноких бабки, длинный захламленный коридор, кухня с запахом вокзала, ванна в ржавых царапинах и один на всех допотопный железный телефон.
Ну и плевать. Жить можно. Делов-то!
Замужем Дарья никогда не была. Романы время от времени возникали, девушка была влюбчива, но кончались, как правило, одинаково: тут уж срабатывала Дарьина порядочность, неизменная и в двадцать лет, и в тридцать, и в нынешние тридцать восемь. После первого же горизонтального свидания она смотрела на нового мужика как на единственного и последнего, иначе просто не могла. Правда, его верности не требовала, на это ума хватало, но о своей объявляла истово, будто клялась. На благодушных современных мужчин, выросших в традициях постельной демократии, это производило впечатление шоковое: они просто не могли понять, почему акция… не более значительная, чем партия в шашки, воспринимается столь торжественно. И – что за этим кроется – сдвиг по фазе или коварный расчет? В любом случае требовалось бежать. Они и сбегали. А Дарья вновь терпеливо ждала человека, которому понадобится ее пожизненная преданность.
Впрочем, в последние годы с ней что-то произошло – перестала ждать. Видно, не судьба. Что ж, и холостячки живут, не всем же замуж, тем более с ее характером. Дарья стала подумывать о ребенке. Не конкретно, а так, вообще.
Теперь же расплывчатая идея впрямую приложилась к ситуации.
Дарья так и видела свою будущую жизнь: маленькая уютная квартирка, кухня с набором красных рижских кастрюль, чешское кресло-качалка. Занавески зелененькие, обои в тон, понадобится, сама переклеит. И – мальчишка, упрямец, нахал, бандит вроде Кешки, может, даже еще нахальнее. Уж он ей даст жизни! Ничего, справится. В бассейн его станет водить. Купит ему сапожки резиновые, за грибами поедут в Петушки…
Дарьину идею звали Павлом, мужик был хоть куда. Лет восемь назад, у Дарьи возник с ним бурный роман, мгновенно закрутившийся и мгновенно оборвавшийся. Павел был наладчик, но особенный, его даже за границу посылали – хотя тут, может, и врал. Веселый, бесшабашный, щедрый, он и внешне бросался в глаза: поджарый, узколицый, с искрящейся породистой сединой. За аристократичность рожи Дарья про себя окрестила его «Граф», и в разговорах с Надин он тоже проходил под этой кличкой.
Встретились они на многолюдной праздничной вечеринке, и Дарья втюрилась сразу и так откровенно, что он выделил ее из толпы прочих баб, загипнотизированных его болтовней, и, даже не дождавшись, пока опустеют бутылки, на такси уволок к себе.
Сколько же ему тогда было? Да под сорок, наверное.
Квартира у Графа была новая, маленькая, почти пустая, но с холодильником и широченной лежанкой, которую он называл «сексодром». На стене висела красивая теннисная ракетка с иностранными буквами. В прихожей Дарья разулась, стала искать тапочки – но тут налетел Граф, схватил, понес, швырнул на мягкое – и она пришла в себя лишь тогда, когда в ответ на ее лепет о вечной любви мужик зарокотал изумленно: «Да ты что, мать? Тебе хорошо? Ну и мне нормально. Чего еще надо?»
Дарье хватило бы и ее собственной вечной любви. Но где-то на третью встречу Павел попросил в следующий раз прийти с подругой. «Зачем?», – удивилась Дарья. «А для компании. Чтоб веселее». Она не поняла, а когда дошло, надулась и ушла. Он вслед ласково назвал дурой, но не удерживал.
Потом Дарья долго жалела, что так все оборвалось. Надо было похитрить, потянуть. Ну гад, конечно, – так ведь все они гады. Зато нравился как – сил нет! Месяца через два случайно пересеклись, поговорили даже, можно было что-то наладить – но Дарьино упрямство раньше нее родилось…
Теперь, однако, в первую очередь вспомнилось именно о нем. Ясное дело, прохвост тот еще, подругу ему подавай. Для жизни такой мужик – подумать страшно. Но для генов… для генов, пожалуй, в самый раз.
Два дня понадобилось, чтобы узнать его телефон. Номер Дарья набирала без трепета, ведь звонила она в какой-то мере по делу и в какой-то мере не только своему: ребенок, хоть и существовал только в замысле, тоже имел некие права.
Граф вспомнил после большой паузы и наводящих вопросов, но вспомнив, пожалуй, даже обрадовался – может, потому, что вечер впереди маячил пустой, а тут что-то засветилось. После разных «ну, что?», «ну, как?» он все же поинтересовался, с чего это она вдруг надумала. Дарья уклончиво ответила, что есть разговор.
– Ну не по телефону же! – вальяжно возмутился Граф. – Ты же знаешь, я не телефонный человек.
– А тогда чего не зовешь? – в лоб спросила Дарья.
Граф несколько растерялся:
– То есть как это не зову? Вот именно что зову. Бери тачку и приезжай.
В другой раз Дарья обошлась бы автобусом, но тут, ввиду важности предприятия, взяла такси. На всякий случай прихватила все ночное и утреннее, вплоть до зубной щетки: в прежние времена Граф такие дела не откладывал. Как пойдет разговор, Дарью не тревожило, как-нибудь да пойдет. В конце концов, не клянчить едет, скорей уж одарить: пусть ценит, что обратилась к нему, могла бы и другого выбрать.
Граф ее ждал, открыл сразу. В темноватой прихожей он выглядел, как прежде, но в комнате, при свете, стало заметно, что прошедшие годы проехались по нему основательно: лоб в морщинах, верхние зубы сжеваны и корявы, на затылке лысина с детскую ладонь. Лысина Дарье особенно не понравилась, но виду не подала: бог с ней, для дела какая разница, дети-то лысыми не растут.
Судя по всему, за прошедшие годы Пашка не только красивее, но и богаче не стал. Правда, мебелишки чуть прибавилось, но лежанка стояла все та же, под обшарпанным пледом она была вся в рытвинах, как заезженная проселочная дорога, – поработали подруги! Ракетки на стене уже не было, в углу у окна валялись три пары стоптанных кроссовок. Почему здесь, а не в прихожей, Дарья допытываться не стала: у такого прохвоста все не как у людей.
Граф даже не слишком ее разглядывал, сразу полез. Она отстранилась:
– Погоди, отдышаться дай.
Ясно было, что все может выйти само собой, никакие разговоры не понадобятся. Но так Дарье не хотелось. Прохвост не прохвост, а должен понять значительность момента, не в любовники его вербуют – в отцы.
– Все холостой? – спросила она с некоторым осуждением.
Он махнул рукой:
– Провел два эксперимента – не по мне!
– Детей, небось, наплодил, – начала Дарья, надеясь, что на этой теме беседа задержится и сама собой выведет на предстоящее событие. Но Граф только хмыкнул и потащил ее на кухню, где расторопно вытащил из холодильника колбасу, огурцы и запотевшую бутылку.








