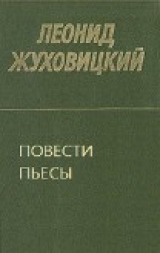
Текст книги "Повести. Пьесы (СИ)"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Идея с переводом Алевтине понравилась, она повеселела, на бумаге сложила написанное и получила ту цифру, на которой с самого начала строила расчеты на кооператив. Но теперь оказалось, что это кошкины слезы. Тристо. Три уйдут в лапу, сотня остается на взнос. Вот так. Не богато, Алевтина Сергеевна…
Были и еще кое-какие возможности. Австрийские сапоги, правый чуть жмет, достала по огромному блату, так и лежат в коробке. Давно просили уступить, а она колебалась, отдать или разнашивать. Теперь придется отдать. Фирма, натуральный мех. Двести пятьдесят, не меньше.
Теперь пиджак. Кожаный женский пиджак с плечами, тонкая выделка, породистая вещь, униформа преуспевающей актрисы, женщины, не думающей о деньгах. Два года назад привезла из Венгрии, к сожалению, иногда надевала. Жалко до слез. Четыреста.
Сколько остается? Три четыреста пятьдесят. С учетом неожиданностей – Зинка не отдаст вовремя, за пиджак дадут меньше – три пятьсот.
Ну, наскребет по знакомым сотни четыре со скорой отдачей – и что это даст? Ничего. Ничего, кроме головной боли.
Мать трясти? Нет уж, только не это, у бабули если и отложено, так на похороны.
Зарплата? Тут не сэкономишь, десятка-другая не в счет. Илюшкина идея? Две сотни в месяц деньги немалые, но, во-первых, это вилами по воде, а во-вторых, вносить надо сразу после утверждения, год в кооперативе ждать не станут, возьмут другого, и все. На такую-то квартиру столько набежит!
Да, все было плохо, очень плохо.
Но не безнадежно.
Скажем, так: не совсем безнадежно. Ибо даже тогда, в кафе, в разговоре с Илюшкой, в минуту крайней растерянности, когда руки упали и голос дрожал, в мозгу у Алевтины все же брезжили два пятнышка, два чуть слышных звоночка, два источника, которые в расчет никогда не шли, но все же молчаливо существовали где-то на периферии ее жизни, даже не на крайний случай, а на тот, что выходит за край. Самый что ни на есть неразменный рубль, шанс, который не используешь дважды.
Однако важней квартиры у Алевтины сегодня ничего не было и в обозримом будущем не предвиделось.
Тогда она и кинулась разыскивать телефон Мигунова.
* * *
С Мигуновым была связана самая солнечная минута ее жизни.
Сколько же ей тогда было? Приятно вспомнить – двадцать пять. Вот везучее было время! Двухлетнюю Варьку скинула матери и работала, работала, нагоняла месяцы, ушедшие на ребенка. Ей дали первую в жизни выигрышую роль – характерную партию в современном балете как раз по пьесе Мигунова. Главную роль по инерции вручили приме – социальная героиня, передовая женщина, ангел с принципами, скука смертная. Алевтине досталась ее антиподка, юная стервочка, охотница на чужих мужей, моральная разложенка, при случае способная даже на такую гнусность, как переспать с мужиком. Главный балетмейстер, талантливый человек, циник и не дурак, сразу понял расклад. Обезопасившись от всех напастей бесчисленными регалиями ведущей балерины, он навалился на Алевтину. Как он ее мучил! Как унижал! Но работа того стоила: проводив вежливыми аплодисментами голубую героиню, зал стонал от восторга, когда Алевтинина чертовка начинала со вкусом демонстрировать свою нахальную безнравственность. Никогда больше ей не кидали столько цветов. Никогда больше некрасивые девочки так верно не ждали у выхода…
На один из спектаклей пришел драматург. И хоть к балету он имел отношение весьма косвенное, за кулисами возник легкий мандраж: Мигунов был известен взрывным темпераментом и странностью манер. Но все вышло в лучшем виде: он пришел в восторг он Алевтины, кинулся на кулисы и, хватая ее за плечи, кричал, что она талантище, «звезда», что завтра билеты у спекулянтов будут по червонцу, что ни у нас, ни в Европе сейчас наверняка ничего подобного нет. Подошедший постановщик от смущения усомнился насчет Европы – Мигунов заорал на него, что тот поставил гениальную вещь, но сам ни хрена в ней не понял. Мэтр, сам привыкший орать, слегка опешил, но против того, что поставил гениальную вещь, протестовать не стал.
Мигунов на своей машине довез Алевтину до дому, всю дорогу говорил не переставая, у подъезда стал целовать ей руки и с воплем «Нет, не могу так отпустить!» – колени. Ей было приятно, страшновато и совершенно не понятно, как реагировать. К счастью, было уже поздно и темно.
Мигунов принялся ходить на все ее спектакли и вообще стал так называемым «другом театра»: носил цветы, притаскивал за кулисы водку и шампанское, пригонял критиков, которые, ошеломленные его натиском, писали хвалебные рецензии – словом, сделался человеком полезным и дирекции, и труппе. Если бы Алевтина не стала его любовницей, она бы выглядела не только неблагодарной хамкой, но и предательницей интересов родного коллектива.
Впрочем, это все равно бы произошло. Как-то впоследствии Мигунов сказал ей с удивлением, что, кажется, женщины никогда ему не отказывали – с чего бы это? А она, за что-то обиженная, отрезала, что ничего странного тут не видит: просто его монологи так непрерывны, что бабе просто некуда вставить слово «нет».
Он был типичный деспот. После репетиций она мчалась к нему, а он работал и велел молчать, пока не кончит сцену, или, наоборот, запихивал в машину и весь день таскал за собой, то в издательство, то в ресторан, то к кому-то за город. Иногда приходилось по часу ждать его в машине. Как-то решила надуться, но он просто не заметил ее оттопыренных губ.
Так длилось месяца два, а потом быстро пошло на убыль, потому что Мигунов увлекся студенткой-латиноамериканкой, написавшей ему письмо с просьбой объяснить смысл жизни. Студентка была юна, черноволоса и плохо говорила по-русски, в силу чего оказалась идеальной слушательницей. Мигунов изумленно объяснял Алевтине:
– Шоколадная! Представляешь – с ног до головы шоколадная!
Тем не менее отношения у них сохранились вполне дружеские, еще несколько лет они сталкивались в разных компаниях, он отвозил ее домой или к себе, попить чаю и поговорить о жизни. Если же вдруг возникало желание, он брал Алевтину так же естественно и почти машинально, как брал с тарелки бутерброд.
И как прежде случайно сталкивались, так теперь случайно не виделись лет двенадцать, а то и больше.
Алевтина сбегала на рынок за мясом и зеленью. Знаменитый драматург мог есть что угодно, но от вкусного размякал и добрел.
Он опоздал минут на сорок, прямо в дверях взял ее за затылок, повернул лицом к свету, внимательно посмотрел и поставил диагноз:
– Молодец. Держишься. Лучше, чем я.
Только потом поцеловались.
Он тоже держался неплохо: седой, высокий, худощавый, грубоватое, типично мужское лицо. Но был хмур и матерился чаще, чем прежде.
Сколько же ему? Пятьдесят семь? Пятьдесят восемь? День его рождения Алевтина помнила до сих пор, а вот возраст забыла.
Прошли на кухню. Алевтина занялась мясом, а он сидел в кресле и жаловался на жизнь.
– Сил нет, – говорил он, – обрыдло. Перестройка – прекрасная вещь, я всю жизнь на нее работал, но в этом – вот в том, что сейчас, – участвовать не могу. Не хочу! Ты видишь, что творится? Холуи, лизоблюды, мразь, проститутки – и вот теперь они вспоминают, как страдали при застое. А стукачи – эти все сплошь патриоты, радетели за державу…
У Алевтины давно стояла начатая бутылка «Кубанской». Утром, сразу после звонка, она перелила водку в маленький, грамм на триста, графинчик, мелко накрошила лимонной цедры, разболтала – авось за полдня настоится. Настоялось вполне. Получилось нечто домашнее, уютное, припрятанное для избранного гостя – по нашим временам, напиток богов. Они чокнулись, выпили за все хорошее, похрустели солеными огурчиками. Мясо получилось здорово, по мясу Алевтина была специалист. Но Мигунов все не мог вылезти из своей угрюмости, все хаял бестолковую эпоху, дебильных либералов, которые надеются, что Запад за хорошее поведение подбросит нам колбасы, и вонючих патриотов, которые брызжут слюной про исконные традиции, а самим только и нужен жирный оклад да казенная дача. Себя тоже ругал – за лень и безволие.
При таком настроении подступиться к нему со своими делами было невозможно.
– Ну чего ты, – мягко возразила Алевтина, – ведь сейчас, по сути, твое время. Сколько тебя раньше зажимали? А теперь…
– Ну что, что теперь?
– В двух театрах идешь.
Он посмотрел на нее, в глазах была мука.
– За полгода я не написал ни строчки. Вообще ничего. Заседаю, по ящику треплюсь, интервью всякие. Но – ни единой строчки!
– А помнишь, когда мы познакомились, – сказала она, – ты как раз новую пьесу писал, через год она в шести странах пошла…
– Ну и что? – хмуро прервал он.
– А что говорил тогда, помнишь?
– А что я говорил?
– Да то же самое. Что не пишется, что бездарен, что пора профессию менять…
Брови его полезли вверх.
– Я так говорил?
– Ну конечно! Это твое обычное настроение. Пойми – обычное. Наверное, ты так себя готовишь к работе. У нас ведь каждый по-своему с ума сходит. Помнишь нашу приму? Народная, вся в медяшках. Так вот она, если не получалось, по щекам себя лупила и кофе лишала.
Мигунов с сомнением наморщился:
– Ты думаешь?
– А ты вспомни, – сказала она, – вспомни. Было такое время, чтобы ты себя хвалил?
Он задумчиво выпятил нижнюю губу:
– Черт его знает… Может, ты и права – просто период такой?
– Да, конечно! – подхватила Алевтина.
То ли от ее уверенного тона, то ли от водочки под мясо Мигунов немного успокоился. Алевтина стала мыть посуду, он ушел в комнату. Войдя, Алевтина увидела, что он лежит на кровати скинув ботинки и заложив руки за голову.
– Устал, – объяснил он, – даже не устал, а так, завертелся. Какое-то беличье колесо. Надо иногда выпадать. Вот сейчас выпал, и вроде ничего. Живу. Даже на человека похож… Такая, понимаешь, свистопляска – даже задуматься некогда.
– Может, поспать хочешь? – предложила она. – Давай постелю, ложись. Варька раньше двенадцати не придет.
– Поспать, может, не поспать, а просто… Она быстро разобрала постель, он скинул брюки и, не снимая рубашки, лег под одеяло, в той же позе, руки за головой. Потом сказал:
– Ложись рядом. Просто полежим, поговорим.
Алевтина забежала в ванную, сбросила тряпки и надела «парадную» комбинашку, слегка удивляясь собственной исполнительности. Словно и годы не прошли – он приказывал, она выполняла. Вовсе не потому, что от него сейчас так много зависело, – нет. Просто он был талантливый, сильный, состоявшийся мужик и его хозяйские интонации она воспринимала естественно, как когда-то в училище требования педагога, а в театре команды режиссера или балетмейстера.
– Просто полежим, – предупредил Мигунов, когда она подошла, но при этом махнул ладонью снизу вверх, и комбинашка, покорясь указанию, полетела в кресло. Зачем раздеваться, чтобы просто полежать, было не ясно, но спрашивать Алевтина не стала: он так хочет. Хозяин чертов!
Он подвинулся и вытянул руку, подставив ей под голову плечо. После чего стал размышлять вслух задумчиво и неторопливо, словно только что к нему в постель не забралась голая баба:
– Вот ты говоришь – мое время. К сожалению, уже не мое. Ты знаешь, я не дурак, не трус, когда надо, умею драться. Раньше меня давили сверху, зато я точно знал, что делать: я лупил кулаками в этот проклятый потолок. А теперь потолка нет. Всю жизнь мечтал его пробить – а без него, оказывается, труднее… Вот почему я не пишу, знаешь?
– Нет, – поощрила она.
– Я ведь писал, начал пьесу. И неплохо начал. Сюжет, характеры – все на месте, материала навалом. Ты ведь знаешь, у меня отец прошел лагеря. Вот я пытался осмыслить эпоху, Сталина. А в это время какой-то мальчишка, сопляк, написал про него водевиль, да еще в стихах. И все, закрыл тему. Я пошел посмотрел. Хохочет народ! Пьеса как пьеса, до меня ему еще тянуться и тянуться. А вот время сейчас – его. Что толку осмыслять то, что уже оборжали?
– Но ведь…
– Да знаю, – оборвал он. – Все знаю. Я умней, я глубже, я талантливей. Ну и что? Ощущение такое, что все, что я напишу, сейчас просто никому не нужно. Здорово напишу – а все равно будет не нужно. Да и сам я… Живу. А вот зачем живу – понятия не имею.
Он замолчал, и она осторожно спросила:
– Дома как?
Когда они в последний раз виделись, у него вызревал то ли скандал, то ли развод.
– Да нормально, – отмахнулся Мигунов, – жена, дочка, внуков двое, даже зять и то есть – по нынешним временам просто редкость.
– А говоришь, никому не нужен, – шутливо укорила она.
Он проговорил недобро:
– Знаешь, когда я по молодости лет еще в бараке кантовался, у нас за стенкой семья жила: баба, детей трое и старик больной. Нищета барачная! Так вот, когда старик умер, они больше суток не заявляли, чтобы успеть на него за месяц пенсию получить. Веток еловых набросали и терпели. Мне иногда кажется, что и мои меня вот так же терпят – чтобы пенсия шла.
– Не нравится мне твое настроение, – сказала Алевтина. Она так вникла в его заботы, что забыла про свои.
– А что делать? – тяжело вздохнул Мигунов.
Она чуть подумала.
– Что делать?.. Ха – ясно, что делать. Тебе, милый, нужно влюбиться, вот что. В кого-нибудь помоложе и пошоколадней.
– Мне, может, и нужно, – угрюмо возразил он, – да я кому нужен.
Алевтина почти искренне возмутилась:
– Ну, милый, ты нахал. Знаменитость, удачник, красавец – какого черта тебе еще надо?
– Мне пятьдесят восемь.
– Ну и что? Для мужика это не возраст, а для тебя тем более.
– Ты просто хорошо ко мне относишься, – помягче сказал он, и рука благодарно прошлась по ее груди.
Этот жест Алевтина не переоценила: обычная мужская автоматика, будь рядом другая грудь, так же протянул бы лапу. Зато у нее появился некоторый азарт: неужели такого оголтелого бабника не заставит на себя среагировать? Она придвинулась к нему осторожно, словно бы вовсе и не придвигалась.
В конце концов, Мигунов вспомнил, что она не только друг и советчик. Тут уж Алевтина показала все, что могла. Он по-прежнему был эгоцентрик, она получила гораздо меньше, чем дала ему. Зато осталось чувство удовлетворения от классно выполненной женской работы…
– Слушай, почему мы редко видимся? – удивился он, вновь обретя способность мыслить логично.
– Ты меня спрашиваешь?
Он помолчал и, не повернув головы, деловито поинтересовался:
– Ну давай. Что там у тебя?
– В каком смысле?
– Ну, не так же просто звонила.
– У меня, милый, сложно, – ответила Алевтина и в общих чертах рассказала про кооператив.
– Ну и чего надо?
– Если бы ты мог дать мне в долг хотя бы на год… То есть не хотя бы, а точно на год. Конечно, все оформим нотариально…
– Сколько не хватает? – спросил Мигунов.
– Две восемьсот. – Она хотела сказать «три», но почему-то не решилась назвать круглую цифру.
Он молчал так долго, что ее затошнило от страха. Неужели все, провал?
– Значит, так, – сказал он, – в долг я не беру и не даю, тем более под нотариуса. Сколько у тебя там – две восемьсот?
Она хотела повторить цифру, но сумела только кивнуть.
– Давай так: половина моя. Тебе срочно?
– Н-ну…
– Тогда одевайся, я вечером в Питер еду.
Шаг у него был по-прежнему быстрый, он почти швырнул ее в машину. У подъезда нового кирпичного дома с крупными окнами и широкими лоджиями ждать пришлось минут пять, не больше. Он вышел, достал пачку сторублевок и стал считать, отдавая ей по одной. Бумажек оказалось пятнадцать. Он удивился:
– Хреновый я математик. Значит, твоя удача. И последнюю бумажку тоже отдал ей.
Мигунов подбросил ее до метро. Алевтина, слегка раскисшая от нежности, забормотала:
– Милый, спасибо огромное, но я действительно могу отдать…
Он ухмыльнулся и дал ей шлепка:
– Отработаешь!
Она ушла с чувством надежды и легкости, причем не только из-за денег: в темном коридоре будущего замаячил свет. Мужик, настоящий мужик. Не разовый дурной любовник, от которого ощущение одиночества только прибывает, а близкий человек, оазис для души на пустынной дороге в старость. Теперь будут видеться, не часто, но будут. Раз в месяц, в два, когда его прихватит депрессия. И самой можно будет позвонить в крайний момент, как сегодня.
Будут видеться, будут. Надо же отрабатывать долг…
* * *
А на следующий день позвонил Илья.
– Ну как, мать, решила, нет?
– Ты же сказал, через неделю, – удивилась она.
– Да понимаешь, тут кое-что изменилось, собрание перенесли, а один мужик, в отпуск уходит. Так что, если отложить, стыковка не получается. В общем, подумай до завтра, но уж завтра…
– Ну хорошо, – с удовольствием, невозмутимым тоном ответила Алевтина, – чего тут решать-то? Просто скажи – где и когда.
На следующий день она съездила к нему и в пятиметровой кухоньке (в тесной квартирке безлюдней места не оказалось) отдала деньги. Он стал считать.
И тут она вдруг засомневалась:
– Слушай, Илюш, но это надежно?
– Что? – спросил он, мусоля толстенькую пачку пятерок.
– Вот все это.
Он поднял глаза почти испуганно:
– Да ты что, мать?
Схватил ручку и на тетрадном листке, другого в кухне не оказалось, написал расписку, что такой-то у такой-то взял в долг на полгода.
– Получишь паевую книжку – порвешь.
Алевтина застыдилась:
– Илюш, ты не так понял. Что я, тебе, что ли, не верю? Я просто думала… Тут такая цепочка, столько людей. Вот я и спросила – надежные или нет.
Он вновь поднял свое унылое лицо:
– Надежные, не надежные – а сидеть никому неохота.
Этот житейский довод Алевтину успокоил вполне. Верно же – круговая порука. Сидеть неохота никому.
Они опять поговорили о вечерней программе в кафе, и Алевтина сказала, что придет обязательно, ей сейчас халтура позарез. Вот только в ближайшие дни она занята, а к концу недели позвонит.
Ничем особым занята она не была. Просто хотелось спокойно, без спешки продумать номер. Припомнить, где что видела, и скомбинировать свое. Найти образ, композицию, костюм. С пустыми руками нельзя идти даже на предварительные переговоры. Нужен номер. И – настоящий, качественный. Это студентке позволят кое-как вертеть молоденькой задницей, а в ее возрасте даже на халтурке халтурить нельзя. Уровень, только уровень…
Два дня подряд Алевтина была занята в спектаклях, причем второй – на выезде, черт-те где, на клубной площадке, два часа автобусом в один конец. Клуб был большой, с колоннами, нестарый и на редкость неудобный: сцена мелкая, свет плохой, уборная из-за ремонта одна на всех. У Алевтины был выход во втором акте: героиня в зимнем парке мечтала о любви, и Алевтина, по режиссерскому замыслу, должна была в прозрачной тунике эту мечту танцевать.
Пьеса была глупая, но давала кассу. Впрочем, Алевтину ее эпизод вполне устраивал: во-первых, разрешалось делать что угодно, полная импровизация, во-вторых, весь выход занимал пять минут, можно было как бы между делом заскочить в театр, изобразить пылкую страсть и бежать дальше по своим делам. Но это в городе. А здесь? Приходилось чуть не весь день убивать на пятиминутный, в сущности, никому не нужный эпизод. К тому же в клубе, опять же из-за ремонта, было отключено отопление, на сцене еще и дуло, и если героиня грезила о любви в тулупчике, то Алевтине приходилось мечтать почти голяком. Одеться же было нельзя, режиссер всю сцену поставил как раз из-за этого контраста: закутанная в теплое героиня и ее легкая, воздушная, обнаженная мечта. Однажды вот так же на выезде Алевтина простудилась, и после несколько раз пробовала уговорить режиссера вывозить спектакль без танца. Но ничего не получалось, потому что он тут же принимался кричать, что она любит не искусство, а себя в искусстве, и прочую цитатную чушь.
Сегодня к тому же пришлось переодеваться при мужиках. Впрочем, это неудобство едва замечалось: они для нее были такие же мужики, как она для них баба, общее ремесло делало их друг для друга почти бесполыми. Но само убожество обстановки, тряская дорога и полупустой зал почему-то именно в этот раз показались ей особенно унизительными.
Уж лучше в кабаке выплясывать. По крайней мере не дует и платят по-человечески.
На холодной сцене Алевтина дала себе волю, и мечта героини в этот раз довольно сильно отдавала кафешантаном.
Теперь пожара с деньгами не было, впереди лежали два спокойных месяца. Тем не менее, Алевтина решила не ждать последнего момента, а все сделать заранее, без спешки, чтобы уж зато потом не трепать себе нервы. Тем более, что некоторые операции требовали времени.
Для начала она решила все заново посчитать. Необходимости в этом, разумеется, не было, и так все помнила до рубля, но с ручкой в руке легче думалось, и столбики цифр на бумаге вселяли уверенность и оптимизм.
Алевтина достала свой прежний листок, аккуратно, ничего не сокращая, проделала все расчеты и получила результат, какой и ждала. Требуется четыре двести. Есть: на книжке тысяча сто, в сумочке триста, дура Зинка – сто семьдесят, сапоги – двести пятьдесят, пиджак четыреста. Не хватает тысяча девятьсот восемьдесят, даже чуть больше, потому что пиджак пойдет через комиссионку, а там берут процент. Сотня туда-сюда, словом, нужны две тысячи.
Две тысячи – это была ее годовая зарплата. Но Алевтину цифра не испугала. Наоборот, она была настроена деловито, хотя и немного печально, даже торжественно. Потому что теперь должен был лечь на стол ее второй, и последний, неразменный рубль.
У Алевтины была одна по-настоящему дорогая вещь: бабушкино кольцо с изумрудом. Действительно бабушкино – бабка по отцу, не слишком ладившая с матерью, даже на тридцатилетие внучки не пришла, зато зазвала к себе и сама надела на палец кольцо, которое Алевтина у нее всего раза три видела и только по большим торжествам. «Хотела завещать – сказала бабка, – да уж ладно. А то залезет какая-нибудь жулябия – народ-то сейчас, сама знаешь». Мать, увидев подарок, произнесла странные слова: «Дорогая вещь. Ты не носи, спрячь. Авось, когда и спасет». Тогда Алевтина посмеялась, но как-то само получилось, что кольцо, по стопам бабки, надевала только на торжества, и малознакомым людям старалась не показывать.
Права оказалась мать – кольцо пригодилось, авось и спасет.
Сколько стоит кольцо, Алевтина точно не знала, но представление имела. Кольцо тоненькое, золота немного, меньше, чем в ее обручальном, которое, кстати, тоже вполне можно продать рублей за полтораста – золото такое, что дороже никто и не даст. А на бабушкином кольце золото старинное, настоящее. Но главное – камень. Изумруды сейчас ценятся, а этот, уж во всяком случае, не маленький, не такая кроха, как в нынешних цацках. Ну и работа, старинная ручная работа, нынче в ювелирках такие вещи не лежат. Хотя сейчас там вообще ничего не лежит, сразу расхватывают.
Словом, по разным окольным прикидкам кольцо как раз и стоило где-то около двух. Не меньше… Нет, не меньше…
В среду, когда репетиции не было, Алевтина достала кольцо и поехала в ювелирную комиссионку. Ценную вещь сперва хотела спрятать в сумочку, потом решила, что на пальце надежней.
Адрес ей объяснили толково, нашла сразу. Магазин был большой, двухэтажный, внизу приемка, наверху продажа. Хвост на комиссию был человек десять. Алевтина поступила разумно: заняла очередь за южным человеком и пошла наверх на разведку.
Там тесно не было. Впрочем, и прилавки разнообразием не баловали: много жемчуга, много кораллов, много серебряных цепочек и ни одной золотой. Кольца, правда, были. Алевтина просмотрела их придирчивым взглядом конкурентки и поняла, что ее дела, может, и не блестящи, но уж никак не плохи. Те, что с красными стекляшками, можно было в расчет не брать: на трезвую голову такие не купят. Три вещицы с янтарем выглядели получше – но и янтарь в золоте смотрелся бедно, собственно, даже не камень, а смола, ему и положено быть недорогим. А вот дальше в отдельной витрине два кольца с изумрудами – тут Алевтина остановилась надолго.
Одно стоило тысячу триста – но простенькое, и камешек чисто символический, с гречневое зернышко. Другое было красивое, много золота, оригинальная работа, два брильянтика но краям и камень как на ее кольце, не меньше, причем красивый, безусловно красивый, и ярче, и зеленей, чем бабушкин изумруд. Но ведь и стоило это роскошество пять двести! Пять двести и не гривенником меньше! Да если ей дадут хотя бы половину, не только хватит на все, но и дурищу Зинку можно будет не дергать с долгом, и в венгерском пиджаке щеголять самой… Вниз по лестнице Алевтина шла успокоенная. Очередь продвинулась едва на половину. Алевтина обратила внимание, что в очереди сплошь женщины, и у всех что-то в руках – лишь единственный мужчина, южный человек, за которым она заняла, сидит пустой. Он сказал ей, бросив взгляд на лестницу в верхний зал.
– Не интересно.
Она не очень поняла, что он имеет в виду, но на всякий случай кивнула.
– А у вас что? – спросил сосед. Он был лет пятидесяти, в дешевом мятом костюме, с плохо выбритым усталым лицом.
Не ответить было невежливо, и Алевтина показала ему кольцо, из осторожности согнув палец.
– А бриллиантов нету? – поинтересовался он без особой надежды.
Она пожала плечами:
– К сожалению…
– Бриллианты нужны, – сказал он уныло, – сына женю. Красивая вещь, но нужны бриллианты. У кого дочка, легче. А у меня два сына. Трудно!
– У вас что, вроде калыма? – спросила Алевтина, улыбкой смягчая, может быть, бестактный вопрос.
Собеседник не обиделся:
– Нет, у нас калыма не бывает. Но подарки надо. Невесте бриллианты, еще другое… Много надо. Сервиза два, вазы хрустальные два, для конфет тоже ваза… Много надо, вся семья копит… А ваша вещь сколько стоит?
– Не знаю, – сказала она, – хочу приценить.
– Невесте бриллианты надо, – сказал южный мужчина. – А еще мать, ей тоже подарок надо.
– Ну, для матери это, наверное, будет дорого, – возразила она, – кольцо старинное, изумруд…
Она подумала, что хорошо бы продать кольцо вот так, в очереди, приценить и тут же продать, чтобы не ждать, не мотаться туда-сюда, и без всяких комиссионных…
– У нас дорого детей женить, – вздохнул сосед, – у вас дешевле.
Тут подошла очередь.
– Идите, – сказал мужчина, – вы идите, я потом.
Алевтина только кивнула, не было времени даже поблагодарить.
Позвали двоих, и Алевтина вошла вместе с девушкой, стоявшей впереди. Оценщиков тоже оказалось двое, мужчина и женщина. Пока девушка колебалась, Алевтина подсела к мужчине. Она не знала, кто он, не успела его разглядеть. Просто вот уже почти двадцать лет, если приходилось от кого-нибудь зависеть, она предпочитала зависеть от мужчины. Предпочла и сейчас.
Мужчина был не стар, но почти лыс, с холодными наглыми глазами. Глаза Алевтину насторожили, но забирать назад кольцо было поздно.
– Ясно, – сказал оценщик и зачем-то качнул мизинцем весы с маленькими чашечками. – За сколько хотите положить?
– Ну, не знаю… – замялась Алевтина. Она вдруг заметила, что за ее плечом стоит и смотрит на оценщика собеседник из очереди. – Не знаю, – повторила она. – Если бы современное, а то старинное…
– За триста можем попробовать…
– Триста? – Алевтина не поняла – то ли он оговорился, то ли она ослышалась.
– Ну, триста тридцать, – набавил лысый оценщик, – лежать ведь будет.
Алевтина задохнулась от возмущения. Жулик? Дурак? Или ее считает за дуру?
– Интересная цена, – громко сказала она. – Старинное кольцо с изумрудом – триста рублей. У вас там такой же камень лежит за пять тысяч, а этот – триста!
– Валя! – позвал оценщик.
Женщина, сидевшая за другой стойкой, не торопясь подошла.
– Ну-ка глянь.
Та посмотрела в лупу.
– Хризопраз, – сказала она и пошла к своему месту.
– Хризопраз, – повторил оценщик, и в наглых его глазах мелькнуло нечто вроде сочувствия, – тоже зелененький, тоже симпатичный, но стекло не режет. Так что носите и получайте удовольствие.
– Да нет, не может быть, – беспомощно и глупо забормотала Алевтина, – я же не выдумала, мне его бабушка подарила. Старинная вещь…
– А вы думаете, в старину не врали?
Алевтина молча схватила кольцо, не смогла надеть на палец и, зажав в кулаке, выскочила из комнаты. На улице, торопливо бросилась за угол и, лицом к стене, зарыдала. За что, билось у нее в голове, ну за что? Было так стыдно, что она почти не чувствовала страха. Хотя какая-то клеточка в мозгу уже знала, что самое ужасное не этот стыд, а неотвратимый будущий ужас.
– Зачем плачешь? – укорили за спиной с уже знакомым акцентом. – Народ сейчас такой, много нечестных. Сын мед купил на рынке, красивый мед, десять рублей кило. Две недели постоял – половина сахар! Много нечестных.
Она повернулась к южному гражданину, и вцепившись ногтями в его пиджак, сглатывая слезы, стала убеждать, что вещь от бабушки, старинная…
– Красивая вещь, – сказал тот, – старинная, сразу видно. Жаль, не бриллиант, я бы купил…
Алевтина не поленилась, съездила на такси через весь город в другую комиссионку, после чего нелепость окончательно стала фактом.
Из дому она сразу позвонила Илье. Голосом к этому времени она уже владела.
* * *
– Ну что, Илюшенька, – проговорила бодро, – не рано звоню?
Он сказал, что немножко рано.
– Не успел еще? – с надеждой спросила она.
– Почему не успел, все успел. В понедельник решение обещали.
– Ой, не слышно ничего, перезвоню, – нашлась Алевтина, нажала на рычаг и положила трубку рядом с телефоном, чтобы он сам не перезвонил. После чего легла на диван и лежала час почти неподвижно. Больше всего хотелось хватануть пару таблеток снотворного, чтобы хоть на сутки избавиться от всего. Или сразу пачку, чтобы вообще избавиться от всего. Или с ревом, с истерикой все вывалить дочке и бывшему мужу, этой злобной маленькой сучке и ее папаше, и пусть выпутываются как хотят, она не может больше, она брошенная баба, и не обязана думать о них, пусть думают о ней…
Пришла Варька, зажгла свет в коридоре, еще с порога заметила непорядок:
– Мать, ты что, у тебя же трубка валяется!
Алевтина что-то буркнула, притворяясь сонной. Варька положила трубку на рычаг. Телефон зазвонил почти мгновенно. Варька отозвалась, сунула трубку Алевтине и пошла к себе.
Звонила дурища Зинка, ей срочно нужна была сотня – очень своевременная идея! Ее предпоследний любовник, алкаш и ничтожество, ехал в дом отдыха на Валдай, по этому случаю стрельнул у Зинки двадцатку и предложил посреди срока завалиться к нему дня на четыре.
Тут все было ясно, слава Богу, не в первый раз. В доме отдыха этот подонок, конечно же, сразу запьет, к середине срока, поистратившись, малость протрезвеет, потянет на бабу, и тут Зинка окажется вполне кстати. А поскольку приезжать к нему полагалось с гостинцами, дурище требовались деньги не только на дорогу, но и на коньяк любимому человеку, потому что вкус у этого мерзавца был аристократический.
Говорить про все это не хотелось, сто раз говорено, и Алевтина лишь ответила сухо, что денег у нее нет. Зинка тут же виновато затараторила, что про долг помнит и непременно отдаст, но вот если бы сейчас удалось где-то достать… Алевтина наорала на нее, едко заметив, что деньги порядочные люди не достают, а зарабатывают. Зинка, привыкшая к подругиным выговорам, не обиделась и продолжала нудить, что Алевтина, конечно, права, но деньги хорошо бы достать.








