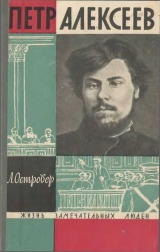
Текст книги "Петр Алексеев"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Явился Трофим. Братья, а ничуть не похожи. Яков длинный, с лицом постным, скучным и глубоко запавшими глазами, а Трофим коротышка, с брюшком и круглым лоснящимся лицом.
– Сказывай, зачем я тебе понадобился.
Так сразу и не скажешь: еще сбежит, когда деньги попросишь.
– Давай раньше чаек закажем, за чаем и поговорим.
– Это для чая-то я пять верст отшагал?
– Можно и водочки заказать, – согласился Яков. – Человек, два стакана!
– Закусочку прикажете? – спросил официант.
Яков вопросительно взглянул на брата.
– Ты заказываешь, ты и выбирай. Хошь воблу, хошь поросенка. Ты хозяин, – скороговоркой откликнулся Трофим.
Якову было тошно: не угостишь – Трофим и слушать его не станет, а угощение денег стоит. А вдруг Трофим откажет, как тогда перед Варварой оправдаться?
– Ты чего, Яков, задумался? Может, у тебя денег нет?
– Как так нет? Есть! Давай нам того, что у них в тарелках. – Он показал на соседний стол.
– Селяночку московскую?
– Вот-вот, селяночку эту самую.
Официант принес стаканы с водкой, две тарелки остро и приятно пахнущей селянки. Братья чокнулись, выпили.
Яков сразу охмелел, и ему вдруг обидно стало за свою извечную нужду, за свой страх перед Варварой.
– Может, еще водки хочешь? – обратился он к Трофиму.
– Можно и еще.
– Человек, еще водки!
– Закусочку прикажете?
– Закусочку? А как же! Тащи поросенка! Как, Трофим? Одобряешь поросенка?
– Хошь воблу, хошь поросенка. Ты хозяин.
– Тащи поросенка!
Выпили по второму стакану, заели поросенком.
Еще обиднее стало Якову: «Кого он угощает? Перед кем унижается? Перед младшим братом, которого всегда считал подлецом: доносчиком в полиции служит!»
– Ты почему молчишь? – набросился он неожиданно на Трофима. – Я тебя водкой пою, поросенком кормлю, а ты молчишь?
– С чего это ты? – миролюбиво спросил Трофим. – Пригласил братца, угостил и вдруг лаешься.
– А ты почему молчишь? Почему не спрашиваешь: «Брат Яков, может, у тебя нужда какая?» Старший брат тебя водкой потчует, поросенком кормит, а ты молчишь! – Вдруг он вскочил. – Кто я тебе? Брат или не брат?
– Яков… Яков…
– Сам знаю, что Яков! А ты, подлец, Якова не уважаешь! – Он схватил со стола стакан, швырнул его на пол. – Видал? Так я вас всех!
– Кого это всех?
– И тебя! И Шибаева! И Варвару! Всех!..
Прибежал хозяин.
– Чего, варнак, разошелся?
– Хочу, потому и разошелся!
– Плати и уходи, не то…
Трофим, крадучись, подобрался к двери и исчез.
Яков явился домой поздно. Били ли его, или он подрался с кем-то, не помнит. Тело ныло, лицо – в кровоподтеках. Попало ему и от Варвары – она его и за волосы таскала и по щекам хлестала, но он сносил побои молча, с обычной покорностью. Денег у него не оказалось: Варвара искала и по карманам, и за подкладкой пиджака, и даже в шапке.
Яков свалился на пол и тут же уснул.
Проснулся он рано. Жена, дети еще спали. Тихо, чтобы не потревожить семью, Яков вышел во двор» умылся у колодца, почистился и направился в губернское жандармское управление.
– По какому делу? – спросил у него дежурный.
– К их превосходительству.
«Их превосходительство» генерал Воейков явился к девяти часам.
– Важное сообщение имею сообщить.
– Говори!
– Могу указать вашему превосходительству на одного опасного смутьяна.
– Чем он так опасен?
– Он говорит, что скоро будет свобода, что все сословья сравняют.
– И ты ему поверил?
– Не поверил, ваше превосходительство.
– То-то, чего спьяна не сболтнешь.
– Он не был пьян, ваше превосходительство.
– Значит, дурак.
– Ваше превосходительство! Он еще сказал, что на фабриках живут студенты из господ. Они народ обучают и запретные книжки раздают.
Генерал подошел к Яковлеву:
– Ты где работаешь?
– У Шибаева, ваше превосходительство.
– А смутьян этот?
– Работал у Турне, теперь нигде не работает, ходит по трактирам и народ смущает.
– Звать его как?
– Васильев Николай.
– Как зовут?
– Николай Васильев.
– Где живет?
– Не знаю, ваше превосходительство. Но знаю, где его найти.
– Где?
– На Разгуляе. В трактире Куринского.
– Когда он там бывает?
– По воскресеньям, всегда с утра.
Генерал раскрыл дверь:
– Майора Нищенкова ко мне!
Быстрые шаги с серебряным перезвоном. В кабинет вошел грузный офицер с пушистыми черными усами.
– Переоденьтесь, майор, и вызовите двух агентов в штатском, и отправляйтесь с… Как тебя зовут?
– Яковлев, ваше превосходительство!
– И отправляйтесь немедленно с Яковлевым на Разгуляй.
– Сюда доставить?
– Сюда.
Офицер направился к двери, а Яковлев остался стоять на своем месте.
– Ты чего?
Лицо Яковлева стало сразу жалким, как у нищего, к которому приближается хорошо одетый человек.
Генерал хорошо знал свою клиентуру.
– Майор, – позвал он офицера.
– Слушаюсь!
– Когда закончите, дадите Яковлеву пятерку.
Через час выводили Николая Васильева из трактира, и жандармский майор Нищенков, прежде чем сесть в пролетку, дал Якову Яковлеву пятирублевую кредитку.
Но зря раскошелился Воейков.
«Смутьян» вошел в кабинет неторопливым шагом, остановился посреди комнаты и приветливо взглянул на генерала – так смотрит мастеровой, которого пригласили на дом для починки замка или для иной какой-нибудь поделки.
– Садись, Васильев.
Васильев нажал на спинку стула, проверяя его прочность, сел и положил руки на колени.
Генерал был несколько огорошен: простое лицо, изрытое морщинками, спокойные глаза, несуразная бороденка кустиками, длинная худая шея. Неужели это один из «главных»?
– Где ты вычитал, что скоро будет свобода?
Васильев улыбнулся.
– Кто меня учил читать? Сроду я книжки в руках не держал. Неграмотный я.
– Но про свободу говорил?
– Про какую свободу? Я уж, почитай, месяца три свободен. Как прогнал меня господин Турне с должности, так все время свободным бегаю.
– За что прогнал тебя Турне?
– Садовником служил я у господина фабриканта Турне, а теперь он сад вырубил. Не нужен ему больше садовник.
– Чем кормился эти три месяца?
– Старое белье покупаю и продаю. Семейство у меня небольшое, сам-два, двугривенный в день заработаю и на прокорм хватает.
– И на трактиры хватает?
– В трактирах-то я и промышляю. Когда человек недопил, он с себя рубаху скидывает и за гривенник ее отдает.
– Вот какой ты, Васильев! Вместо того чтобы остановить несчастного человека, ты его грабишь, последнюю рубаху с него снимаешь.
– Кормиться-то надо, ваше превосходительство, – спокойно ответил Васильев. – Один одно делает, другой – другое. Все кушать хотят.
– Ты ведь ткач. Почему ремесло бросил?
– Не кормит ремесло. Посудите сами, ваше превосходительство: круглый месяц стоишь за станком по двенадцать-четырнадцать часов, а зарабатываешь три-четыре рубля. Разве на эти деньги проживешь? Определился садовником. Жалованье небольшое, но своя грядка, своя картошка, своя капустка.
– Яковлева давно знаешь?
– Давно, ваше превосходительство. Мы с ним у Турне в одной мастерской работали.
– Дружил с ним?
– Пьяница он, ваше превосходительство, а с пьяницей какая дружба? За водку отца-мать продаст.
– А с кем ты дружишь?
– Вот у фабриканта Турне сторожем служит бывший солдат Гермоген. Из духовного звания. Лет ему, почитай, не меньше семидесяти, а всем интересуется. Особенно солнцем. И так занимательно рассказывает, что, бывало, сядем с ним на скамеечку после обеда, а встаем, когда уже луна на небе.
– А еще с кем дружишь?
– Почитай, все. С фабричными как-то разошелся: у них свои дела, у меня – свои. Встретимся на улице или в трактире – говорить не о чем.
Глядя в спокойное лицо Васильева, генерал думал: «Продувная бестия или дурак?»
– Петра Алексеева знаешь?
– А как же, – оживившись, ответил Васильев. – Как его не знать? Гвоздик нужен – к Алексееву, шило нужно – к Алексееву, за керосином – к Алексееву.
– Это ты про какого Алексеева?
– Как про какого? Про Петра Гаврилыча, что на Пятницкой торгует.
«Продувная бестия или дурак?» – опять подумал Воейков.
– А Алексеева Власа знаешь?
– Власа? Нет, ваше превосходительство, такого не знаю.
– А он тебя знает.
– Вот это возможно. Если он ткач, то, возможно, работали у одного хозяина. Если он пьяница, то, возможно, рубаху мне продавал. Разве упомнишь всех, с кем работал или кого в трактирах встречал? Невозможно, ваше превосходительство, сами посудите.
Воейков ни одному слову не поверил, но внутренней убежденности, что Васильев говорит неправду, тоже не было: так естественно лилась его речь, так логичны были его объяснения.
22
Столько народу было арестовано в последние дни, что Петр Алексеев сразу понял, зачем он вдруг понадобился управляющему Григорьеву. Он ушел с фабрики, чтобы больше туда не возвращаться. Жалко было вещей, но что поделать? И паспорт остался в конторе…
Начинается новая жизнь – нелегальная, и к этой жизни надо готовиться. Квартира у него имеется: в домике, который скрывается за березами. Он скажет хозяйке, что надумал переехать раньше срока, – это не вызовет подозрений. С работой также уладится: день тут, день там, – с голоду не умрет. Но как быть с народом? Где встречаться, где читки устраивать? Ведь с народом необходимо поговорить, особенно теперь, когда всех растревожили аресты.
Петр Алексеевич решил посоветоваться с товарищами.
Квартира на Пантелеевской улице помещалась в глубине двора, в отдельном флигеле. Низкий забор из ржавых листов кровельного железа отделял двор «вдовы сенатского регистратора Е. А. Корсак» от соседней церковной усадьбы. Перед флигелем несколько черных грядок, кругом кучи щебня.
Весна в этом году была ранняя, дружная: деревья уже зеленели, из земли буйно шли травы.
Алексеев склонился, чтобы сорвать травинку, и украдкой глянул, на месте ли «сигнал» – ситцевый платок в крайнем окне. Все в порядке! Он поднялся на низенькое крылечко и без стука раскрыл дверь в кухню.
Ольга Любатович в цветастом халате стояла возле плиты и ножом переворачивала ломтик хлеба на шипящей сковородке.
– Петр Алексеевич, – обрадовалась она, – хорошо, что вы пришли! – Она бросила нож. – Идемте в комнату!
– Зачем я так срочно понадобился?
– Беда, Петр Алексеевич! Васильева арестовали!
– Когда? Где?
– Только что, в трактире на Разгуляе.
Петр Алексеевич шагнул к двери, распахнул ее, и первое, что он увидел – Дарья! Она стояла, прижавшись к стене, и, плача, причитала:
– Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..
К дивану придвинут стол. На диване сидят Софья Бардина и Бетя Каминская с одинаковыми прическами – взбитые спереди и коротко остриженные сзади, – в одинаковых беленьких платьях.
На стульях вокруг стола – Семен Агапов, взлохмаченный, словно не успел сегодня причесаться, Пафнутий Николаев в белой рубахе без опояски и крупный, в обтянутой гимнастерке Чикоидзе. Иван Джабадари в длинном сером архалуке шагает по комнате.
На столе самовар и чайная посуда.
– Петр Алексеевич! – кинулась к вошедшему Дарья. – Милый ты мой!.. Хороший ты мой!.. Николая-то моего арестовали… Что я буду делать? Что я, несчастная, буду делать?
– Опять сначала! – сердито проговорил Джабадари. – Ведь мы с тобой уже договорились. Деньги я тебе дал. Купи хлеба, колбасы, папирос и отправляйся в жандармское управление. Отнеси Николаю передачу, попроси с ним свидания. Понятно?
– Милый ты мой!.. Хороший ты мой!.. Не пустят меня в это самое правление.
– Что ты, Дарья, – насмешливо сказал Пафнутий Николаев. – Такую красавицу и вдруг не пустят?
– А ты пореви, – вмешался Семен Агапов. – Слезы у тебя, как вижу, дешевые.
Дарья метнула злой взгляд в сторону Николаева и Агапова, но тут же ее жирное лицо расплылось в угодливую улыбку:
– Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..
К Дарье подошла Бетя Каминская.
– Дарьюшка, сделай так, как Михаил тебе советует. И чего ты убиваешься? Подержат Николая несколько дней и отпустят.
– За вас он пострадал… За вас… Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..
– Перестань реветь! – строго проговорил Петр Алексеевич. – Николай там без хлеба сидит, а ты тут ручьем разлилась. Нужен он там, твой Николай!
Подействовала ли строгость Алексеева или что-то иное, но Дарья как-то сразу подобралась, вытерла лицо краешком платка, низко поклонилась:
– Пойду, милые вы мои… Пойду, хорошие вы мои…
Когда Дарья ушла, Алексеев спросил:
– Откуда она этот адрес знает?
– Была тут один раз с Николаем.
– Скверно! Надо немедленно переменить квартиру.
– Неужели… – начала Бардина.
– Да! – оборвал ее Алексеев. – От нее можно ожидать любую пакость. А нам, товарищи, необходимо во что бы то ни стало центр сохранить.
– Друзья, – мягко сказал Чикоидзе, – мне кажется, что нам не следует так поспешно уходить отсюда. У нас имеются обязательства по отношению к рабочим. Они будут ходить сюда встревоженные. Нам надо их ободрить, успокоить, а не скрываться от них. Мне кажется, что своим бегством мы возбудим в них недоверие, и вся наша полугодовая деятельность пойдет насмарку.
– Но для этого нет нужды всем оставаться, – настаивал Петр Алексеевич.
Бардина закуталась в шаль, словно ей внезапно стало холодно.
– Прав Петр Алексеевич, прав и Чикоидзе. Нам надо съехать с этой квартиры, и чем скорее, тем лучше. А я тут останусь для связи.
– И я с тобой!
– Нет, Бетя, я одна останусь. А ты вместе с Джабадари будешь искать новую квартиру. Грязнова и Жукова надо сегодня же отправить в Питер. Лидию Фигнер и Варвару Александрову – в Иваново-Вознесенск. А вы, Петр Алексеевич, как? В Питер или в Иваново-Вознесенск?
– В Питер мне еще рано. Поеду в Иваново. Как у нас с литературой? – обратился он к Джабадари.
– Все будет в порядке. Понятно? Собирай, Петруха, свою группу!
Джабадари нашел квартиру – правда, не такую удобную и не такую просторную, как в доме Корсак, но для конспиративных целей вполне подходящую: также в одиноком флигеле, расположенном в глубине сада.
Третьего апреля было людно и весело в доме Корсак. Обстановку и пакеты с литературой уже отправили на новую квартиру. Восемь человек – Бардина, Каминская, Алексеев, Чикоидзе, Пафнутий Николаев, Семен Агапов, Лукашевич и Георгиевский – занимались укладкой посуды, упаковкой мягкой рухляди и, работая, потешались над тем, что работы на грош, а трудится «целый гвардейский полк». Джабадари, недовольный задержкой, поторапливал и всем мешал.
Когда узлы были уложены и комнаты уже приняли неуютный, нежилой вид, явилась Дарья.
– Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..
– Была, Дарьюшка, в управлении? – спросила Каминская.
– Была, милая, была, хорошая, но меня к Николаю не допустили.
– А ты как думала? – опять съязвил Пафнутий Николаев. – Думала, тебя под ручку возьмут и скажут: «Пожалуйте, сударыня, ваш супруг уже дожидается вас»?
– Не думала я, милый мой, не думала, хороший мой. А вы уезжаете? Милые вы мои, хорошие вы мои, на кого вы меня, несчастную, оставляете?
Джабадари достал из кармана бумажник.
– Получай, Дарья, не огорчайся. Я знаю, где ты живешь. Понятно? Дам тебе знать, когда понадобишься.
Дарья скомкала в руке десятирублевку.
– Спасибо, милый, спасибо, хороший! Дай бог всем вам счастья! – Она подошла к Бардиной, склонилась и неожиданно поцеловала ей руку.
– Что ты?! – рассердилась Софья Илларионовна.
– Прости меня, темную, прости меня, глупую. От всего сердца я, милая, от всей души я, хорошая.
Распрощалась и медленным шагом ушла.
– Давайте чай пить на прощанье, – предложила Бардина, чтобы покончить с тягостным молчанием: все как-то разом почувствовали, что уже случилось что-то очень неприятное или неминуемо должно случиться.
Было уже темно: кое-где горели уличные фонари. Дарья не шла по улице, а бежала: боялась опоздать. В жандармское управление она ввалилась, как куль; большая, рыхлая, она плюхнулась на скамью.
– Где тут начальник? – еле выговорила она.
– Зачем он тебе?
– Скорее. Они сбегут!
– Кто?
– Самые главные. Те, что народ смущают. Они самые главные смутьяны. Студенты и ученые девицы. Скорее! Они сбегут!
Ее повели к генералу Воейкову.
– Мацкевича ко мне! – взревел генерал Воейков.
Жандарм, стоявший у двери, бросился вон.
На пролетках, в экипажах и тюремных каретах приехало человек двадцать. Не доезжая дома Корсак, они соскочили на землю и, опережая генерала Воейкова, бросились во двор. Человек десять выстроилось цепочкой вдоль низенького забора, остальные последовали за Воейковым. Грузный, тяжелый, он подобрал полы шинели, словно ему предстояло перейти через речку, и вприпрыжку, по-мальчишески пустился к крыльцу. На верхней ступеньке Воейков задержался на мгновение, отдышался и, рванувшись вперед, распахнул дверь.
За столом пили чай. Бардина держала чашку на весу. Петр Алексеев, видимо, рассказывал что-то смешное: широкая улыбка освещала его лицо. Чикоидзе смотрел на него смеющимися глазами. Семен Агапов сидел с раскрытым ртом. Каминская застенчиво улыбалась…
– Арестовать всех! – крикнул Воейков.
Жандармы, гремя сапогами, окружили стол.
– Обыскать!
У Петра Алексеева в кармане подложный паспорт, у Чикоидзе – важные конспиративные документы.
– А ордер на обыск имеется? – спокойно спросил Петр Алексеевич.
– Поручик Шишковский, покажите им ордер.
Алексеев взял ордер из рук офицера, прочитал его про себя.
– Тут нет подписи прокурора, – сказал он тем же спокойным голосом. – А без прокурора не разрешено обыска делать.
– Прокурора нет и не будет! – рассвирепел Воейков.
– Обыска без прокурора не имеете права делать, – твердо заявил Алексеев.
– Хорошо! – пролаял Воейков. – Будет вам прокурор! Штабс-капитан Мацкевич, не давать им шагу ступить! На местах пусть сидят! Я поеду за прокурором!
Воейков ушел. Штабс-капитан Мацкевич отослал жандармов на кухню.
– Может, чаю выпьете с нами? – предложила Мацкевичу Бардина.
– Благодарствую.
– Вы простите нас, господа, не можем предложить вам стульев. Мы не ждали гостей, – продолжала Бардина.
– Ничего, посидим и на подоконниках.
Петр Алексеев протянул свой стакан Каминской.
– Налейте, пожалуйста, горяченького и ему, – показал он взглядом на Чикоидзе.
– Я не хочу.
– Зря отказываетесь, – как-то загадочно промолвил Петр Алексеевич. – Твердая закуска от горячего легче проходит.
Чикоидзе не понял, на что намекает Алексеев.
Петр Алексеевич сунул руку за пазуху, спустя мгновение вытащил ее обратно и поднес ко рту. Сделал глотательное движение и запил чаем. Опять руку за пазуху и опять что-то в рот. Чикоидзе понял!
– Пожалуйста, и мне горяченького, – попросил он.
Петр Алексеевич проглотил свой паспорт, даже твердую обложку: Чикоидзе – все свои документы. И когда с этим было покончено, завязался общий разговор, правда, тихий, полушепотом, о том, как себя держать на допросах, какие показания давать по поводу дома Корсак. Говорили спокойно, хотя всех угнетало сознание, что сами виноваты во всем: нужно было вчера переехать на новую квартиру, не надо было затевать чаепития.
Воейков, видимо, увез прокурора Кларка с бала или из театра: он был во фраке, в белом галстуке бабочкой.
– Это вы хотели меня видеть? – спросил он Алексеева.
– Видеть вас я не хотел, – серьезно ответил Петр Алексеевич. – Но мне казалось, что даже при арестах надо соблюдать закон.
– Особа генерала – достаточная гарантия.
– Ошибаетесь, господин прокурор. Генерал – исполнитель закона, но не закон.
– Вы неплохо разбираетесь. Видимо, имели уже дело с исполнителями закона?
– Бог миловал.
– Обыскать! – оборвал Воейков разговор.
Сам Воейков распоряжался, кого в какую карету посадить. Восемь карет уже отправлено.
– А вы, – обратился генерал к Алексееву, – поедете со мной.
Жандармским нюхом почувствовал Воейков, что именно Петр Алексеев «самый главный». Правда, никто из арестованных не нервничал, не суетился – все держали себя просто и с достоинством, но в поведении Алексеева было еще что-то, что внушало к нему уважение. Он не вступал в пререкания с жандармами, но твердым голосом заставлял их не портить вещей; ссылаясь на закон, он не разрешил обыскивать девушек, он резко оборвал прапорщика фон Беринга, когда тот позволил себе прикрикнуть на Каминскую; это он, назвавшись для протокола, внушительно добавил: «И больше не спрашивать». И штабс-капитан Мацкевич подчинился: прекратил допрос.
Вот с этим «самым главным» хотел Воейков поговорить.
Кабинет Воейкова просторный, с коврами на стенах и на полу. Настольная лампа затемнена голубым абажуром.
– У вас нашли два рубля, – начал Воейков, когда он уселся. – Что это: временное безденежье или постоянная нужда?
– Вы, господин генерал, видимо, рабочей жизни не знаете. Для нашего брата два рубля большие деньги.
– А студенты вам жалованье не платили?
– Какие студенты?
– Ну те, из дома Корсак.
– Я их не знаю.
Воейков рассмеялся:
– Петр Алексеевич, вы умный человек, вы сами понимаете: есть вещи, которых отрицать нельзя. Вы можете сказать, что вы не Петр Алексеев, а Иван Иванов, и, до тех пор пока я не докажу, что вы именно Алексеев, вы будете числиться Ивановым. Но глупо, ей-богу, глупо, если вы заявите, что у вас борода рыжая, когда все видят, что она черная. Вы сидите за столом с людьми, пьете с ними чай, смеетесь, беседуете – и вдруг заявляете, что не знаете их.
– А вам, господин генерал, не случалось на вокзале пить чай и беседовать с незнакомыми людьми?
– Случалось.
– Так почему удивляетесь? Я искал комнату. Мне сказали, что там комната сдается. Люди оказались молодые, обходительные. Усадили меня, чаем угостили. Что тут удивительного?
– А Васильева знаете?
– Васильева? Васильевых многих знаю.
– Николай Васильев. Он вместе с вами работал у Турне.
– Вот этого знаю. Кажется, с бородкой… Или нет, с длинными усами. Краснобай такой.
– И вы ему никаких книжек не давали?
– А зачем я стал бы ему книжки давать? Если любит читать, пусть сам добывает.
– А брату своему Власу вы давали книжки?
– Что-то не припомню. Но, возможно, давал.
– Какие книжки давали?
– Известно какие книжки пишутся для народа. «Бова-королевич», «Ванька-Каин».
Дольше сдерживаться Воейков не мог. Он вскочил:
– Вы перестанете меня морочить!
Петр Алексеевич ответил спокойным голосом:
– Если вам кажется, что я вас морочу, то простите, господин генерал, больше ни слова не произнесу.
И замолчал.
23
Как медленно ползет время!.. В камеру заглядывает белесое летнее небо. Изредка появится тучка, потемнеет вокруг – и опять знойное солнце.
Петр Алексеевич шагает из угла в угол. Его тело не теряет упругости, руки – крепости: он орудует тяжелой табуреткой, точно гирей. Но читать нечего. И вчера он не сдержался, поскандалил: требовал книг.
Его вызвали к прокурору. Августовский день, а прокурор, старенький и подслеповатый, сидит в драповом пальто.
– Чем вы, Алексеев, недовольны? – с наигранной вежливостью осведомился он.
– Книг не дают.
Прокурор окинул Алексеева добродушным взглядом:
– А ведь тебя можно было бы на все четыре стороны отпустить.
– Отпустите, господин прокурор.
Старика рассердил спокойный ответ Алексеева.
– Как тебя отпустить, когда в тебе искренности нет! – Он раскрыл «дело» и ткнул пальцем в исписанный лист: – Два раза я с тобой говорил, и до чего мы договорились? Что ты родился в году 1849 в деревне Новинской уезда Сычевского, что в Смоленской губернии… И все!
– Не все, господин прокурор. Я еще сказал…
– Все! – оборвал его старик. – Что ты мне еще сказал? Что у твоих родителей земли мало, что они тебя девятилетним на фабрику отдали? – Он захлопнул папку. – Запирательство тебя до добра не доведет. Помни, Алексеев: законы у нас строгие, но если ты чистосердечно раскаешься, расскажешь мне про студентов, которые тебя совратили, раскроешь все их шашни, то, поверь мне, старому человеку, под снисхождение тебя подведу и выпущу на все четыре стороны. Что ты делал в доме Корсак?
– Квартиру искал. Увидел билет на воротах – вот и поднялся. Мальчонка один сказал, что там дворник проживает.
Прокурор укоризненно покачал головой:
– Я с тобой, как отец с сыном, а ты со мной хитришь. Хочешь, я тебе скажу, что ты делал в доме Корсак? Ты там билет получал, чтобы поехать в Иваново-Вознесенск… Ты запираешься, а я про тебя все знаю. Ты из кожи лезешь, чтобы услужить студентам, а они нам все рассказали. Они отреклись от тебя, мужика сиволапого, а ты их щадишь. И до каторги себя доведешь. Понимаешь, Алексеев: до каторги!.. Что, тебе жизнь надоела? И за кого ты хочешь пострадать? За студентов, которые тебя же предали?
Подавляя насмешку, Алексеев смотрел в подслеповатые глаза прокурора… Ему был противен этот старик: третий раз беседует он с ним – и каждый раз с подковырцей. Сейчас билетом пугает. Билет на столе остался: легко догадаться, что кто-то собирался в Иваново-Вознесенск.
– Ну, Алексеев? – резко окликнул прокурор. – Чего ты молчишь?
– Молчу потому, что сказать мне нечего. Я все уже сказал.
Опытный прокурор понял, что ему и на этот раз не справиться с Алексеевым.
– Иди. Я прикажу, чтобы тебе книги дали.
Действительно, книгу Алексееву дали. Петр Алексеевич обрадовался было, да, увидев золотой крест на переплете, понял: библия.
Из полицейского участка Алексеева перевезли в Бутырки, в Пугачевскую башню. Камера короче, чем в полицейском участке, но такой же кусок неба в окне и та же мышиная возня под полом.
Алексеев положил себе за правило ежедневно часа два по утрам махать руками, и в этом махании он достиг того, что мог, не сходя с места, сделать более девяти тысяч взмахов. А перед сном он «отправлялся на прогулку»: из одного угла в другой. «Прогулка» длилась также два часа, и за это время Алексеев вышагивал десять километров.
В одну из бессонных ночей (спать полагалось при свете) Алексеев увидел мышь, вылезшую из-под нижнего плинтуса. Он взволновался при виде живого существа и решил «подружиться» с мышкой. От каждого своего обеда Петр Алексеевич начал оставлять у стола кусочки мяса, хлеба и, ложась на постель, смотрел в тот угол, где была норка. В дырочке появлялась острая мордочка с маленькими черными глазками. Затем серенький зверек начинал свое путешествие по камере, обнюхивая все попадавшееся на пути. Наконец зверек достигал места у стола, где была для него приготовлена трапеза.
Когда выпадали дни, что мышка не показывалась в камере, Алексееву делалось тоскливо, точно друг, назначивший ему свидание, не явился на него.
Наконец-то разрешили Алексееву пользоваться библиотекой. Он набросился на книги, читал все подряд: «Чрево Парижа» Золя и «Историю» Костомарова, разрозненные номера какого-то медицинского журнала и политическую экономию Милля. Он прочитал всю историю средних веков Стасюлевича и много других книг.
На воле он никогда столько не прочел бы, и, что важнее всего, прочитанное лучше усваивалось: этому способствовала тишина и отсутствие впечатлений.
На смену 1875 пришел 1876, но для Петра Алексеевича ничто не изменилось. Одиночная камера, короткие прогулки, книги… Промелькнула весна, отошло лето, опять холодные рассветы. Исхудал Петр Алексеевич, борода стала клочковатой, лицо покрылось желтой сетью мелких морщин, но сила из тела не ушла: ноги по-прежнему крепкие, кулаки тяжелые. Он выглядит намного старше своих двадцати шести лет, но пожилым его тоже не назовешь.
А папки разбухали: жандармы, прокуроры и сенаторы готовили «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений».
24
«Новая действительность» создана! Состряпан первый массовый политический процесс – «процесс 50-ти»! В дождливый сентябрьский вечер Петра Алексеева отправили в Петербург, в дом предварительного заключения, что на Шпалерной улице.
Пока шло оформление вновь прибывшего арестанта, наступило утро, сизое и холодное. Петр Алексеевич вошел в камеру, лег на койку.
– Хлеб! – послышалась команда из коридора.
Открылась форточка, вырезанная в двери, и надзиратель сунул в окошко кусок черного хлеба.
– Кипяток!
Алексеев протянул железную кружку.
Хлеб оказался малосъедобным: сырой, вязкий, годный разве только для лепки.
Вдруг услышал Алексеев голос, он шел из-под пола:
– Товарищ!..
Кто-то звал сдавленным шепотом.
Петр Алексеевич бросился в тот угол, откуда слышался зов.
– Я тут, товарищ!
– Поскреби около трубы, там щель, – откликнулся голос из-под пола.
Алексеев принялся ногтями расширять щель. Голос нижнего товарища слышался уже яснее:
– Почему не отвечаешь на стуки?
– Я вашей азбуки не знаю.
– Сними икону в углу. На оборотной стороне азбука записана.
В коридоре послышались шаги. Алексеев одним прыжком очутился возле стола. Когда затихли шаги, опять послышался голос из-под пола:
– Кто ты и откуда прибыл?
Алексеев назвал себя.
Пошел перестук по тюрьме. То затихая, то усиливаясь, перестук полз из камеры в камеру, с этажа на этаж.
После могильной тишины Пугачевской башни Петра Алексеевича поразил этот бодрый, многоголосый шум.
«Народу сколько!» – подумал он.
Почти два года был Алексеев оторван от жизни. Все, что происходило на воле, казалось подчас таким далеким, точно это происходило в детстве. Фабрики в Петербурге, фабрики в Москве, кружки, товарищи…
Уже на второй день пребывания в «предварилке» Алексеев убедился, что она заключает в себе много такого, что делало ее неизмеримо ценнее Бутырок. Правда, камера была похожа на гроб, но в этом гробу Петр Алексеевич почувствовал себя более человеком, чем в московской тюрьме. Он сидел в своей одежде и в своем белье, а не в арестантском, имел свой чайник, свою кружку, свое маленькое хозяйство. Он имел право не только читать книги, но и писать. А всего важнее была полная возможность сношения с товарищами.
Дом предварительного заключения – это неправильный многоугольник. Стены корпусов образовывали двор. Посреди двора была воздвигнута невысокая башня, от которой, как от центра, расходились решетчатые клетки. Крыш эти клетки не имели, и стоявший на башенке надзиратель мог видеть, что делалось внутри них. Заключенные называли эти клетки «загонами». Загоны служили местом для прогулок.
Политических заключенных было очень много. В «предварилке» собрались обвиняемые по «процессу 50-ти». Они, все эти политические, считали своим долгом не покоряться тюремной дисциплине и действовали по формуле: «Нас законопачивают, а мы расконопачиваемся». Они перестукивались в камерах, переговаривались «по трубам», переписывались с этажа на этаж.
Они не хотели гулять в одиночку. Надзиратель вводил политического в загон, а тот шмыг через верх – и к товарищам! Начальство увещевало, грозило взысканиями, но все это ни к чему не приводило: политических было чересчур много, и все они были непокорны. Пришлось начальству примириться с этим злом.
Шестнадцатого февраля 1877 года на прогулке Алексеев встретил друзей-москвичей: их привезли из Петропавловской крепости. Джабадари, Чикоидзе, Цицианов, Георгиевский бросились к Алексееву: поцелуи, объятия, радостные возгласы.
Подошли и рабочие: Семен Агапов, Баринов, Пафнутий Николаев.
Алексеев хотел рассказать товарищам о себе, о том, что он пережил и передумал, но вместо этого вдруг предложил:





