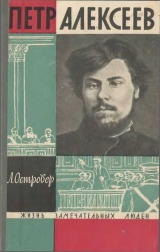
Текст книги "Петр Алексеев"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Гостя привел! – заявил грибовец.
Один из завтракающих, плечистый, с одутловатым лицом и курчавыми темными волосами, приветливо взглянул на Алексеева.
– Садитесь, – предложил он. – Гостям мы всегда рады.
Алексеев присел к столу. Молодуха – сероглазая, с веселой, пытливой улыбкой – налила кипяток в жестяную кружку, придвинула ее к Алексееву.
– Из каких будете? – спросила она, нарезая хлеб. – В артели живете или сами по себе?
– Один живу.
– Знаете, кто к нам пожаловал? – вмешался в разговор грибовец. Он в эту минуту умывался над ведром. – Герой – вот кто! Душегуба мастера взнуздал!
Старик, тачавший сапог, подошел к Алексееву и строго спросил:
– А не вырвется мастер-то из узды?
– А это уж от нас зависит, – ответил Алексеев.
– Как так от нас? – удивился старик. – Мастер – он мастер и есть. Пес он хозяйский. Тронь его – хозяин за него заступится.
– А за нас, думаешь, некому вступиться?
– Кому мы нужны? – горько усмехнулся старик.
– Мы-то очень нужны! – сказал Алексеев. – Все нашими руками создается. Мы фабрику построили, мы машины сделали, и мы же на этих машинах работаем. Мы – всё! Мы богатство создаем! Но силы своей не сознаем, в одиночку выступаем. Оттого и не страшны мы капиталистам. А если всем народом поднимемся… Подумай, дедушка: хозяев-то кучка, а нас, тружеников, сколько?
У грибовцев Алексеев задержался до полудня. Народ попался смышленый, любознательный. Они забросали Алексеева вопросами. Их все интересовало: и почему крестьян с земли согнали, и почему рабочему человеку живется так трудно, и почему царь защищает фабриканта. Не успевал Алексеев ответить на один вопрос, как тут же задавался следующий.
– Вот это настоящие слова! – подвел итог беседа ткач в красной рубахе. – Только ты, Петр Алексеевич, к нам почаще приходи.
Бегут дни – скоро в Питер!
В среду 25 марта с утра Петр Алексеевич ушел с фабрики, сказав мастеру, что отец приехал из деревни. Сторож Скляр, дежуривший у ворот, ехидно спросил:
– Что так вырядился? На свадьбу пригласили?
Вопрос сторожа озадачил Алексеева: он только теперь заметил, что. на нем тонкая поддевка, а под ней праздничный костюм. Одевался он механически: не думал о том, что надевает.
– Невесту иду смотреть, – шутливо ответил Петр Алексеевич, хотя ему было не до шуток: ведь рыжий Скляр донесет управляющему Григорьеву.
Алексеев, не торопясь, переулками вышел на Немецкую улицу. На воротах пестрели записки: «Сдается комната», «Сдается квартира». Один домик ему понравился: приветливый, зеленый, с цепочкой старых берез по фасаду.
Хозяйка показала комнату: большую, с тремя окнами, с белыми кисейными занавесками и цветами на окнах, с картинками на стенах, с хорошей чистой постелью.
– Большая семья у вас? – спросила хозяйка, видя, что комната понравилась съемщику.
– Жена да я. А у вас как?
– Одна я. Родственников никаких.
Грустно звучала ее речь, грустны были и ее глаза.
– Давно тут живете?
– Я тут родилась, тут замуж вышла, тут и мужа похоронила.
Понравилась комната, понравилась и хозяйка. Петр Алексеевич положил на стол десять рублей.
– Снимите с ворот билетик.
– Сегодня переедете?
– Считать будем с сегодняшнего дня, но переедем только одиннадцатого апреля.
– А вашей супруге понравится? Может, с нею зайдете?
– Жена в деревню уехала. Она у меня не из капризных, – было бы чисто, уютно, и, главное, тихо. Шуму она не любит.
– Тогда ей у нас понравится. – Хозяйка подсела к столу, написала расписку. – А теперь пожалуйте чай пить.
– Некогда, Марья Константиновна.
Алексеев попрощался. Возле двери хозяйка спросила:
– Паспорта для полиции сейчас сдадите?
– Зачем сейчас? Когда переедем.
На улице было солнечно – вправду, весна. У людей веселые лица; детишек много; звонко расхваливают лоточники свой товар.
Алексеев повернул в сторону Пантелеевской улицы.
Внезапно хлынул дождь, крупный, частый; он с силой забил по земле, заволакивая ее мелкой водяной пылью. Пешеходы спешили под укрытия. Дети стайками жались к заборам.
Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С крыш еще капало, но небо уже сияло весенней голубизной.
Обходя лужи, Алексеев нечаянно наступил ногой на куклу.
От забора отделилась девочка, худая, в плохоньком пальтишке. Подбежав, она из-под ноги прохожего выхватила свою куклу и расплакалась.
– Эх, незадача!.. – произнес Алексеев, опустившись на корточки перед девочкой. – Сломал… Что ты скажешь!.. Ну, ничего, милая, купим новую.
Он взял девочку за руку. Отправились они к ларьку, где и выбрали куклу в цветастом сарафане.
– Одна ты у своей мамани? – спросил он, подавая девочке куклу.
– Братец еще есть у меня, – быстро откликнулась девочка. – Только он еще маленький.
Алексеев купил погремушку.
– Дай своему братцу. Скажи: дядя Петя подарил. – И, погладив девочку по голове, скорым шагом направился к двухэтажному деревянному дому с желтой, на весь фасад, вывеской: «Трактир Н. П. Попова».
В трактире пахло кислым. На зеркальном окне была выведена желтой краской большая надпись: «Распивочная продажа пива и меда, а также крепкого». По стенам, выкрашенным в канареечный цвет, висело несколько лубочных картин. Самый видный предмет в заведении – буфет, уставленный чайниками, чашками, стопками.
За стойкой стоял хозяин – плотный мужчина с черной бородой, ласковой улыбкой и плутовскими глазами. Только один столик был занят. За ним сидели Николай Васильев и парень в чуйке.
Петр Алексеевич подсел к ним.
– Ты любишь детей, Николай? – спросил он.
Николай Васильев удивился:
– Что ты, Петр! Женишься?
Алексеев с горечью ответил:
– С малых лет они в грязи, босиком, тело еле прикрыто. А вырастут, что их ждет? Ярмо, фабричная вонь…
– Ты это к чему?
– Девочку встретил, вот и вспомнил. Сколько их таких, несчастных! – И, махнув рукой, словно отгоняя от себя мрачные мысли, спросил парня в чуйке – А ты что такой скучный? Неудача у тебя?
– Откуда удаче быть! – тоскливо откликнулся парень. – Мастера по цеху шныряют, к каждому моему слову прислушиваются. Того гляди, еще полиций передадут.
– И ты испугался? – строго спросил Николай Васильев.
– Испугаешься! Давеча в нужнике книжку народу читал. Налетел мастер: «Ты, такой-сякой!» Хорошо, что книжка была разрешенная…
В трактир вошел Пафнутий Николаев. Он подошел к столику, поздоровался и, обращаясь к Петру Алексеевичу, неласково сказал:
– Опять без литературы меня оставили!
Алексеев заказал чай, потом обратился к Пафнутию;
– Во-первых, садись.
А когда тот присел, Алексеев продолжал:
– Скажи, Пафнутий, не раздаешь ли ты книжки таким, кто грамоте вовсе не обучен?
– Что ты, Петр Алексеевич!
– Ты не удивляйся. Есть у нас такой пропагандист – на раскурку книжки раздает. Да и ткач он плохой: не уважает его народ.
– Кто это?
Алексеев не ответил: он говорил о своем брате, Власе.
– Вот что, друзья, – сказал он. – У Носова во второй ткацкой работает артель грибовцев. Подзаняться надо с ними…
Официант подал на стол два чайника: один большой, с кипятком, другой маленький, с заваркой. Алексеев разлил чай по стаканам.
– Кого бы вы посоветовали на место нашего горе-пропагандиста? – спросил Петр Алексеевич, когда официант отошел от стола.
Николай Васильев взял со стола кусок хлеба и, разламывая его, тихо ответил:
– Есть у меня на примете толковый парень – Акулов. Он в Серпухове работал. А теперь он у Гучкова. Ему можно кружок поручить.
– И у меня есть один, – заявил Пафнутий Николаев. – Тюрин его фамилия. Работает он у Бабкина и у меня в кружке занимается.
Алексеев откусил кусок сахара, сделал несколько глотков из чашки и размеренно сказал:
– Обоих приспособим. Ты, Николай, направь Акулова к грибовцам, пусть занимается с ними. Толк будет: народ хороший. А ты, Пафнутий, уговори своего Тюрина бросить работу у Бабкина, – пусть нанимается к Носову, во вторую ткацкую.
Склонившись над столом, следя глазами за трактирщиком, Алексеев достал из бокового кармана пиджака сверток и быстро придвинул его к Пафнутию Николаеву:
– Тут найдешь тетрадку – «Манифест Коммунистической партии», тот самый, про который я тебе давеча говорил. Ты этот манифест сначала сам прочитай. Вникни в суть. А суть та, что рабочему человеку за свои права бороться надо, вырвать надо эта права из лап буржуазии. Вот в чем суть!.. Когда прочитаешь манифест, Федору его передашь. И в кружках зачитаете. Теперь, Пафнутий, рассказывай, что на твоей фабрике делается.
Алексеев слушал внимательно, часто прерывал рассказчика:
– С грамоты начинайте, с грамоты! Рабочий сам должен читать. С голоса он не так много поймет.
Долго длилась беседа.
Пафнутий ушел.
Алексеев заказал еще «пару чая», сам разлил по чашкам и неожиданно обратился к Николаю Васильеву:
– Чего наш Ваня так насупился? – И, повернув голову к парню в чуйке, спросил: – Чего надулся? Или обиделся?
– Не красна девица.
– То-то! – в том ему произнес Николай Васильев. – Хотя теперь и девицы стали в делах разбираться.
– Студентки, – огрызнулся парень.
– Что ты все, как сом, под корягу прячешься? – с заметным раздражением повысил Николай Васильев голос. – Чем ты недоволен? Испугался чего? Скажи. Никто тебя силком держать не станет. Не понимаешь чего – спроси…
– Каверзные вопросы задают мне. А я что, студент, чтобы все знать?
– Опять про студентов! Студенты свое дело делают, но и ты своим умом живи. А про каверзные вопросы выдумал.
– А про акционерные общества и почему их столько развелось – это не каверзные вопросы? – с отчаянием в голосе спросил парень.
Николай Васильев поклонился Ване:
– Здравствуй, кум! Ездили-ездили – и никуда не приехали! Сколько раз мы с тобой об этом говорили!
– Не говорили.
– А говорил я тебе, что мужики от бескормицы в город бегут, на фабрики?
– Говорил.
– А кто фабрики строит? Помещик. Много денег он от царя за свои пустоши получил. Строит еще мироед, что на нашей с тобою нужде нажился. И из-за границы толстосумы налетели. Учуяли, что у нас можно на грош пятаков купить, что мужик наш с голодухи и камни на холке таскать будет. Говорил?
– Да разве все упомнишь, о чем ты говорил? Уволь меня, Васильев, не способен я к этому делу.
– Ты, Ванюша, парень грамотный, – мягко сказал Николай Васильев. – Прежде чем с народом говорить, ты книжечку сам почитай да чаще на квартиру к нам являйся. Народ теперь до правды хочет добраться, ты ему только дорогу укажи. Когда у тебя кружок соберется?
– В субботу.
– Я приду к тебе, помогу.
Ваня сказал обрадованно:
– Вот это дело! А то, ей-богу, один не управлюсь.
– Слышал, Петр Алексеевич? Грамотный парень, а не справляется. Эх, Ванюша, счастливый ты человек! Зрячий, понимаешь, Ваня, ты зрячий! А я вот до тридцати лет дожил и читать не умею. Все со слуха повторяю. – И на лице Николая Васильева появилась горькая усмешка…

Когда Ваня ушел, Петр Алексеевич обнял за плечи Васильева.
– Ты не очень убивайся, Николай, из парня будет толк.
– В нашем деле смелость нужна, – как-то грустно ответил Васильев, – а он робкий. Мы с тобой, Петруха, по проволоке ходим. Пока ходится, опасности не замечаешь. А если поскользнемся, Петруха, если поскользнемся? Заберут в полицию такого Ванюшку, а он от робости давай все выкладывать. Погубит все дело.
– Не погубит, Николай. Назовет он пяток имен, ну, десяток. Больше сам не знает. А нас сколько? Много сотен. От дуба отрежь десяток ветвей, дуб дубом останется. Вот Грачевского арестовали, Союзова арестовали, что мы – слабее стали? Почитай, во много крат сильнее. Весну не Остановишь, и народ арестами не запугаешь.
– Ну, раз ты спокоен, – помедлив, сказал Васильев, – то мне и подавно нечего беспокоиться. Я на фабриках не работаю, хожу по трактирам, бельишком поторговываю – никто на меня и внимания не обратит.
20
В московском жандармском управлении было два генерала: генерал-лейтенант Слезкин и генерал-майор Воейков – начальник и заместитель. Роста они были одинакового – гвардейского, но Слезкин тонкий, нервный, как скаковая лошадь, а Воейков толстый и спокойный, как битюг. Слезкин в юности был гусаром и пошел в жандармы из выгоды, Воейков же окончил юридический факультет и стал жандармом по убеждению.
Два генерала – две школы. Слезкин – николаевской: посылай на казнь из милосердия к осужденному. Воейков – школы шефа жандармов Потапова: хватай без разбора, потом разберешься.
Два генерала – два направления. Но Слезкин – начальник, и поэтому приходилось Воейкову действовать «в обход».
Еще в июне 1874 года Александр II поручил генералу Слезкину произвести «дознание о распространении в народе в разных местностях империи преступной пропаганды». Слезкин с тремя адъютантами, тремя прокурорами и с молоденькой артисткой Баскаковой в качестве чтицы объехал восемь губерний. В результате этой поездки появился труд на 24 802 листах. Писали адъютанты, писали прокуроры, писали чиновники для особых поручений при губернаторах – генерал Слезкин только редактировал: «да» он переделывал на «нет», вместо «28 или 36 человек» он писал: «2–8 или 3–6 человек», слово «рабочий» он всюду переправлял на «недоучившийся семинарист». Вывод из доклада генерала Слезкина напрашивался сам собой: с преступной пропагандой покончено!
Доклад генерала Слезкина был готов в марте 1875 года, как раз в то время, когда на рабочей карте генерала Воейкова появились десятки новых красных точек: из донесений платных и добровольных шпионов стало известно, что на многих московских фабриках возникли революционные кружки. Генерал Воейков понял, что в Москве появилась новая организация – большая, неуловимая; появились новые люди – ловкие, опытные и осторожные.
По небу плыли белые облака со стальными подпалинами.
Дождя не было, а воздух был пронизан сыростью.
И в такой кислый день Слезкин сидел в коляске без шинели. Молодой жандармский офицер, спутник Слезкина, увлеченно о чем-то рассказывал, но Слезкин рассеянно смотрел на убегающие назад дома, на людей, снующих по тротуарам, и время от времени притрагивался большим пальцем левой руки к седым усам.
Серые рысаки быстро домчали коляску до дома генерал-губернатора; кучер остановил лошадей не перед парадным подъездом на Тверской, а свернул в переулок и въехал в широкие ворота. Офицер проворно выскочил из коляски и распахнул дверцу.
Слезкин выгрузился медленно, по-стариковски, но, очутившись на земле, приосанился и молодцеватым шагом, гремя волочащимся за ним палашом, направился в дом.
В коридоре было темно. Слезкин не видел охраны, хотя знал, что где-то тут дежурят его «молодцы»,
– Есть тут живая душа?
Словно из-под земли, выросли два охранника.
– Григорий Иванович у себя? – спросил Слезкин, не ответив на приветствие.
– В диванной, ваше превосходительство!
Слезкин, подобрав палаш, направился к белой двери, на которой смутно отсвечивало золото затейливого рисунка. Не постучав, Слезкин вошел в комнату.
На длинном столе стояли хрустальные вазы. Узкоплечий человек с большими пушистыми усами, держа на весу вазу, разглядывал в ней что-то. Это и был Григорий Иванович Вельтищев – не то камердинер, не то наперсник князя Долгорукова.
– Здравствуй, Григорий Иванович!
– Здравствуйте, – сдержанно ответил камердинер. Он поставил вазу. – Когда изволили приехать?
– Только с вокзала. Как князь?
– Туча.
– По какому поводу?
– Вами недоволен. Говорит, «караул» надо кричать, а вы поете «аллилуйя».
Слезкин улыбнулся: вон оно откуда ветер дует! Всю дорогу из Петербурга в Москву он думал о том, что, собственно, произошло. Четыре дня носились с ним в Петербурге, как с дорогим гостем: Потапов – шеф жандармов и начальник Третьего отделения – возил его к графу Палену, министру юстиции, тот – к царю. Доклад прошел блестяще: царь поднялся из-за стола, чтобы поблагодарить Слезкина стоя. Из дворца увез его градоначальник Трепов «откушать в семейном кругу». А на пятый день – отшатнулись от него все. Когда он явился с визитом к графу Палену, тот его не принял, а непосредственный начальник, Потапов, увидев его вчера в приемной, удивленно взглянул на него и раздраженно спросил: «Вы еще в Петербурге?»
Слезкин понял, что кто-то «вымазал его дегтем». Но кто?.. И вот теперь он получил ответ: всесильный Долгоруков! Друг царя!
Начальник московского жандармского управления сразу почувствовал, что он стар, что ноги дрожат, что из спины уходит сила, придававшая фигуре стройность. Он присел к столу и заискивающе посмотрел на «всесильного» Вельтищева.
– Григорий Иванович, мне бы с князем поговорить.
– Нельзя. Убираются.
– Очень надо.
Григорий Иванович пристальным взглядом умных глаз окинул Слезкина.
– Прижали, – сказал он участливо. – А вы, генерал, не горюйте, – добавил он добродушно. – Образуется. Посидите тут, а я посмотрю, как князь. Если вёдро – позову.
Григорий Иванович ушел. Слезкин прислонился головой к спинке стула, закрыл глаза. В голове шумело. Наплывала дрема.
– Пожалуйте, ваше превосходительство!
Слезкин вскочил, подобрался и валкой кавалерийской походкой зашел в спальню князя.
В глубоком кресле завернутый в пудер-мантель сидел генерал-губернатор князь Долгоруков. Щегольски одетый француз Леон Эмбо прилаживал паричок на лысую голову князя.
– Поздравляю, генерал.
– С чем, ваше сиятельство?
– Тебя государь жалует брильянтами к Александру Невскому.
– Спасибо, ваше сиятельство, за приятную новость.
Парикмахер приклеивал волосок к волоску. Григорий Иванович стоял в стороне и подбадривающе смотрел на Слезкина.
– Тебе Потапов показывал мое письмо?
– Не показывал, ваше сиятельство.
– Странно…
В эту минуту парикмахер завивал колечком усики князя, и слово «странно» прозвучало плоско, без буквы «р».
– Воейкова видел?
– Нет еще, ваше сиятельство.
Парикмахер отступил на несколько шагов, поворачивая голову вправо и влево, проверял свою работу, и, оставшись ею доволен, приблизился к креслу балетными па и осторожно, кончиками пальцев, снял с князя пудер-мантель.
Долгоруков оказался в одном белье, в туфлях на босу ногу.
– Ваше сиятельство… – начал парикмахер.
– Пошел! – отмахнулся от него князь. – Григорий, проводи господина Леона.
Парикмахер собрал свой инструмент и вышел из комнаты танцующим шагом. За ним последовал и Григорий Иванович.
– Я недоволен тобой, генерал, – сказал князь, продолжая сидеть неподвижно, как при парикмахере. – В государственных делах нет пауз: одно наплывает на другое. И то, что было хорошо сегодня, завтра уже может быть плохо. Государя надо было успокоить, потому и нужен был твой доклад. Но ты-то не первый год носишь голубой мундир. Ты-то должен был знать, что преступная пропаганда вовсе не пошла на убыль – наоборот, усилилась. Успокоил государя, получил награду, закройся в кабинете с Потаповым и Паленом и доложи: «Плохо, ваши высокопревосходительства, мы готовимся к войне с турками, а у нас Парижской коммуной попахивает. Надо усилить корпус жандармов, нужны дополнительные ассигнования на охранные мероприятия». А ты сам поверил в свой доклад и на весь Петербург затрубил в победный рог.

Здание тюрьмы предварительного заключения, в котором находился Петр Алексеев.

Выступление Петра Алексеева на суде. Рис. художника Гольдштейна.

Лидия Фигнер.
– Ваше сиятельство, у нас нет больших дел!
– Ты хочешь сказать, что нет раскрытых больших дел? Согласен. Но это еще не значит, что нет преступной пропаганды. Она есть. Раскрой ее. Создавай большие дела. И пойми, генерал, что у нас не может быть спокойно. В шестьдесят первом мы повернули резко влево, в шестьдесят шестом – резко вправо. Карета и та после резких поворотов кренится набок, а мы поворачиваем такую махину, как Российская империя. Вот истоки преступной пропаганды. А ты в победный рог трубишь!
– Ваше сиятельство! Москва…
– Знаю, что ты скажешь, генерал. В Москве нет большой промышленности. И слава богу! Не так закоптили небо, как в Петербурге. Но ты, генерал, забываешь, что древнее слово «Москва» звучит весомее, чем нерусское словцо «Питербурх». Тут, в древней Москве, мы должны печься о святости монархии. А что получилось? В прошлом году Петербург разгромил наших доморощенных дантонов и Маратов, а у тебя в Москве была тишь да гладь. Недоволен я тобой, генерал. – Долгоруков поднялся; шаркая туфлями, он подошел к зеркалу. – Артист этот французишка! Посмотри, какие колечки! Усики, как у гусарского корнета. И куда это Григорий запропастился?
– Здесь я, ваше сиятельство!
Григорий Иванович вышел из-за ширмы.
– И как тебе не совестно, Григорий. Пожаловал к нам дорогой гость, а ты его даже чаем не напоил.
– Завтрак уже ждет в столовой.
– Слышал, генерал? Не человек, а лампа Аладдина. Давай, лампа Аладдина, одеваться. А ты, генерал, почитай пока циркулярное письмо князеньки Кропоткина. На ночном столике лежит. Любопытное письмецо. Одно заглавие чего стоит! «Должны ли мы заняться распространением идеала будущего строя?» Скромный у этого князеньки идеал: насильственный социальный переворот. А ты, генерал, говоришь, что больших дел нет!
Долгоруков сказал это добродушным тоном, но в его маленьких, по-азиатски скошенных глазках виднелась такая откровенная насмешка, что генерал Слезкин сжался, сгорбился и упавшим голосом попросил:
– Разрешите откланяться, ваше сиятельство.
– Чего ты, голубчик? – засуетился Долгоруков. – Позавтракай со мной.
– Увольте, ваше сиятельство.
– Не уволю! Так хорошо начался день, а ты его хочешь испортить.
– Отпустите их, князь, – вступился Григорий Иванович. – Генерал ведь к вам прямо с поезда. Им отдохнуть надо.
– Ну, ты… лампа Аладдина!
– Действительно устал, ваше сиятельство.
– Что ж, – огорченно заявил Долгоруков, – насилу мил не будешь. Только ты, генерал, непременно приезжай вечером. Танцы будут.
– Почту за честь, ваше сиятельство.
– Кстати, скажи Воейкову, что благословляю.
– На что, ваше сиятельство?
– Он знает…
Слезкин не поехал домой. Злой, подавленный, он зашел в свой служебный кабинет и, отбросив фуражку, крикнул адъютанту:
– Попроси ко мне генерала Воейкова!
Тяжелыми шагами, почти не отрывая ног от пола, вошел в кабинет генерал Воейков. Широкий, от плохого портного, мундир делал его фигуру громоздкой и неуклюжей. Брюки лежали на ботинках гармошкой.
– Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршей милостью, – тепло сказал он, приветливо глядя на Слезкина из-под припухших век.
– Вы растроганы, генерал? – ехидно спросил Слезкин, которого сегодня раздражала и неуклюжая фигура Воейкова и его мужицкое лицо с толстыми веками.
Воейков не заметил или не хотел заметить ехидной улыбки своего начальника; он ответил просто:
– Признаться, да.
– Точно так, как Щепкин?
– Какой Щепкин?
– Актер.
– Не понимаю, ваше превосходительство.
– Так и быть, генерал, поясню. Актеришка из провинции дебютировал в Малом театре и для своего дебюта выбрал роль городничего в «Ревизоре». Старик Михайло Семенович Щепкин явился на репетицию и уселся возле суфлера. Актеришка разошелся, играет с жаром, с надрывом. Режиссер видит: Щепкин плачет, слезы текут по лицу. «Что, Михайло Семенович, растрогались?» – «Да, батюшка, – отвечает Щепкин, – плачу об искусстве, как его этот молодой человек искажает».
Воейков понял намек. Он приподнял свои тяжелые веки и холодным взглядом окинул начальника.
– Вы несправедливы, ваше превосходительство. Я никогда, нигде и никому не говорил, что ваш доклад не полностью совпадает с действительностью.
– Действительность, генерал, – понятие относительное, а не абсолютное. Я в своем докладе изобразил такую действительность, какую хотели видеть в Петербурге.
– Гарью пахнет, ваше превосходительство!
Слезкин сделал несколько шагов по кабинету, выглянул на улицу: мокрый снег, слякотно. Он захлопнул форточку. На язык просились грубые слова, брань. Наябедничал князю, а тот – Потапову. В начальники хочет пролезть! Повремени, голубчик, Слезкин еще не выдохся: тебя, мужлана, я еще заставлю таскать из огня каштаны для Слезкина.
– Вот что, генерал, – сказал он спокойно, деловым тоном, – я видел князя, и мы с ним обо всем договорились. В Петербурге хотят видеть новую действительность. Вот вы, генерал, и создавайте ее. Хозяйничайте, как находите нужным. Заранее одобряю все ваши распоряжения.
Слезкин был мудрее генерала Воейкова: он знал, что грачи не делают весны. «Новую действительность» создадут в Петербурге, а князь Долгоруков и Воейков лишь суетятся и галдят, как грачи на талом снегу.
– Но, генерал, – продолжал Слезкин, шагая по кабинету, – новая действительность должна строиться по-новому. Чернышевскому, когда он стоял на эшафоте, бросили букет цветов. Этого нельзя забыть, генерал. В новой действительности не должно быть ни эшафотов, ни цветов. Должен быть суд со свидетелями и защитниками, но подсудимых должно быть так много, чтобы общество ужаснулось, чтобы общество увидело пропасть у своих ног, чтобы люди общества с благодарностью вспомнили тех, кто их охраняет.
Воейкова не смутил размах Слезкина: подсудимых для большого процесса он добудет, но… Он понял, что его начальник хитрит. Кому в угоду? Потапову или Долгорукову? Воейков решил вынудить Слезкина проговориться:
– В Москве тюрем не хватит.
– В России, чтобы тюрем не хватило! – насмешливо ответил Слезкин.
– Я, ваше превосходительство, говорю о Москве. Князь предполагает очистить Москву.
– А мы с вами, генерал, Россию очистим. Кстати, генерал, вы князя не поняли. Князю важно, чтобы первое слово сказала Москва. Вот мы с вами первое слово и скажем. Мы начнем, а Петербург закончит.
Перед Воейковым карта с красными кружочками; каждый кружочек – фабрика. Из каждой фабрики он вылавливал по нескольку человек. Многие арестованные называли друзей, товарищей; и вот генерал Воейков, закрывшись на ключ в своем кабинете, выбирает из протоколов те фамилии, которые встречаются по нескольку раз. Арестованный Платонов назвал Петра Алексеева: он-де давал ему запрещенные книжки; арестованный Влас Алексеев также назвал своего брата Петра Алексеева: он дал ему на масленице два экземпляра «Хитрой механики».
Воейков написал на отдельном листе: «Петр Алексеев».
Двадцать седьмого марта, в отсутствие Петра Алексеева, зашел в закуток управляющий фабрикой Григорьев. Старик Савелий сидел за столом и разглядывал картинки в большой книге.
– Картинками тешишься? – дружелюбно сказал Григорьев, похлопав старика по спине. – А где твой сожитель?
– Нет его, милок, не приходил еще.
– Что-то он редко дома бывает.
– А чего ему тут делать? Молод он. Отработал, что полагается, и на воздух его тянет.
Григорьев уселся, обнял старика за плечи.
– Знаешь, Савелий, зачем я пришел? Хочу Алексеева в помощники мастера продвинуть. Как, по-твоему, не обидно будет старикам?
– Ты, милок, управитель, ты и распоряжаешься. А против твоей воли кто пойдет?
– Значит, советуешь? Старикам не будет обидно?
– Какая тут, милок, обида? Алексеев свое ремесло знает.
Григорьев поднялся.
– Значит, хозяину скажу, что старики одобряют, а ты, Савелий, скажи Алексееву, что завтра вечером приду, пусть никуда не уходит.
– Скажу, милок.
Петр Алексеев вернулся домой около полуночи. Савелий все еще сидел за раскрытой книгой.
– Почему не спишь?
– Тебя дожидаюсь. Не нравится мне что-то, Петр Алексеевич…
Савелий передал Алексееву разговор с Григорьевым.
– Чего ты забеспокоился, старик? Дело житейское.
– Смотри, Петр Алексеевич, как бы худа не получилось…
– Не получится, Савелий. Давай свет тушить и спать.
А утром, позавтракав, Петр Алексеевич достал из своего сундучка белую рубаху с цветным шитьем по вороту – ту рубаху, которую он купил в день приезда из деревни и в которой хотел 8 апреля поехать в Питер, – аккуратно увязал ее носовым платком и спрятал за пазуху; потом разыскал Терентьева.
– Ухожу, брат, по делу, а если не вернусь, то возьми мои вещички и рассчитайся с Фроловым – я ему три рубля должен.
– Петр Алексеевич! – воскликнул стоявший тут же старик Савелий.
– Все в порядке, Савелий. Скоро свидимся.
– Дай бог!
Алексеев выбрался из фабрики не через калитку, где дежурил рыжий Скляр, а через окно в подвале.
Вечером нагрянул в казарму генерал Воейков с восемью жандармами. Впереди семенил толстенький Григорьев.
В закутке светло. За столом сидит старик Савелий, разглядывает картинки.
– Где Алексеев?
– Нет его, милок. Не приходил еще.
Генерал Воейков – грузный, флегматичный – уселся за стол; курил папиросу за папиросой. Вскоре это ему наскучило.
– Приступай к обыску!
Жандармы перерыли сундучок Алексеева – ничего запретного не нашли. Сбили замок со шкафа: книги.
– Клади на стол!
Жандармы носили книги осторожно, на вытянутых руках, словно они были из стекла.
Воейков, пересмотрев книги, понял, что наконец-то напал на одного из самых главных: рядовой рабочий не читает таких книг! «Природа и ее явления», «Очерки из фабричной жизни», «Раскол и его значение в русской истории», «Беседы по русской истории», «Клод Ге»… Генерал так расчувствовался, что отрядил двух жандармов в ближайший трактир за ужином для Григорьева и для Савелия.
– Мы должны бодрствовать по службе, – сказал он, угощая управляющего и старика, – а вы, господа, страдать не должны.
И Григорьев и старик Савелий приняли угощение с охотой: Григорьев, предвкушая еще большую награду за выдачу «государева преступника», Савелий из озорства – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он-то знал, что генералу придется долго ждать Петра Алексеевича…
После полуночи Воейков начал нервничать. Сначала он молча поднимался с табуретки и вновь усаживался, потом стал придираться то к одному, то к другому жандарму; наконец около трех часов ночи он вдруг накинулся на Григорьева:
– Говорил тебе, стереги. А ты что? Упустил его!
– Ваше превосходительство! Все следили за ним, а он, видите, точно в воду канул.
В шесть часов, когда первые редкие лучи заглянули в закуток, генерал Воейков надел шинель и лающим голосом бросил:
– Пошли!
21
Ткач Яков Яковлев получил в субботу 28 марта получку – четыре рубля шестьдесят копеек – и прямо с фабрики направился в трактир. Там он должен был встретиться со своим братом Трофимом – приказчиком фабрики Тюляева.
В трактире было людно: одни пили чай, другие – водку, и все разговаривали в полный голос.
За соседним столом сидели, сгрудившись, человек шесть. Из тарелок, что стояли перед ними, шел приятный парок.
Яков Яковлев был зол. Приближается пасха, надо детей приодеть, припас заготовить, а денег чуть! Жулик этот Шибаев! Одних гарусных кушаков Яковлев сдал ему двести шестнадцать, а сколько бумажных? Наработал рублей на двенадцать, а получил четыре рубля шестьдесят копеек. Что на них приобретешь? Все надежды на Трофима – если он не выручит, загрызет Варвара… Не Варвара, а чистый варвар! Знать ничего не желает: добывай денег на пасху! «Чем я хуже других?» Толкуй с бабой! У кого добыть? Добро бы у Гучковых работал – там народу больше тысячи: всегда найдется, у кого трешку перехватить. А у Шибаева разве фабрика? Так, лабаз, – три десятка работников и жулик хозяин. У кого тут разживешься. А Варваре все нипочем: добудь – и весь сказ!





