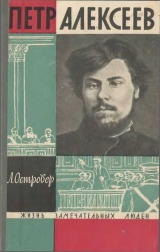
Текст книги "Петр Алексеев"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Вокруг стола расставлены стулья, но на них никто не сидит. Все девушки стоят у окна, смотрят на дорогу. Они одеты скромно: неизменные белые воротнички, легкие блузки. И все же чувствуется, что сегодня они хотели принарядиться: Варвара Александрова перехватила свои густые волосы широкой лентой; Евгения Субботина заколола воротничок розовой камеей; Александра Хоржевская как-то по-особому отгладила воротничок, и он загибается уголками, как у парижских художников; Вера Любатович – эта «монашка», как ее звали в кружке, и та украсила себя ниткой янтарных бус. Только Софья Бардина и Бетя Каминская словно нарочито оделись в самое затрапезное.
Девушки ждали гостей: трех юношей-студентов из России. Они познакомились с ними в Париже на лекции профессора Клода Бернара. Сначала шли расспросы, поиски общих знакомых, потом недомолвки, намеки, наконец – откровенный разговор. В России – трагично: провал за провалом, аресты косят революционеров, как град молодой колос. Нужна смена!
Оказалось, единомышленники!
Бардина пригласила их в Женеву: нельзя ли объединиться, нельзя ли работать рука об руку, нельзя ли слить кружок «фричей» с кружком «кавказцев», как юноши называли свой кружок, – ведь цель у них одна.
Вот гости подошли к дому, ищут табличку с номером.
Бардина громко сказала:
– Здесь! Входите!
В комнату они вошли гуськом: сначала Иван Джабадари – приземистый, очень подвижной юноша; за ним Михаил Чикоидзе, крупный, по-военному подтянутый, с густой шапкой волос; последний – Александр Цицианов, стройный, с яркими губами и в дымчатых очках. Все трое были смуглы, черны.
Чикоидзе и Цицианов, войдя в комнату, растерялись, точно не ожидали встретить такое большое общество; Джабадари вел себя преувеличенно шумно, подчеркивая свои права старого знакомца.
И хорошо, что Джабадари оказался таким немного развязным, девушек смущала солдатская выправка Чикоидзе (он был юнкером артиллерийского училища), смущали его глаза – упрямо, неотвязно устремленные в лицо собеседника, смущали дымчатые очки Цицианова и то, как он, понурив голову, уселся в угол.
Джабадари сразу завладел разговором. У него был приятный, густой голос. Он говорил быстро, склоняясь то к одному, то к другому, усиленно помогал себе руками и часто спрашивал: «Понятно?», хотя говорил о понятных вещах. Он рассказал, каких трудов им стоило добраться до Парижа, как он и Чикоидзе по приезде в Париж нанялись на работу в небольшую кузницу, чтобы поближе познакомиться с французскими рабочими.
– Покажи, Миша, свои мозоли!
Чикоидзе нехотя протянул руки.
– А у меня, посмотрите, руки потомственного пролетария. Понятно?
Джабадари рассказал, как ездил к Тургеневу и, к сожалению, не застал писателя дома, как ездил к Бакунину – и опять же неудачно, как ездил к Ткачеву…
Бардина с Каминской переглянулись: им не понравилось это «я ездил», «я говорил», но в их взглядах, кроме осуждения, было еще и другое: «попытаемся».
Незаметно Джабадари перешел к рассказу о России. Опять замелькали фамилии профессоров: Грубер, Бородин, Цион, Венгеров, и опять «я ездил», «я говорил».
И вдруг заговорил он о главном:
– Члены нашего кружка решили бросить университет. Решили отдаться целиком социалистической пропаганде. Понятно?
– Что вы считаете основой для будущей своей работы? – спросила Бардина. – Как вы мыслите себе руководство работой?
– Основа? Крестьянство – вот основа. Но работать сначала мы должны среди городских рабочих. Их-то мы должны широко вовлекать в нашу работу. Когда мы этих рабочих распропагандируем, они сами явятся проводниками социалистических и революционных идей среди крестьянства. Народ ждет призыва.
Он готов к бунту. По всей России рассыпан порох. Нужна спичка, чтобы все это запылало! Теперь скажу несколько слов о руководстве. Мы создали администрацию, но не постоянную, а сменную: каждый месяц будем выбирать в администрацию новых членов. И администрация не должна сидеть в Москве или Петербурге. В провинции! Ближе к деревне! Ведь цель, наша – создать свободную федерацию свободных общин. – Тут он повернулся к Чикоидзе. – Миша, я верно сформулировал?
– Да.
– А ты, Саша, как думаешь? Я сказал основное?
– Да, – подтвердил Цицианов.
Наступила тишина.
Джабадари обрушил на «фричей» лавину новых перспектив; и, хотя эти перспективы были созвучны им, находились в ладу с их собственными планами, все же девушки чувствовали себя неловко: нет, не этой дорогой они намеревались идти.
Юноши это поняли. Первым встал Чикоидзе:
– Мы и не ждали немедленного ответа. У вас свой устав, свои планы. Подумайте. И если разрешите, зайдем завтра.
Поднялась и Софья Бардина. Она сказала тихо:
– Видите, господа, мы о многом иначе думаем. Мы считаем, что народ к революции не подготовлен. Его еще надо готовить – для этого нужна длительная пропаганда. Мы считаем, что мало спички, чтобы вызвать революцию. Бакунин ошибается. И вообще в споре Бакунина с Лавровым мы не на стороне Бакунина. Поймите, господа, я сейчас не вступаю с вами в спор, я говорю это только для того, чтобы и вы подумали, чтобы и вы могли подготовиться к завтрашнему разговору. Мы, например, считаем, что хождение в народ – затея бесцельная. Идти нужно к рабочим на фабрики, нужно самому за станок становиться, жить одной жизнью с рабочими.
– Нужна организация! – подхватила Ольга Любатович.
– И организация нужна, – повторила Бардина. – Если не удастся создать всероссийскую организацию,
то, во всяком случае, необходимо на первых порах охватить главные индустриальные центры.
– Господа! – взволновался Джабадари, вскакивая со своего стула. – И я не все сказал. Конечно, будут у нас разногласия! Но мы постараемся сблизить наши уставы, найти приемлемые для всех нас формулировки. Ведь цель у нас одна! Понятно? Только прошу вас, пожалуйста, решайте поскорее. В России очень плохо, там ждут нас, ждут наших дел, а может быть, и… нашей жизни.
Последние слова, которые Джабадари произнес почти шепотом, убедили девушек больше, чем вся его длинная напористо-страстная речь.
Если бы можно было раздвинуть время, как раздвигают в театре занавес, и показать «фричам», к чему приведет эта встреча за чайным столом, ужаснулись бы они? Отступились бы они?
Девушки почти ничего не свершили из задуманного– только приступили к работе, и… Бетя Каминская удавилась в тюрьме, Александра Хоржевская повесилась в Сибири, Софья Бардина застрелилась после побега с каторги. Мера страданий не умещалась в их человеческих сердцах. Остальные «фричи», не только те, что сейчас притихли, ушли в свои мысли, но и те, что отсутствуют, облачены в арестантские халаты и бредут… бредут по каторжному пути…
Да, девушки ужаснулись бы, пожалуй, даже отвернули головы от страшного виденья, но не отступились бы: они стремились к подвигу и были внутренне подготовлены к нему.
Тряхнув головой, точно вырвавшись из глубокого раздумья, Софья Бардина сказала поспешно:
– Хорошо, господа. Мы ждем вас завтра.
Юноши ушли.
Александра Хоржевская – эта хорошенькая девушка с повадками озорного мальчишки – глянула на стол и, хлопнув в ладоши, весело воскликнула:
– Ну и хозяюшки! Даже чая гостям не предложили!
– Оскандалились, – буркнула Ольга Любатович.
– Нехорошо получилось, – грустно промолвила Каминская.
– Завтра поправим, – улыбнулась Бардина. – А теперь, девочки, давайте поговорим.
Юноши пришли и завтра и послезавтра.
Обо всем договорились: решили объединиться.
Джабадари выехал в Россию: с деньгами, которые дала Евгения Субботина, с транспортом революционной литературы.
«Фричи» приедут, скоро приедут.
17
Подъезжая к Петербургу, Алексеев вдруг забеспокоился: в городе ли товарищи?
Он вышел на привокзальную площадь. Раннее утро. Тишина. Дворники подметают улицы. Редкие пешеходы. Городовой в белой рубахе стоит посреди площади недвижный, как памятник.
Квартиры у Петра Алексеевича не было, к знакомым – далеко: надо дождаться линейки. Но ждать Алексеев не мог: его обуяла потребность действовать.
Он пустился пешком на Петроградскую сторону. Открываются магазины. Неожиданно для самого себя Петр Алексеевич зашел в первый же магазин и купил белую рубаху с ярким шитьем по вороту, а к ней тонкий, из крученого шелка поясок.
Дальнейшие поступки он уже совершал обдуманно: вымылся в бане, постригся, укоротил немного бороду; там же, в бане, почистил платье, надел новую рубаху и с крохотным свертком, аккуратно перевязанным, отправился на Монетную улицу.
Коммуна помещалась на втором этаже. Подойдя к дому, как обычно, с противоположного тротуара, Алексеев почувствовал недоброе. Все окна затянуты тяжелыми синими портьерами, а в крайнем окне, где жила Прасковья с братом, свисает с форточки черный плюшевый медвежонок. И портьеры, и плюшевый медвежонок, и даже закрытые на ночь окна убедили Петра Алексеевича, что квартира переменила хозяев.
Радостное возбуждение, которое жило в Алексееве от Новинской до Петербурга, то возбуждение, которое гнало его через весь город, сменилось тревогой: что с Прасковьей? Куда она переехала? И хотя Алексеев убеждал себя, что нет причин для тревоги, что неугомонный Василий Великий, по всей вероятности, подыскал лучшую квартиру для коммуны, все же сердце болезненно сжималось.
Самое простое было бы узнать у дворника, куда переехали прежние жильцы, но опыт конспиратора удерживал Петра Алексеевича от этого шага.
Он отправился на Лиговку, в Воздвиженскую артель. Артель была смешанная: там проживали рабочие и железнодорожники. Туда часто захаживал Василий Великий. Ходил туда и Петр Алексеев – для разговоров, для пропаганды. Среди малоразвитых литовцев выделялся кузнец Василий Грязнов – толковый, любознательный, грамотный. И он, подобно Петру Алексееву, искал «правду жизни», и он, подобно Петру Алексееву, найдя эту правду в учении революционеров, целиком отдал себя пропаганде.
К нему и отправился Петр Алексеевич.
В артели было тихо, сонно: часть рабочих уже ушла на работу, остальные спали после ночной смены.
Спал и Грязнов.
Алексеев решил посидеть на кухне, спокойненько дождаться пробуждения кузнеца, но это не удалось: болтливая стряпуха, обрадовавшись неожиданному слушателю, бросила свои дела и замогильным голосом приступила к длинному рассказу о своих печалях. Слушая ее, Алексеев еще острее почувствовал свою собственную беду – и не усидел на месте. Он зашел к Грязнову, разбудил его и, не дожидаясь, чтобы тот пришел в себя после сна, огорошил его резким вопросом:
– Что с коммуной на Монетной?
– Это ты, Петруха? – Грязнов приподнялся, несколько раз провел руками по лицу, словно умывался. – Вернулся, значит. Что с коммуной, спрашиваешь? Нет больше коммуны. Нет ее.
– А народ где?
– Народ? Кто за решеткой, кто успел уйти.
– Василий Великий?
– Ушел. Говорят, за границу перебрался.
– А его сестра?!
– Прасковья Семеновна? За решеткой,
Петр Алексеевич схватил Грязнова за плечи, тряхнул его:
– Врешь!
Грязнов тоже был не из слабеньких: резким тычком в грудь он оттолкнул Алексеева от себя и зло сказал:
– Ты чего разбушевался? Выпил, что ли?
– Где Прасковья Семеновна?!
– Сказал тебе: за решеткой.
Понял ли Грязнов, что произошло, или ему просто жаль стало товарища, как-то сразу поблекшего, притихшего, но он придвинулся к Алексееву, обнял его за плечи:
– Ты чего, Петруха, растревожился? Наше с тобой дело такое: сегодня спим на своей кровати, завтра – на тюремных нарах.
– Когда арестовали?
– Прасковью-то Семеновну? На прошлой неделе. Сюда как раз шла. На улице и взяли. Ничего, Петруха, не сделаешь: лютует полиция. Только и слышишь: того забрали, этот скрывается.
В голове Алексеева сумбур: прошлое, настоящее – все спуталось. Перед глазами – лица, в ушах – голоса, обрывки разговора. И все это утомляет, причиняет боль. То пробивается мысль: «Ты ее скоро увидишь», то проплывают перед глазами тюремные стены с зарешеченными окнами, то вспоминаются слова матери о жар-птице…
Петр Алексеев ушел из общежития. На улице, в людской толчее, потекли мысли спокойной чередой: подержат Прасковью Семеновну месяц, два, пусть даже год, два, но все же отпустят на свободу.
Солнце уже клонилось к закату, когда Алексеев подошел к дому № 18 7-й роты Измайловского полка. Флигелек, в котором жил младший брат Никифор, прятался в глубине двора за каретным сараем.
Никифор красил табуретку.
– Петр! – обрадовался он брату.
– Красоту наводишь?
– Не для себя. Хозяйка просила. – Он отложил кисть, вытер руки. – Давненько тебя не видел. Ты сегодня какой-то нарядный. Не к невесте ли собираешься?
– Собирался. Да вот увели невесту.
– Кто увел?
– Известно кто, лихие люди.
Никифор похлопал брата по плечу.
– Шутишь, Петруха. У тебя-то кто осмелится невесту увести? Небось голову оторвешь.
Петр сел, положил руки на колени.
– Ты прав, Никифор, пошутил. Что у тебя под глазом? Подрался?
– Какое там! Об станок стукнулся. Дрема напала, и… головой хлопнулся.
– А я сегодня из Новинской приехал.
– Неужто домой ездил? Как там? Мать здорова ли?
– Здорова. Весь день хлопочет. Хотя хозяйству грош цена: три курицы да бесхвостый петух.
– Отец деньги присылает?
– Не жалуется мать. А вот на Игнатку обижается: никогда о себе весточки не подаст.
– С него и спросу быть не может. Игнатка! Какой с него спрос? Кого видел в Новинской?
– Пафнутку Николаева помнишь?
– Это косого-то? Как не помнить! В прошлом годе мы с ним на рыбалку ходили.
– Как он? Серьезный человек?
– Ничего. Интересуется.
– Чем?
– Вообще. Любит рассуждать, как живут рабочие в Америке, что их там будто не так прижимают, как у нас. Только, по-моему, он это так – голыша по воде пускает. Больше для умного разговора.
– Не серьезный, значит?
– Почему не серьезный? Все же интересуется. А ты к чему спрашиваешь?
– К слову пришлось. Расскажи, Никифор, как дела у тебя? Много зарабатываешь?
– Может, чайку попьем? – И, не дожидаясь ответа, Никифор, раскрыв дверь, крикнул: – Федуловна! Не остыл самовар?
– Горячий, – прозвучал голос из коридора.
Никифор выбежал из комнаты и вскоре вернулся, неся на вытянутых руках медный самовар.
Поставив самовар на стол, он достал из шкафчика два стакана, каравай и небольшой кусок колбасы.
– Вот мы с тобой и попируем, – сказал Никифор виноватым голосом, чувствуя неловкость за скудное угощение. – Житье наше, сам знаешь, хлёбовое. Горячая вода есть, а вот сахар и заварку бог подает. – Он разлил кипяток по стаканам, придвинул к брату хлеб и колбасу. – Неудачный ты день выбрал для гостевания: завтра бы пришел, с получки и винцом побаловались бы.
– У меня, думаешь, гуще? Доля у нас с тобой одна – рабочая.
– Эх, браток, – как-то сразу погрустнел Никифор, – надоела эта рабочая доля! Говорят, каторжникам тяжело, а я думаю, что рабочим тяжелее. Каторжнику выйдет срок – и его на волю отпустят, а рабочему человеку никакого просвета. Как влез в хомут, так до гроба и таскать его будет.
– Есть просвет.
– Где ты его увидел? Задешево продались мы фабриканту, вот в чем беда. А какая у меня сила против фабриканта? Как я могу его заставить платить мне больше?
– Один ты не можешь. Один ты бессилен против фабриканта. А вот когда все рабочие к фабриканту подступятся, тогда он подобреет.
– А разве подговоришь всех? Помнишь, как в деревне сход собирали? До схода крику много, а соберут сход – людей нет. Иван телегу ладит, Петр ушел на рыбалку, а Прохор вовсе в бане парится. Вот и сговорись с такими!
– Сразу и не сговоришься. Сегодня с Иваном, завтра с Петром, послезавтра с Прохором. На такое дело надо набраться терпения.
– А кто будет сговор вести?
– Про политиков слыхал?
– Слыхал.
– Вот они и ведут этот сговор.
– Хотел бы я такого политика встретить.
– Зачем он тебе, раз ты не веришь в сговор?
– Хочу верить. Понимаешь, браток, хочу верить! Жить тошно! Ни сытости, ни радости.
Петр Алексеевич отрезал себе, кусок хлеба.
– Раз хочешь верить, то и политика встретишь. – Он сделал несколько глотков и, держа стакан на весу, грустно закончил: – Ты прав, Никишка, тошно жить, если не видишь просвета. – Вдруг он поднялся и сказал резко, упрямо: – Ломать надо. Все надо ломать!
– Петя… Что с тобой?
– Ограбили! Сердце вырвали! А я не сдамся. Не сдамся, Никишка!
– Петруша, что с тобой?
Петр Алексеевич опустился на табуретку, подпер голову обеими руками и тихо сказал:
– Устал я, Никифор.
– Может, приляжешь?
Петр Алексеевич прилег, не раздеваясь, и проспал до обеда следующего дня.
Никифора не было дома. Петр умылся, привел себя в порядок и отправился в город: ходил из трактира в трактир, – во все те места, где встречался со студентами, где встречался с рабочими-кружковцами. Знакомых не нашел.
Побрел Петр Алексеевич снова на Лиговку. И на этот раз ему повезло: там он застал двух приятелей – Грачевского и Ивана Жукова. Он кинулся к ним, жал им руки, обнимал, а слова произнести не мог.
У Петра Алексеевича были сложные отношения с обоими. Он уважал интеллигентов, преклонялся перед ними и все же не всех любил. Он убедил себя, что некоторые интеллигенты в своей тяге к мужику преследуют отнюдь не революционную цель: они как бы милостыньку раздают, благотворительностью занимаются. Хитрят с рабочим. Вместо того чтобы просто сказать рабочему человеку: «Вот твой враг, навались на него», – они ведут бесконечные разговоры об «естественном социализме» и уводят рабочих от фабричных дел.
Алексеев не был марксистом, об учении Маркса он знал очень мало, а то, что знал, еще не умел увязывать ни с политическим, ни с экономическим положением в стране. Но в правду марксизма он крепко уверовал: ведь это они, марксисты, сказали в «Коммунистическом манифесте», что пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. А вот этой простой правды он не находит в рассуждениях многих интеллигентов.
На собраниях, на собеседованиях, когда вот эти интеллигенты на разные лады расхваливали свой «естественный социализм», Петр Алексеевич хмуро отмалчивался и только один-единственный раз не сдержался: грубо оборвал Грачевского и наговорил ему много дерзостей.
Михаил Федорович Грачевский – этот ученый юноша с беспомощным взглядом близорукого человека – скорбно посмотрел тогда на Алексеева:
– Я прощаю тебе эти оскорбления во имя того дела, которому отдаю свою жизнь.
Петра Алексеевича поразили эти слова – тесно стало в груди, из глаз брызнули слезы. Он хотел извиниться, попросить прощения, но горло словно канатом перехватило. Он подбежал к Грачевскому, обнял его…
И с тех пор, встречаясь с Михаилом Федоровичем, Алексеев мягко пожимает его руку, лишний раз подчеркивая, что все еще считает себя виноватым перед ним.
С Иваном Жуковым были у Алексеева более простые отношения. Жуков преподавал грамоту литовцам. Это был серьезный, но какой-то скучный, скупой на слова интеллигент. Он делал свое дело буднично, холодно: то ли сам не придавал большого значения своим занятиям с рабочими, то ли убедил себя, что о серьезных вещах надо говорить с холодной сдержанностью.
И оба эти человека – пылкий Грачевский и суховатый Жуков – одинаково обрадовались Петру Алексееву.
– А я, дурень, – взволнованно сказал Алексеев, – вместо того чтобы сюда прийти, по городу рыскал. Где я не был! И хоть бы единого знакомого встретил!
– Кого ты искал? – спросил Жуков.
– Родную душу!
– Родные души теперь под замком сидят или по тайникам прячутся, – скорбно сказал Грачевский.
– Разгром, – уточнил Жуков. – Полный разгром!
После длительного молчания Михаил Федорович Грачевский спросил:
– Как у тебя с работой?
– Еще не знаю…
– К Торнтону тебе нельзя.
Не это интересовало Петра Алексеевича: он сам понимал, что обратно к Торнтону нельзя, что и там может оказаться подлец – выдаст. Он обрадовался Грачевскому и Жукову не потому, что хотел с ними посоветоваться насчет работы, – работу он себе найдет. Его волновало другое: как дальше быть с «делом», неужели все погибло? Его волновало еще и свое, личное: нельзя ли увидеть Прасковью или хотя бы дать ей знать, что он тут, рядом?
– Это ты прав, Михаил Федорович, к Торнтону мне нельзя. Но не обо мне речь. Знаешь, как в деревне? Погорели озимые, мужик не плачет, а перепахивает полюшко и яровое сеет. Как мы будем? Плакать по горелому или примемся перепахивать?
– Конечно, перепахивать! – решительно сказал Грачевский.
– А ты, Жуков, как думаешь?
– Обождать надо.
– Чего?
– Чтобы улеглось немного. Еще дымит на пожарище. Надо дать жару остыть. Я понимаю: не вес арестованы. Но народ разбежался. Вот придут в себя, выйдут из тайников, тогда…
– Нет, Жуков, ты не прав. Нас больше, чем тебе кажется. Примемся за работу, и народ появится. Вот вчера говорил мне один ткач: «Жить тошно». И не потому, что голодно живет, а потому, что просвете! не видит. Покажи ты этому рабочему просвет, и он в огонь пойдет. А таких рабочих, что ищут выхода из нужды, очень много. Их и искать не придется! Они сами к нам придут!
Алексеев говорил горячо, страстно.
Грачевский вдруг улыбнулся – наивно, стесни-тельно. Он прижался плечом к Алексееву:
– Не слушай Ивана. Это он нарочно страхи выдумал, хочет тебя проверить.
– Меня? Проверить?! – вспылил Алексеев.
– Успокойся, бешеный, – мягко сказал Михаил Фёдорович. – Садись. Я неудачно выразился. Не проверить, а узнать, не испугался ли ты арестов. Ты долго отсутствовал, обстановки не знаешь. А обстановка самая безрадостная. У нас тут полнейший разгром. Пустота образовалась. Мы с Иваном уже пятый раз сходимся, все ждем, авось кто-нибудь подойдет. И никто не приходит. Вот ты первый явился. Что у тебя на душе, не знаем. Потому-то так глупо и начался наш разговор. – Грачевский поднялся, зашагал по комнате. – Ты прав, Петр, надо немедленно приняться за работу. Нас мало, верно, но народ появится. С чего мы должны начать? По-моему, со здешней артели.
Было уже темно, когда Петр Алексеевич с Грачевским вышли на улицу. Они шли молча: одна улица, другая. Вдруг Грачевский взял Петра Алексеевича под руку:
– Ты ни о чем не хотел меня спросить?
Алексеева обрадовала чуткость товарища: ведь именно он, Михаил Федорович, один из тех, которые знали об отношениях Алексеева с Прасковьей Семеновной.
– Хотел. Скажи мне, Михаил Федорович…
– Помолчи. Я тебе все скажу. Ей ничего не угрожает. У нее ничего – это я хорошо знаю, – у нее ничего не было. Сидит она в Литейной части. Помнишь Васька, мальчонку, который жил в коммуне?
– Помню.
– Я его разыскал. Два раза в неделю носит он ей передачи, будто своей тетке.
– Я буду носить!
– Не надо этого делать. Ее-то ты не увидишь, а шпик за тобой увяжется. Согласен?
– Согласен, – покорно ответил Алексеев.
– Василий Семенович в Петербурге. Уляжется немного, мы с тобой к нему сходим. Он, кстати, только вчера спрашивал, не вернулся ли ты. И вот еще: будь осторожен, избегай тех рабочих, что бывали и коммуне. Среди них есть подлец, а кто – пока не знаем. – Он остановился, протянул руку. – Думаю, что больше вопросов у тебя нет.
– Спасибо тебе, Михаил Федорович!
– Будь осторожен, Петр. Кстати, как у тебя с квартирой?
– Буду жить у брата.
– Там надежно?
– Очень.
Еще раз пожали друг другу руки, разошлись.
Бывает, в ясный день наплывает на небо туча, закрывает солнце и в комнате вдруг становится неуютно, сумрачно.
И на жизнь Петра Алексеевича наплыла туча: стало неуютно, сумрачно. Он места себе не находил. Бывал на Монетной, словно все еще надеялся, что в окне покажется лицо Прасковьи, прогуливался перед воротами Литейной части – а вдруг освободят Прасковью?
Агитационной работы становилось все больше и больше. Народ начал приходить в себя после полицейского разгрома, и многие уже искали связи с революционным подпольем.
Из пропагандистов литовской артели всего два человека тесно общались с рабочей массой: ткач Петр Алексеев и кузнец Василий Грязнов. Чтобы расширить круг своей деятельности, Алексеев и Грязнов часто меняли место работы. Поступят на фабрику, сблизятся с рабочими, отберут лучших, организуют кружок, наладят его работу и переходят на другое предприятие.
Петру Алексеевичу стал помогать брат Никифор. Он сразу втянулся в пропагандистскую работу. Сначала он только книжки разносил, выполнял поручения старшего брата, потом стал ходить по трактирам, присматривался к знакомым и заводил разговор о жизни, об извечной рабочей нужде. Никифор находил простые, убедительные слова, – он говорил о том, что знает, чем мучится, о чем мечтает. И тех из своих слушателей, которые искали выхода из тяжелого положения, Никифор знакомил с братом.
Странное дело: чем больше Петр Алексеевич работал, тем светлее становилось у него на душе, – он был убежден, что работает за двоих: за себя и за Прасковью.
Листья на деревьях еще зелены, а уже по-осеннему порывистый ветер раскачивает ветви. Деревья словно силятся подняться на воздух. Ясно высокое небо.
Бодрой походкой шагает Петр Алексеевич. Он отработал в ткацкой ночную смену, но не чувствует усталости. Его радует ясное небо, его радует и ветер, который несет с моря влажную свежесть.
В эти дни жил Петр Алексеевич на Лиговке, в артели. Он спустился в подвал, хотел уже направиться на кухню – там умывались артельные, – как увидел полоску розового света, выбивающуюся из-под двери его комнаты. Это озадачило и обеспокоило Петра Алексеевича: кто в комнате? Легким, бесшумным шагом он добрался до кухни. Дуняша, стряпуха, раскатывала на столе тесто.
– Кто у меня в комнате?
– Кто? – ворчливо ответила Дуняша. – Так мне и сказали кто! За ночь, поди, три самовара выдули. Ни одной щепки не оставили.
Это успокоило Алексеева; он направился в свою комнату.
Сизо от табачного дыма; солнечный свет с трудом пробивается сквозь дым и сквозь розовое сияние яркой лампы; за столом три человека: Грачевский, Жуков и незнакомый юноша – приземистый, очень подвижной.
– Петр! – обрадовался Грачевский. – Мы тебя ждем! Познакомься с Михайло Петровичем!
У юноши были живые черные глаза. В одно мгновение он успел осмотреть Алексеева с головы до ног, и, протянув руку, сказал приятным гортанным говором:
– Богатырь! Илья Муромец! Понятно?
– Что «понятно»? – недовольно пробурчал Петр Алексеевич.
Он понял, что юноша с восточным обличьем и гортанным выговором вовсе не Михайло Петрович, и его обидело, рассердило то, что Грачевский не счел нужным назвать ему настоящую фамилию незнакомца.
Грачевский, прекрасно знавший Алексеева, сразу уловил его настроение.
– Петруха, – сказал он, – садись, и я тебе все объясню. Это Иван Джабадари. Он приехал из-за границы. Привез литературу. За границей слились два кружка. Людей в этих кружках очень много. Они все едут сюда. И вот что Джабадари предлагает…
Лампу потушили, заперли дверь на ключ, и Иван Джабадари приступил к пространному рассказу. Он говорил о прошлом и о будущем, он говорил о своих товарищах по кружку «кавказцев» и о каких-то чудесных девушках – «фричах», он говорил об арестах и о целях революционной молодежи. Он говорил напористо, горячо, то наклоняясь к одному, то к другому: мелькали имена знаменитых людей, научные формулировки, и часто врывающиеся в его страстную речь наивное словцо «понятно?» придавало бурному повествованию какой-то теплый, интимный характер.
Алексеев слушал внимательно. Он понял не все, о чем говорил Джабадари, – чересчур стремительно! лилась его речь и слишком непоследовательно развивал он свои планы, но Петру Алексеевичу было ясно: появилась, наконец, организация, которая намерена работать среди фабричных, появилась такая организация, о которой он мечтал!
Петр Алексеевич внутренне ликовал: балует его судьба! Каждый раз, когда жизнь наносит ему удар, когда он лишается чего-то дорогого, судьба тут же, точно в награду за муки, посылает ему утешение. Прасковья была не только любимой девушкой – она была осуществлением его гордой мечты, она была живым воплощением идеи свободы и счастья. И, похитив у него Прасковью, судьба тут же послала к нему Ивана Джабадари, – жизнь сразу приобрела новый смысл, новое и, пожалуй, более высокое звучание.
– Я пойду в эту организацию. В рабочую организацию! Я буду работать там, куда вы меня пошлете! В любой рабочий центр!
– Я знал, что ты пойдешь с нами, – сказал Грачевский.
А Жуков уточнил:
– Иначе быть и не могло.
Джабадари пожал руку Алексееву:
– Не здесь. Не в Петербурге. Мы переедем в Москву. Понятно? Здесь безлюдье, а в Москве сохранились Лукашевич, Союзов, Гамов. Люди, которые крепко связаны с фабричными! Понятно? Мой план таков: Михаил Федорович, Жуков, Грязнов и ты, Алексеев, переезжают немедленно в Москву. Михаил Федорович и Жуков связываются там с Лукашевичем и Союзовым, ты, Петр Алексеевич, – с фабричным миром, а Грязнов, как кузнец и слесарь, – с железнодорожниками. В начале декабря выеду я, Чикоидзе и Зданович, вслед за нами приедут Софья Бардина, Лидия Фигнер, Бетя Каминская, Субботина, а к рождеству съедутся остальные «фричи» и Цицианов. Понятно?
– Понятно! – ответил Петр Алексеев.
В ноябре Петр Алексеев переехал в Москву; с ним поехал младший брат Никифор.

Бетя Каминская.

Иван Джабадари.

Ольга Любатович.
18
Случается, что в обычный рабочий день человек просыпается с песней, с улыбкой на устах, с внутренней уверенностью, что его ждет сегодня что-то новое, радостное.
В таком приподнятом настроении находился Петр Алексеевич с первого дня переезда в Москву. Все ладилось у него, все легко устраивалось.
Он приехал в Москву, чтобы обосноваться прочно, на годы, и первые же недели работы убедили его в том, что его расчеты оправдываются.
Петр Алексеевич поступил на небольшую шерстопрядильную фабрику Турне, на Садовнической улице. Рабочих на фабрике было немного, около сотни, но среди них старый знакомец Николай Васильев. Рабочие звали его «голубь». Васильеву было лет тридцать – тридцать два, но выглядел он значительно старше: высокий, сутулый, с длинным морщинистым лицом.
Ничего примечательного во внешнем облике, а заговорит– голос мягкий, с бархатными низкими нотками. А как начнет рассказывать про «царство рабочих людей», весь преображается.
Васильев был ткачом, и не плохим, но свое ремесло он бросил и поступил садовником к фабриканту Турне.
Петр Алексеевич отправился в гости к «голубю». На вопрос Алексеева:
– Почему ты вдруг садовником заделался?
Васильев ответил:
– Не единым хлебом жив человек. Нужно и с народом поговорить, о рабочей нужде потолковать, а за станком, маясь, свободного часа не найдешь.
– Заведут тебя эти разговоры в казенный дом! – неожиданно вмешалась в беседу жена Васильева, Дарья,
Алексеева удивили эти слова. Дарья – крупная, ловкая, с круглым, лоснящимся лицом и влажными глазами – встретила его, как родного, хотя первый раз видела, усадила в красный угол, участливо расспрашивала об отце-матери, приготовила какую-то особую «яишенку» и, накормив его, уселась в сторонке, как бы давая понять: теперь можете поговорить о своих мужских делах. А когда заговорили, вдруг вмешалась.





