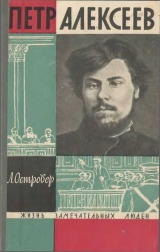
Текст книги "Петр Алексеев"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Петр, словно завороженный, следил за приготовлениями. Салфетка, фарфоровая хлебница, узор из вилки, ножа и ложки – все это он видел впервые. Ему лестно, что он будет обедать, как барин! Но не от этого разливается тепло по телу Петра – он предвкушает обильный и сытный обед: ведь не из-за пустяка старик так тщательно готовил стол.
А старик готовил стол по долголетней привычке, не думая даже о том, нужны ли вилки и набор тарелок. Он накрывал так, как накрывал десятки лет для своего барина. Нищенский «пансион» обрек бывшего графского дворецкого на полуголодное житье, и своему избавителю он мог предложить только остатки своего собственного скудного обеда: миску пустых щей и к тому же порядочно остывших.
Но, как ни странно, нищенский обед умилил Петра: он почувствовал себя в привычной обстановке, – и это придало ему смелость.
– Дедушка, вы бы не взяли меня в нахлебники?
Глаза Петра – ясные, добрые – смотрели на старика с наивностью сельского жителя, неожиданно попавшего на шумную городскую улицу.
Старик вдруг почувствовал себя нужным: он будет считать чьи-то носовые платки, накрывать на стол, – он будет состоять при ком-то.
Не ошиблись оба. Петр приобрел покойное пристанище. Он отдавал все деньги старику, а тот не только сытно кормил своего нахлебника, но еще умудрялся экономить из скудных Петровых заработков, чтобы приобрести для него новые штаны к рождеству, крепкие сапоги к пасхе.
Старик же – Осип Осипович – нашел защитника и заботливого сына, чуткого собеседника, перед которым можно было «душу раскрыть», а в старческой душе, такой безмятежной при первом знакомстве, таилось много горечи. Старик был наивен и незлобив. Все хорошее, что случалось с ним, он приписывал «доброте и благородству их сиятельства», во всех своих злоключениях винил только себя.
Петру, в сущности, было безразлично, благородны или неблагородны господа, – ни он к ним, ни они к нему отношения не имели, но Осипа Осиповича он слушал охотно. Его рассказы казались Петру частицей того уюта, в котором он впервые очутился. Отработав восемнадцать часов в грязи, в шуме, в духоте, Петр приходил домой в чистоту, в тишину. Под спокойный говорок старика съедал он свой ужин и, если тело не очень ныло, садился за букварь. Старик, сам малограмотный, поощрял эти занятия. Он усаживался рядом с Петром и, смотря в букварь, повторял вслед за ним: «Ка-ре-та вы-е-ха-ла из двор-ца…»
8
Шерстопрядильня купца Афанасия Трофимова была не лучше и не хуже десятка других фабрик, которых в те годы было много в селе Преображенском. Все они помещались в деревянных сараях, и на всех фабриках рабочий день длился 17–18 часов. Постоянных рабочих не было ни на одной из этих фабрик. Перед ярмарками фабрикант брал всякого, кто мог встать за станок; после ярмарок, когда торговля затихала, фабрикант выкидывал за ворота и новых и старых рабочих. Твердых расценок на этих фабриках также не существовало: когда товар нужен был, хозяин платил по рублю за кусок, миновала нужда в товаре – шестьдесят копеек. И даже из этих шестидесяти копеек мастер ловчился урвать несколько копеек штрафами. Имелись еще и «сезонные расценки», более высокие после пасхи, когда народ убывал в деревню, и нищенские после покрова, когда деревенский люд возвращался и в Москве получался избыток рабочих рук.
В последние месяцы получился перебой с сырьем. Фабрика работала четыре, а то и три дня в неделю. С тревогой в сердце Петр ежедневно отправлялся на фабрику: допустят к работе, или мастер скажет: «Погуляй еще денек, пряжи нету».
В один из таких тягостных прогулов Алексеев от нечего делать принялся щепать лучину для самовара, хотя ее было уже припасено месяца на два вперед.
Осип Осипович прихварывал. Собственно, болезни никакой у него не было: на него как бы напало раздумье. Он двигался медленнее, чем обычно, говорил, тише, чаще ложился.
Раскалывая сухие сосновые щепки, Петруша думал, чем бы растормошить старика. Лежит на кровати, смотрит в угол, а лицо неподвижное и торжественное, как у мертвеца. Даже седые бакенбарды приобрели какой-то неестественно зеленый оттенок.
Была поздняя осень. За окном уже обнажилась береза; злые порывы ветра раскачивали ее голые ветви… Все – земля, крыши, стены домов – было покрыто влажной пленкой.
Закат оживил, расцветил на несколько минут комнату, но когда потухли последние лучи, пахнула в окно неприветливая сырость осеннего вечера.
Петр, засветив лампочку, присел к столу против больного и принялся читать вслух книжку. Петр читал нетвердо, а тут он еще волновался: рассказ был страшный. Шайка Ваньки-Каина затаилась в кустарнике. Издали доносится перезвон ямщицкой тройки. Едет купец с богатой казной… Ванька-Каин выходит на дорогу в подряснике, с посохом в руке. Подскакивает тройка. Останавливается. Колокольчики замирают. «Садись, божий человек, – приглашает купец, – подвезу». Вдруг монашек свистнул по-разбойничьи и уже было поднес посох, чтобы одним ударом в голову порешить купца, да не тут-то было: купец сорвал со своего лица приклеенную бороду, и перед Ванькой-Каином оказался сыщик…
Осип Осипович повернул голову. Лицо оставалось неподвижным, но в глазах блеснуло что-то живое, словно огонек мигнул со дна.
Петр это заметил.
– «Ванька-Каин не растерялся, огрел коня тяжелым посохом, тройка взяла с места вскачь…» – продолжал он читать более бодрым голосом.
Петр взглянул на больного, и у него сразу пропала охота к чтению. Осип Осипович лежал с закрытыми глазами, и лицо его как бы подернулось изморозью.
Петр отложил книжку, потушил лампу и лёг на скамью.
Во сне Петру почудилось, что кто-то ходит по комнате. Он вскочил на ноги, вгляделся в темноту: никого. И все же слышится какое-то поскрипывание. Петр подошел к кровати. Осип Осипович дышит часто, захлебываясь, задыхаясь.
Петр зажег лампу. На стене возле кровати появилась бугристая тень.
– Осип Осипович, попейте молочка. Полегчает.
Слова, видимо, дошли до сознания больного. Он посмотрел на Петра расширенными, испуганными глазами, а широко открытый рот, из которого вырывались булькающие хрипы, делал лицо беспомощным и страшным,
Петр выбежал из комнаты. Ночь была темная, хмурая. На пожарной каланче покачивался красный фонарь. Сквозь сизую дымку неясно мигали звезды.
Петр побежал на просеку, где недалеко от полицейского участка жил врач.
Не найдя звонка, Петр постучал в дверь кулаком. Раскрылась щелка, и заспанный голос спросил:
– Кто?
– Человек кончается!
Петра впустили в коридор. В углу – высокая девушка; беличья шубка накинута на плечи. В одной руке она держит свечу, а другой прикрывает пламя.
– Подождите. Сейчас разбужу отца.
Девушка ушла. Петр остался в темноте. Где-то скрипнула дверь.
Прошло минут десять. В глубине коридора показалась горящая свеча; позади свечи – две фигуры: высокая, острая, и низенькая, круглая.
– Кто болен? – спросил добродушный голос.
– Дедушка.
– Давно?
– Недели три.
Доктор – в пальто и меховой шапке – подошел к Петру.
– Молодой человек, – сказал он укоризненно, – дед болен три недели, а вы ночью поднимаете врача с постели. Не могли вечером пригласить или дождаться утра?
– Было ничего, – оправдывался Петр. – А вот ночью худо стало.
Они вышли на улицу. Петр рвался вперед, а доктор – старенький, с одышкой – шагал не спеша, часто останавливаясь.
Когда Петр раскрыл дверь в свою комнату, он невольно попятился: ему показалось, что со стены исчезла тень Осипа Осиповича.
Доктор снял пальто, аккуратненько положил его на скамью и, потирая руки, подошел к кровати.
– На что жалуемся? – спросил он, придвигая к себе стул.
Но, взглянув на больного, он не сел, повернулся к Петру и строго сказал:
– Вот видите, молодой человек, три недели ждали…
Петр впился глазами в больного: голова Осипа Осиповича лежала глубоко в подушке; тело, словно оно сразу отяжелело, ушло в глубь соломенного, мешка. Глаза тусклые; нижняя челюсть отвисла. Рот огромный, а оттуда – ни звука, ни дуновенья. Бакенбарды смяты, скомканы. Петр почувствовал, как потеют его ладони. Блуждающим взором он смотрел на покойника. Ему хотелось кричать, буйствовать или плакать тихо, спрятав лицо.
– Есть родные? – спросил доктор.
– Никого нет.
– Печально… Печально… А все же, молодой человек, убиваться не следует: таков закон природы.
Доктор оделся и направился к двери.
– Погодите!
Петр достал серебряный рубль из «общей кассы».
– Не надо, молодой человек. Вам нужны будут деньги. Похороны, поминки. Вам предстоят большие расходы.
Но Петр грубо настаивал:
– Берите!
Доктор взял монету, но как только Петр отвернулся, он положил ее на краешек стола и осторожно, на цыпочках, ушел.
9
В «общей кассе» было одиннадцать рублей, и все эти деньги Петр истратил на похороны.
Стал Петр жить один. Было неуютно, грустно. Осип Осипович унес с собой теплоту, которая скрашивала жизнь Петра.
Особенно тоскливо Петру по праздникам: сидеть в комнате не хочется, и на улицу не тянет. Хоть в Новинскую удирай!
Давно, очень давно не был Петр дома. Умер дед, умерла и бабка, отец строит чугунку где-то возле Гжатска. Братья разбрелись по ткацким: кто в Замоскворечье, кто в Серпухове. Один Игнатка рядом, в селе Преображенском. Но Петр не любит старшего брата: никчемный парень. Он служит в трактире, Как ученая обезьяна, носится он с подносом между столиками, холуйски улыбается, когда ему горчицей мажут лицо, униженно кланяется за пятак. А в воскресенье – франт франтом: в коротком пиджачке, в ботиночках, с тросточкой в руке. Не любит Петр старшего брата.
Но скоро кончилось одинокое житье. В воскресенье явился Яков Денисович – графский посыльный: кривоногий мужичонка с рыжей окладистой бородой. Петр сидел за столом, читал.
– Пенсион принес, – сказал он певучей скороговоркой, – Осипа Осиповича, видать, дома нетути?
– Нетути, – передразнил его Петр.
– А где, к примеру, находится Осип Осипович?
– На кладбище.
– Эк его понесло! – ухмыльнулся Яков Денисович, поглаживая рыжую бороду. – Ближе места для прогулок не нашел-с? А когда, к примеру, возвернется он с прогулочки? У нас, парень, беда: запропастились какие-то бумаги. Вот граф и приказал выведать у Осипа Осиповича: авось он припомнит.
Петр подошел к Якову Денисовичу, положил ему руку на плечо:
– Скажи своему графу, псу этому…
– Что ты? Парень! За такие слова, к примеру, знаешь…
Петр тряхнул гостя так, что у того шапка слетела с головы.
– Ты чего?
– А ты слушай. Скажи псу мохнорылому, графу этому, пускай сам ищет свои бумаги. Помер Осип Осипович. Понял?
Яков Денисович заморгал глазами, перекрестился и со вздохом сказал:
– Отмучился…
И участие, которое слышалось в голосе Якова Денисовича, примирило Петра с ним.
Несколько минут они молчали. Вдруг Яков Денисович потянул Петра к скамье, сам сел и усадил Петра рядом с собой.
– Слушай, парень, есть дельце. У графа, к примеру, денег куры не клюют, а у нас с тобой шиш. Верно я говорю?
– Верно.
– Вот давай, парень, так сделаем. Графу ни гу-гу, будто жив-здоров Осип Осипович. Я буду, к примеру, каждый месяц пенсион приносить, а мы с тобой эту десятку по-братски: пятишницу тебе, пятишницу мне. Так, парень?
– Не так.
– А как?
Вместо ответа Петр распахнул окно, вернулся к скамье, взял Якова Денисовича в обхват, прижал немного, чтобы не бился на весу, и молча вышвырнул его во двор. Потом Петр закрыл окно и опять уселся за книгу, не обращая внимания на неистовую ругань Якова Денисовича.
А в понедельник вечером, придя домой с фабрики, Петр нашел свою комнату опустошенной. Ничего не осталось: ни кровати, ни мебели, ни посуды, ни иконы, ни занавески на окне.
10
Июль 1871 года. Петр Алексеев засветло вернулся домой. В комнатенке было душно. Петр вышел во двор. Наполнив колоду водой, принялся умываться.
Из флигелька показался юноша в легком полотняном костюме, с полотенцем через плечо. Постояв немного, он весело сказал Алексееву:
– На вашу фигуру воды в колодце не хватит.
– И вас бог фигурой не обидел, – ответил Петр, добродушно поглядывая на высокого и полного юношу.
Юноша подошел к Петру.
– Жить на реке и купаться в колоде! Противоестественно, уважаемый сосед!
Петр Алексеевич знал, что его собеседник «из ученых», – так хозяин отрекомендовал Петру своего нового жильца, – но «ученый» уж очень смахивал на деревенского парня: лицо в веснушках, нос картошкой, лохматые волосы.
– Пошли на Яузу! – согласился Петр.
Вода в Яузе прозрачная, светлая. Стройные ольхи подступают к самой реке.
Петр и студент Константин Шагин выкупались и легли на теплый песок. Далеко-далеко видны поля, частые перелески, деревни. Тихий ветерок чуть шевелит листья на прибрежных кустах.
– Хорошо! – сказал Петр.
– А вас еще упрашивать надо было.
Петр повернулся лицом к своему соседу.
– Забыл, поверьте мне, я попросту забыл, что есть река, где можно выкупаться.
– Все работа да работа?
– Не в работе дело! Человеку трудиться полезно. Дело в том, где работать, как работать и сколько работать. Скажем, я. Работаю у купца Афанасия Трофимова. Фабрика это? Нет. Потолок на голове, станок впритык к станку. Дышать нечем.
– Почему не переходите на большую фабрику?
– Что я? Враг себе?
– Не понимаю.
– Это вы верно сказали: стороннему человеку трудно понять. Казалось бы, чего проще: нехорошо тебе на маленькой фабрике, переходи на большую. А переходить, оказывается, невыгодно.
– Почему?
– Попробую объяснить вам. На маленькой фабрике рабочих немного, они знают друг друга. Захотел, скажем, Трофимов сбавить расценок, мы сейчас во двор – да сговор: «Не будем работать, и все!» А на большой фабрике рабочих много. Доля у них одна, а думают врозь. У себя по квартирам артели шумят: «Грабеж! С голоду подыхаем!» А являются на фабрику – молчок. Крюковская артель ждет, чтобы высказалась репинская, а репинцы поглядывают в сторону новинских. И кому это на пользу? Хозяину.
Петр приподнялся, внезапно оживился.
– Вот вы человек образованный, объясните мне. Фабрик много. Значится, и фабрикантов много. Тут тебе и купцы, и богатеи мужики, и бывшие помещики. Но откуда это берется, что все фабриканты одинаково хозяйничают? Что у них, книги такие имеются? Или их кто обучает, как с нашего брата шкуру драть?
Если бы Петр Алексеев увидел, какая радость вспыхнула в глазах его собеседника, он был бы немало удивлен. Константин Шагин состоял в студенческом революционном кружке. И он и его товарищи по кружку много толковали о том, что община – это нравственный уклад мужицкой души, что в деревне существует целая гармоническая, высокогуманная система взаимной помощи. Они наивно верили, что община сама сумеет избегнуть буржуазного развития со всеми его бедствиями и пороками. Но он, Константин Шагин, не мог не видеть и того, что видел Петр Алексеев: фабрик много, и работают на этих фабриках мужики – обнищавшие, ограбленные мироедами, задавленные поборами и налогами, выброшенные из «общинного рая». Константин Шагин и переехал в село Преображенское для того, чтобы сблизиться с фабричными, – и вот удача: он набрел на рабочего, который сам задумывается над социальными проблемами.
– Вы грамотный?
– Через пень колоду.
– Но книжки читаете?
– Одна слава, что книжки. В них или целуются, или стреляются.
– Вы очень домой торопитесь?
– Чего торопиться? Никто меня не ждет.
– Расскажите о себе, – предложил Шагин. – У меня, видите, книг много, охотно буду снабжать вас, но какие книги вам полезны – не знаю. Поэтому расскажите о себе подробно: где работали, как работается, о чем думаете.
Петр Алексеев давно мечтал о человеке, с которым можно было бы поделиться своими думами, у которого можно было бы спросить совета, кто раскрыл бы перед ним тайны природы, те тайны, которые его волнуют с отроческих лет. У Петра Алексеева уже накопился и собственный жизненный опыт, но делать какие-либо выводы из своего опыта он не умел. За свою короткую жизнь Петр Алексеев сталкивался со злом во многих проявлениях, но где истоки этого зла? Он понимал, что жизнь сложна, что взаимоотношения между людьми строятся по каким-то ему неведомым законам, и он искал эти законы в книгах. Не его вина, что в двухкопеечных книжонках, которые он покупал у офеней, описывались выдуманные люди и выдуманная жизнь.
И на берегу Яузы в теплый июльский вечер Петр Алексеев сам был поражен: какую пустую, какую бедную событиями жизнь он прожил! Ему идет двадцать второй год, из них он работал тринадцать, а рассказа об этих годах хватило меньше чем на полчаса.
Но именно то, что Петру Алексееву казалось незначительным, интересовало Шагина. За этим «незначительным» он разглядел мужественного юношу, готового в любую минуту ринуться в бой за то, что сам считает справедливым.
С этого дня завязалась у них дружба. В первые дни Константин Шагин только беседовал с Петром, по большей части на людях, чтобы придать встречам случайный, соседский характер. Потом стал давать Петру книжки: «Антона Горемыку», «Подлиповцев». Алексеев читал запоем, ночи напролет и, прочитав эти книжки, возмущенно спрашивал Константина:
– Как это возможно?! Как это народ терпит?!
Прочитал Петр «Сороку-воровку» Герцена. Книжка не вызвала у Петра такого волнения, как «Подлиповцы» или горемычный Антон, зато ему понравилось, что автор «Сороки-воровки», не таясь, указывает пальцем на подлецов. Герцен не только описывал жизнь, но и объяснял ее.
От Герцена Константин Шагин перешел к Гоголю, и не столько ради самого Гоголя, сколько ради того, чтобы прочитать Петру Алексееву письмо Белинского к Гоголю. От Белинского – к Чернышевскому…
Петру Алексееву казалось, что он поднимается на крутую гору и что с каждым шагом воздух делается все более разреженным, – дыхания не хватает. Сердцем понимал Петр Алексеев, что он все ближе подходит к разгадке жизненных тайн, однако умом все еще был не в силах постичь эти тайны: знаний было мало.
Петр Алексеев захотел учиться, учиться всему, что помогло бы ему разобраться в трудных вопросах. В эти недели стал Петр Алексеев учиться и письму. Он усаживался ночью за стол и тяжелой, усталой рукой выводил печатные буквы, копируя их по книжке.
И тогда, когда Петру Алексееву уже казалось, что перед ним распахиваются ворота в чудесный мир познаний, жизнь опять нанесла ему удар.
Под вечер приехали на двух пролетках несколько полицейских. Они направились прямо во флигелек…
Петр знал, что там, во флигеле, сейчас совершается подлость, но он, силач, кулачный боец, был беспомощен, как ребенок.
Константина Шагина арестовали. Захлопнулись ворота в чудесный мир.
11
Снегу навалило за ночь! Куда ни глянь – бело. Снег лежит, опорошенный алмазной пылью. В воздухе гудит – колокола со всех церквей сзывают верующих к поздней обедне. И люди спешат: много троп они проложили в мягком снегу.
Петр Алексеев стоял возле калитки без шапки и без пальто. Уж который раз выбегает он из дому налегке, не думая о том, что может простудиться и все напрасно: девушки в беличьей шубке нет и нет!
Глупо, очень глупо получилось вчера! Петр ругал своего сожителя, тоже ткача, ругал от всего сердца острыми, пряными словами.
– Будешь ты, такой-сякой-этакий, прибирать за собой? Будешь ты, такой-сякой-этакий…
В комнату вошла девушка в беличьей шубке. Петр Алексеев прикрыл рот ладонью, а его сожитель загоготал.
– Мне нужен Алексеев.
Но она, видимо, сама знала, кто из двоих Алексеев, подошла к Петру и, улыбаясь, сказала:
– Здорово ругаетесь!
Что-то знакомое почудилось Петру Алексееву з лице и даже в голосе девушки. «Где я ее видел?» – допытывался он у своей памяти.
– Костя Шагин слышал, как вы ругаетесь?
Алексеева словно обухом огрели.
– Где он?! Скажите, я побегу к нему!
– Никуда вам бегать не надо. Завтра с утра мы с ним к вам придем.
И прежде чем Алексеев успел собраться с мыслями, девушка выскользнула из комнаты.
Петр Алексеев был ошарашен. Предстоящая встреча с Костей Шагиным волновала, а вот девушка… При первом взгляде на нее померещилось Петру что-то знакомое и тревожное. Где он ее вздел?..
Свидание ни с Костей, ни с девушкой не состоялось.
Остаток дня Петр бродил по заснеженным улицам. Он где-то обедал, с кем-то говорил, с кем-то спорил, но все впечатления этого дня были тусклые, приглушенные, овеянные щемящей грустью.
Небо было уж в звездах, когда он подходил к своему дому и… насторожился: на скамье сидел городовой, пришлый. Петр не встречал его в Преображенском. Что он тут делает? Случайно присел отдохнуть или дежурит? Когда делали обыск у Кости Шагина, такой же городовой дежурил на улице, на этой же скамье сидел.
Петр прикинулся пьяным. Пошатываясь, он прошел мимо городового, сделал большой крюк и опять вышел к своему дому, но с противоположной стороны. Городовой на месте!
Обыск! Никакого сомнения! И именно у него, у Петра Алексеева, больше не у кого: хозяин – вполне благонадежный, а во флигельке, где жил Костя Шагин, поселилась хроменькая старушка с двумя маленькими внучатами. «Видать, доискались, что я дружил с Костей Шагиным…» – подумал Алексеев.
И вдруг его как бы осенило: да ведь девушка в беличьей шубке дочь старого доктора! Надо немедленно побежать к ней, предупредить!
Дверь открыл сам доктор.
– Что желаете, молодой человек?
– У меня дело к вашей дочери.
Старик испытующе взглянул на Петра.
– Моей дочери нет дома.
– Когда она вернется?
– Не знаю… Не знаю, молодой человек.
Алексеев в большом затруднении. Он знает: доктор порядочный человек, – случай с рублем убедил его в этом, – но можно ли ему сказать, что его дочь выполняет поручения арестованных студентов? И все же решился:
– Скажите ей, пожалуйста, что к Петру Алексееву не надо ходить.
– А кто этот Петр Алексеев?
– Я.
– И к вам моя дочь ходила?
– Должна была прийти.
Доктор запер входную дверь на ключ.
– Идемте.
Он ввел Алексеева в кабинет.
– Расскажите, кто вы, зачем вы нужны моей дочери и почему к вам нельзя.
Петр рассказал.
– Немедленно уезжайте из Преображенского! Слышите? Немедленно! Верочка арестована! Слышите? Вчера ночью ее арестовали. А сегодня пришли за вами. Садитесь. Я вам перевязку наложу. Для видимости. За моим домом следят.
Он накрутил два бинта на правую руку Петра, потом довел до двери.
– Есть у вас деньги?
Петр вытащил из кармана рубль: хотел уплатить за перевязку.
Старик возмутился:
– Я спрашиваю: есть ли у вас деньги на дорогу?
12
Петр Алексеев переехал в Петербург. В центре города – порядок и чистота. Монументальные здания тянулись ровными шеренгами, блестя зеркальными окнами и как жар сиявшими медными скобками парадных подъездов. На этих улицах, в этих домах жили фабриканты, чиновники – жили господа.
За пределами нарядного района царили нищета, запустение. Вместо тротуаров – доски; при каждом шаге они хлопали, обдавая пешехода фонтанами грязи. Домики маленькие, выкрашенные в желтый скучный цвет.
Алексеев рано узнал, что есть два Петербурга. Еще мальчиком он распевал в красильне:
Столица наша чудная
Богата через край.
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам – рай!
Фабрика Торнтона, куда поступил Петр Алексеев, была крупная: десятки прядильных машин, сотни ткацких станков, паровые установки, больше тысячи рабочих.
Петр Алексеев стал присматриваться к соседям по ткацкой, прислушиваться к их разговорам и из многих намеков понял, что где-то за Невской заставой живут студенты, которые, подобно Косте Шагину, охотно дружат с рабочими.
На фабрике Алексеев близко сошелся с наладчиком Ваней Смирновым. Их влекло друг к другу, хотя люди они были разные. Ваня Смирнов – нежный, с тонким лицом и мягким взглядом. Алексеев же поражал размахом плеч, мощной грудью и резкой, как бы нарочито грубой речью. Усы черные, густые; они придавали излишнюю суровость его и без того суровому лицу. Но наладчика Смирнова роднила с ткачом Алексеевым тоска по справедливости.
Уже второй час простаивает станок Петра Алексеева. Ваня Смирнов протирает флянцы, моет керосином втулки.
Окна ткацкой выходят на юг, и летнее солнце, проникая сквозь пыльные стекла, освещает бок станка немощным, приглушенным светом. На полу, у самых ног Алексеева, копошатся солнечные зайчики. Петру грустно: почему-то вспоминается село Преображенское, жалкий Осип Осипович…
– Петруха, ты о чем задумался?
– Хорошего человека вспомнил.
– Где он, этот хороший человек?
– Помер. Понимаешь, Ваня, лет ему было много, больше семидесяти, а сердцем был чист, как ребенок.
– Бывают такие люди… И не только старики.
– Это ты прав, Ваня. Бывают. – И тихим голосом добавил: – Вот, говорят, у нас тут за Невской заставой такой человек живет, студент. Синегубом его звать. Говорят, он рабочих грамоте обучает.
Словно из-под земли вырос мастер Келли – жилистый, рыжий. Келли – англичанин, и хотя он уже второй год работает в Петербурге, но знает всего несколько русских слов: сволёшь, мужик свинючий, полючи расшот, ходи к шорту, оштрафлю и молёдец. Этого словаря ему вполне хватает, чтобы объясняться с рабочими, а рабочие его прекрасно понимают: важны не слова, а интонация, выражение лица англичанина.
– Сволёшь!
Это обидное слово сейчас означало: когда же вы, наконец, закончите?
– Скоро, господин Келли, – ответил Смирнов.
– Оштрафлю!
– За что, господин Келли? – спокойно спросил Петр Алексеев.
Англичанин ткнул пальцем в грудь Алексеева:
– Молёдец и мужик свинючий!
Петр Алексеев понял и эти слова: «Ты хороший рабочий, а копаешься, как лодырь».
– Разладился станок, господин Келли. Вот наладчик его выправит – и приступлю к работе.
– Дольго! Ошень дольго!
И англичанин исчез так же внезапно, как и появился.
– А ты, Ваня, действительно копаешься.
– Старье, Петруха, части сработались.
Смирнов, склонившись, стал завинчивать гайку.
Опустился на корточки и Алексеев. Присматриваясь к работе товарища, он неожиданно сказал:
– Ваня, не пойти ли нам к этому студенту? Работаем, работаем, а света божьего не видим. Что мы, насовсем продались Торнтону?
– Думаешь, Петруха, что студент только грамоте обучает? – загадочно спросил Смирнов, не отрываясь от дела.
– А ты, Ваня, испугался? Сразу каторга примерещилась?
– Зачем каторга?
– Так чего же пугаться? Или мы с тобой никакого касательства к жизни не имеем? Или ты в самом деле только «сволёшь и мужик свинючий»? Вот был у меня дед. Умный старик, а все толковал: «Плохо было, плохо будет». А я не согласен. Должно быть хорошо, вот как я рассуждаю. Но откуда хорошему быть? Торнтон нам хорошую жизнь даст?
– И студент ее не даст.
– Верно, Ваня. И студент ее не даст, но он скажет, где она припрятана. Научит, как ее добыть. Я тебе про Костю Шагина рассказывал…
– Был Костя – и нет Кости.
– Если этак рассуждать, то и по улице лучше не ходить, – кирпич может на голову свалиться.
Кругом стоял шум, неумолчный шорох ременных передач, а Алексеев, сидя на корточках, говорил о самом затаенном.
Смирнова, тянуло к студентам не меньше Алексеева, но теперь он лукавил, отделываясь уклончивыми фразами не потому, что не доверял Петрухе: работая с ним несколько месяцев, он успел убедиться, что парень золото, только диковатый, упрямый, с какой-то дубовой несгибаемостью. Можно ли к студенту с таким медведем?
Он поднялся, вытер руки:
– Принимай станок, Петруха! А об остальном поговорим после работы.
13
В осенний вечер 1873 года Алексеев с двумя товарищами – Смирновым и Александровым – отправились к студенту. Сам Синегуб, Сергей Силович – тонколицый, в очках – открыл им дверь и пригласил в комнату.
Алексеев был удивлен: дощатые стены покрыты рваными обоями; грубый некрашеный пол пляшет под ногами; на столе – глиняный горшок и несколько кружек. Петр Алексеев не знал еще тогда, что
нужда друзьям казалася забавой,
и часто кровь их грела вместо дров…
– Небогато живете, – сказал он и тут же смутился, встретившись взглядом с женой Синегуба.
Она встала из-за стола, протянула руку:
– Присаживайтесь, друзья, и будем чай пить.
Вышла на кухню и скоро вернулась с большим пузатым чайником.
«Даже, самовара у них нет», – мысленно отметил Алексеев.
За чаем и завязалась беседа.
Сергей Силович, узнав, что его гости работают у Торнтона, сказал:
– Я был на вашей фабрике. Как вы только выдерживаете! Жара, духота, вонь. И в такой обстановке простоять на ногах двенадцать часов. Ужасно!.. Хотите, я прочитаю вам стихотворение, которое написал после посещения вашей фабрики?
Сергей Силович был высокий и ладно скроенный, только сутулился немного. Он шагал из угла в угол и певучим голосом, не торопясь, четко выговаривая слова, читал:
Мучит, терзает головушку буйную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.
Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка;
Маслом прогорклым пахнет удушливо…
Да, жизнь ткача не легка!
Кашель проклятый измучил всю грудь мою,
Также болят и бока,
Рученьки, ноженьки ноют, сердечные…
Стой целый день у станка.
Нитка порвалась в основе, канальская.
Эх! Распроклятая снасть!
Сколько греха-то ты примешь здесь на душу,
Господи боже, так страсть!
Ах, да зачем, да зачем же вы льетеся.
Горькие слезы, из глаз?
Делу помеха, основу попортите —
Быть мне в ответе за вас.
Как не завидовать главному мастеру,
Что у окошка сидит,
Чай попивает да гладит бородушку —
Видно, душа не болит,
Ласков на взгляд, а пойди к нему вечером,
Станешь работу сдавать —
Он ту работу корит да ругается,
Все норовит браковать.
Все норовит, как бы меньше досталося
Нашему брату, ткачу.
Эх! Главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!
Синегуб давно уже закончил чтение, а Алексеев все еще чего-то ждал.
– Ну как? – спросила жена Синегуба. – Верно описано?
Алексеев ответил резко:
– Верно! Но для кого ваш муж написал это? Скажите, Сергей Силыч, для кого? Для ткачей? Тогда напрасно потрудились. Ткачам все это знакомо. А про слезы – просто чушь! Ткачи не плачут. Они знают, что слезами делу не поможешь… А еще хуже получилось у вас в конце. Вывели ткача на паперть, поставили его с протянутой рукой: «Подайте Христа ради, жить ведь я тоже хочу!» Плохо это, Сергей Силыч! Вы на меня не обижайтесь. Я человек малограмотный. За тем и пришел к вам, чтобы уму-разуму набраться. Чтобы вы меня всяким еографиям и еометриям обучили. И стихи хочу читать! Но какие стихи? Не про горе наше горькое, а про силу нашу народную! Сергей Силыч, голубчик, я не хочу валяться в ногах у фабриканта! Не хочу ручку протягивать: «Родненькие, подайте ткачу, ведь он тоже жить хочет». Сергей Силыч, я хочу фабриканта за горло схватить: «Отдай, подлец, мою трудовую копейку! Я ее потом и кровью заработал!» Вот как я хочу! И ты научи меня, как к Торнтону подступиться!
Вдруг Алексеев спохватился: кому он это говорит? Студенту! Поэту! И ему стало неловко.
– Простите меня, Сергей Силыч. Разошелся, как в кабаке.
Но странное дело: Синегуб обнял Петра Алексеева, прижал его к груди.





