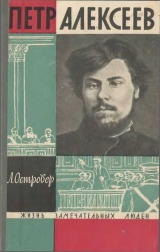
Текст книги "Петр Алексеев"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Родной! И мне конец стихотворения не нравится. Но я не нашел… не нашел лучшей концовки. А теперь нашел! Знаете, как я закончу?
Эй, работники, несите
Топоры, ножи с собой!
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов!
– Может быть, не эти слова, – волнуясь, добавил он. – Но что-то боевое, зовущее к борьбе!
И опять не повезло Алексееву: после третьего занятия Сергей Силович заявил:
– Вы, товарищи, уж простите меня, некогда мне с вами заниматься. Во как зашился! Ежедневно хожу на Лиговку, в артель каменщиков. Артель большая, душ восемьдесят. Дышать некогда.
Синегуб все же позаботился о торнтоновцах. Рядом с Синегубом жила Софья Львовна Перовская – тоненькая девушка с небольшой русой косой, серыми глазами и по-детски округлыми щеками. К ней в кружок и перешел Алексеев.
Сначала он был недоволен: чему может научить его такая барышня? Ему тогда и на ум не могло прийти, что именно эта хрупкая девушка благодаря своему хладнокровию и распорядительности решит успех цареубийства 1 марта 1881 года. Алексеев тогда и не поверил бы, что судьба столкнула его с одной из самых выдающихся русских революционерок, что имя этой тонкой девушки с ласковым взглядом серых глаз войдет в историю, как имя первой женщины, казненной по политическому делу.
В кружке у Перовской читали «Фабричные рассказы» Голицинского, «Анчутку беспятого» Майнова, «О земле и о небе» Иванова, читали о Новгородском вече, о волжской вольнице, рассуждали о том, что порядки на Руси не на правде держатся.
И все же разочарован Петр Алексеев. Его учителя говорят о крестьянском безземелье, о будущем России, а вот о фабричных делах избегают говорить.
Не удовлетворяла Петра Алексеева программа народников: он не видел в ней главного – призыва к борьбе с фабрикантами, но другой революционной организации в то время не было.
– Я тебя понимаю, Петр Алексеевич, – сказал ему однажды Михаил Грачевский. – Тебе невтерпеж. Но для того чтобы свершилась социальная революция, одного народного отчаяния недостаточно. Нужно еще, чтобы у народа выработалось представление о своем праве. Для этого мы и должны идти в народ.
– В народ! – откликнулся Алексеев. – А мы кто? Вот ты, Михаил Федорович, когда говоришь о будущем социалистическом обществе, почему-то в этот рай только одних мужиков зовешь. А рабочие где? Без нас хочешь социализм утвердить? Нет, Михаил Федорович, без рабочих ты социализма не добудешь, один мужик не добьется победы! А ты, Михаил Федорович, хочешь и меня, фабричного рабочего, в деревню сплавить! Не хочу я в деревню! Не хочу, Михаил Федорович! Мне среди рабочих агитировать надо.
После этого спора Алексеев ушел от Грачевского вместе с дружком своим – Ваней Смирновым.
На синем небе четко вырисовывалась игла Петропавловской крепости, мосты изогнулись деревянными горбами, а вода под ними казалась подернутой ледяной коркой.
Петр Алексеевич взял товарища под локоть;
– Давай, Ванюша, кружок на заводе собьем. Свой, рабочий кружок! Понимаешь, Ваня, все они, учителя наши, чудесные люди, жизнь готовы отдать за народное дело, а вот не понимают они чего-то. Всё в деревню к мужику тянут, а мужик-то в город бежит, на фабрику.
И они организовали у себя на фабрике кружок. Обучали рабочих грамоте, сами читали им книжки. Когда Вася Смирнов ушел от Торнтона, остался Петр Алексеевич один руководить кружком. И не о «мужике» говорил Алексеев своим слушателям, а о своих, рабочих делах: о расценках и штрафах, о пыли в ткацкой, о длинном рабочем дне.
В начале семидесятых годов обозначились в народничестве два главных течения: пропагандисты, или лавристы, и бунтари, или бакунинцы. Лавристы задались целью подготовить революцию пропагандой. Они хотели поднять народ до своего уровня и подготовить из народной среды ядро, которое смогло бы провести в жизнь социалистические идеи.
Бунтари же не только не думали учить народ, но считали, что им самим надо учиться у народа. Они считали, что народ вполне готов к социалистической революции, что в народе накопилось много горючего материала и достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар. Этой искрой и должна стать интеллигенция.
Даже лучшие из народников не видели процесса разложения крестьянства, не замечали и образования мелкой крестьянской собственности. Капитализм, считали они, принесет России неисчислимые бедствия, и в качестве средства для спасения России от «ужасов капитализма» они выдвигали крестьянскую общину, усматривая в ней «зародыш социализма».
И это они проповедовали в то время, когда даже «верноподданные» газеты и журналы посвящали статьи Марксу и I Интернационалу. Правда, верноподданные журналисты писали о марксизме с целью опорочить учение Маркса, но, споря с Марксом, они все же были вынуждены излагать его учение. О работах Маркса и о I Интернационале писали и «левые» и «правые»: «Отечественные записки», «Русский мир», «Киевлянин», «Русские ведомости», «Заря», «Беседа», «Московские ведомости», «Голос», «Русская летопись», «С.-Петербургские ведомости». Даже «Сельский пастырь» – журнал, издаваемый для сельских попов, и тот в 1871 году поместил большую статью о I Интернационале и об его организаторе – «зловредном существе Карле Марксе». Но либералы, не соглашаясь с Марксом, все же понимали, что и Россия пойдет по пути капиталистического развития, а народники, заимствуя у Маркса революционную направленность, в то же время отрицали открытые им экономические законы развития общества.
Не понимали народники учения Маркса! В мае 1870 года в Петербурге забастовала Невская бумагопрядильная фабрика; в 1872 году вспыхнула забастовка на Кренгольмской мануфактуре: бастовало четыре тысячи рабочих. Они требовали сокращения рабочего дня, повышения расценок, человеческого обращения. Фабриканты забили тревогу: они поняли, что рабочий класс выходит на линию огня, что в России завязываются первые классовые бои. А народники проглядели классовую сущность этих забастовок – они сделали для себя упрощенный вывод: народ бунтует! И стали искать более тесной связи с «бунтующим» народом.
Они, революционные народники, не собирались связывать свою деятельность со стачечным движением пролетариата, отнюдь нет, они лишь хотели использовать рабочих, этих выходцев из деревни, для пропаганды среди крестьянства.
Часть народников, главным образом учащаяся молодежь, селилась в фабричных районах, знакомилась с рабочими, обучала их грамоте, просвещала, и горячая проповедь этих честных, самоотверженных интеллигентов пробуждала наиболее передовых рабочих.
14
Синегуба арестовали, за Перовской охотились жандармы, но все это не охладило влечения Петра Алексеева к революционерам. Он искал других людей, которые помогли бы ему добыть «свободу, свет и социальную справедливость».
И он нашел. Студенты Медико-хирургической академии устроили на Монетной улице общежитие-коммуну. Руководил ею Василий Семенович Ивановский, прозванный за свой огромный рост Василием Великим. Это был неугомонный организатор. Он устраивал в коммуне «чаепития» для рабочих, а за чаем члены коммуны читали вслух «Исторические письма» Лаврова, работу Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», роман Чернышевского «Что делать?» и его статью «Русский человек на rendez-vous», «Историю французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, обсуждали статью Добролюбова «Что такое обломовщина», читали роман Герцена «Кто виноват?» и роман Шпильгагена «Один в поле не воин»,
«Чаепития» были многолюдные, но Василий Великий мечтал о более обширной аудитории. И для этого он наметил текстильную фабрику Торнтона.
В декабре 1873 года Василий Великий устроил собрание в трактире, расположенном рядом с фабрикой Торнтона. На это собрание явилось около пятидесяти рабочих, и среди них Петр Алексеев. После этого собрания Алексеев стал завсегдатаем коммуны на Монетной. Сначала ему полюбились громкие читки, потом библиотека, где он зачитывался Лассалем и Миллем, а потом…
Вышло это случайно. В воскресный день, направляясь в коммуну, Петр Алексеев увидел: на углу Монетной дерутся мальчик с девочкой. Им было лет по восемь-девять; оба грязные, в лохмотьях. У обоих текла кровь из носа, у обоих струились слезы по лицу, но они, не обращая на это внимания, тузили друг друга с таким остервенением, точно поклялись биться до смерти.
– Вы что? – спросил Алексеев, разводя драчунов. – Убить друг друга хотите?
Мальчик вырывался из рук Алексеева:
– Пусти! Пусти!
– Из-за чего драка?
– Он у меня хлеб забрал, – сказала, плача, девочка.
Это заинтересовало Алексеева.
– Почему ты у нее забрал хлеб?
– А я что, не голодный? – тоже плача, ответил мальчик.
– Тетенька дала кусочек хлеба мне!
– А. я что, не голодный? – упрямо повторил мальчик.
До удушья перехватило горло у Алексеева; лоб покрылся холодной испариной.
– Идемте со мной, – еле выжал он из себя и повел их в коммуну.
Оставив детей в коридоре, Алексеев зашел к Ивановскому.
Василия Великого не было дома. За столом сидела девушка и читала.
– Дайте хлеба! Чего-нибудь поесть дайте!
Девушка поднялась. Статная, смуглолицая, с веселыми глазами.
– В первую очередь, – сказала она, откинув за спину длинную косу, – надо поздороваться, когда входят в комнату. Во вторую очередь, скажите, кто вы. – Она протянула тонкую руку. – Я Прасковья Семеновна, сестра Василия Семеновича.
Петр Алексеевич вспылил:
– Все эти очереди оставьте до другого раза! Есть у вас еда или нет?!
Грубый тон незнакомца озадачил Прасковью Семеновну. Она только вчера приехала в Петербург, и то немногое, что она видела в коммуне, показалось ей более чем странным.
– Однако вы не очень вежливы…
– Хлеба дайте!
Прасковья Семеновна зачем-то захлопнула книгу и, подойдя к настенному шкафчику, стала доставать оттуда сверток за свертком.
Она стояла спиной к Алексееву – не видела, что он вышел из комнаты и тотчас вернулся с двумя оборвышами.
– Это что такое? – удивилась Прасковья Семеновна.
– Не что, а кто! Это голодные! Голодные дети, которые дерутся из-за куска хлеба!
Прасковья Семеновна зарделась: только теперь поняла, что произошло. Она подошла к детям, обняла обоих за плечи и с материнской требовательностью предложила:
– Идемте сначала помоемся.
Проходя мимо Алексеева, она улыбнулась и насмешливо спросила:
– Успокоились, сударь?
Алексеев потупился: ему стыдно стало за свою вспыльчивость, за свою грубость.
Он ушел.
Это было первое воскресенье, которое Петр Алексеев провел в бесцельном шатании по Петербургу.
В бесцельном? Не совсем! Странное чувство владело им. Думалось только о хорошем, приятном. Он казался сам себе богатым и в мыслях щедро раздаривал свои богатства… И вдруг он остановился. «Почему, – спросил он себя, – не собрать десяток голодных детей и не приютить их в коммуне? Кормить их, грамоте обучить… Отогреть, вернуть им детство…»
В понедельник был в коммуне «академический день»: студенты готовились к своим занятиям. На двери висел плакат: «Гостей не принимаем».
Петр Алексеев прочитал надпись и все же дернул за петлю колокольчика. Дверь открыл Василий Великий. Он всполошенно спросил:
– Что случилось?
– Ничего не случилось, – застенчиво улыбаясь, ответил Алексеев. – Я к тебе, Василий Семенович. По делу.
Ивановский ввел гостя в свою комнату.
– Садись, Петро, и говори, какое у тебя дело.
На столе – раскрытые книги. В стакане – пучок подснежников. Петр сел на краешек стула:
– Я тебе помешал? Занимался? Может, тебе некогда?
– Больше вопросов у тебя нет?
– Нет.
– Тогда говори, зачем пришел.
Петр мял в руке картуз и, внезапно рассердившись на что-то, резко спросил:
– Сколько будет стоить кормежка десяти детей?
– Какая кормежка? Каких детей?
Вопросы Ивановского как бы успокоили Петра Алексеевича. Он сказал мягко, чуть приглушенно:
– Ты не сердись, Василий Семенович. Выслушай меня. У нас есть столовка для холостых. Выйдешь оттуда – сытый не сытый, но все же поевши? а к тебе на улице детские руки тянутся: «Дай, дяденька, хлебца». Голодные, что тут поделаешь? Вот я и пришел к тебе, Василий Семенович, с просьбой: возьми в коммуну десяток детей… Бездомных… Фабричных…
Василий Семенович распахнул дверь:
– Прасковья!
Быстрые и легкие шаги в коридоре.
В комнату вошла Прасковья Семеновна – в белом переднике, раскрасневшаяся. Увидев Алексеева, она протянула ему руку и насмешливо спросила:
– Кого вы сегодня привели?
– Вы, оказывается, уже знакомы.
– Знакомы, Вася. Этот товарищ был здесь вчера, и мы с ним очень приятно побеседовали.
– Он говорил тебе о приюте для подкидышей?
– Василий Семенович! – вспылил Алексеев.
– Формулировка не нравится? Уж ты, Петро, помолчал бы! Послушай, Прасковья, с чем он сегодня пришел.
– Догадываюсь.
– Нет, Прасковья, догадки у тебя не хватит.
– А я все же догадываюсь. – Она положила руку на плечо Алексеева. – Хотите каких-нибудь малышей накормить?
– Десяток! – выпалил Василий Семенович.
– И десяток накормим. Ведите их.
День был хмурый, но Алексееву казалось, что солнце бьет в глаза, и он был вынужден отвернуться. Его растрогала доброта Прасковьи, такая естественная, от сердца идущая, как у матери, которая, не задумываясь, отдает своему ребенку последний кусок хлеба.
Он поднялся, поклонился и, волнуясь, сказал:
– Спасибо вам, Прасковья Семеновна.
– Погоди благодарить! Прасковья! Ты ничего не поняла! Он предлагает нам взять детей в коммуну.
– И ты, Вася, не согласен? – удивленно спросила Прасковья Семеновна.
– Не меня надо спрашивать! Не я буду решать, а совет. Но ты, Прасковья, уж очень легкомысленно относишься к предложению Петра Алексеевича. На тебя ляжет теперь хозяйство коммуны. Обслужить четырнадцать человек или обслужить двадцать четыре – разница! Не справишься ты с этим! – Вдруг Василий Семенович рассмеялся. – Прасковья, да посмотри ты на этого Илью Муромца! Стоит, как школьник, которого собираются сечь! – И тут же серьезно добавил: – Петро, дело ты затеял доброе, по боюсь, не ко времени.
– Не согласна с тобой, Вася. Доброе дело всегда ко времени. Верно я говорю, Петр Алексеевич?
– А вам, может, действительно трудно будет? – робко спросил Алексеев. – Об этом-то я и не подумал.
– И не надо об этом думать. Созывай, Вася, совет. Скажи товарищам, что в доме будет тишина, что дети никому мешать не будут.
Как чудесны летние ночи в Петербурге! Светлые, ласковые: по Неве разбросаны золотые блики; окна в домах распахнуты, и оттуда слышатся веселые голоса; народ на тротуарах не спешит, не суетится, на лицах улыбки, словно каждый рад встрече с тобой. В такие ночи забываешь, что жизнь каторжная, что пути к счастью завалены буреломом, – в такие ночи звезды ярче, цель ближе…
И все, о чем говорит Прасковья, – светлое, ласковое. Как-то слилось в ней детское и мужественное, тоска по светлому «завтра» и будничная забота о сегодняшнем дне. Она была сурова и нежна.
Петр полюбил ее с первого взгляда, но в его любви было больше восхищения, чем непосредственного чувства, когда не знаешь, за что любишь. Он восхищался ее добротой, ее умением просто, душевно, с милой насмешливостью подойти к человеку, ее готовностью взвалить на себя тяжелую работу, ее трезвыми предложениями, когда в коммуне разбирались серьезные вопросы. Прасковья не была наивной барышней из тех, кто судит о жизни по романам, но в тот вечер, когда Алексеев сказал ей о своей любви, она зарделась, растерялась.
И Прасковья полюбила его, но ее любовь, при всей своей нежности, была жесткая, требовательная, Прасковья непрерывно словно подталкивала Алексеева – от мысли к мысли, от книги к книге.
Первое время Петр Алексеевич чувствовал себя неловко. Он думал, что студенты в коммуне смотрят на него с укором: как это ты, мужичина, смеешь заглядываться на интеллигентную девушку? Но вскоре Алексеев убедился, что все это ему только показалось. Прасковья не скрывала ни перед братом, ни перед товарищами своей любви к Петру, и все в коммуне, решительно все считали, что «они достойны друг друга». В их характерах много общего, и неукротимый, вспыльчивый, но с очень нежным сердцем Алексеев нуждается именно в такой умной и немного жестковатой подруге, как Прасковья Семеновна, которая к тому же предана революционному делу не менее, чем Петр Алексеев.
Днем они оба были заняты – он на фабрике, она в коммуне, вечера уходили на заседания, читки, совещания. Оставались только ночи, петербургские ночи, когда, шагая бок о бок вдоль гранитной набережной Невы, можно говорить о самом затаенном – о том большом счастье, что ждет их впереди.
В эту ночь они не говорили о счастье. Они шли молча и хотя оба думали об одном и том же, но думали по-разному.
Они были народниками одного и того же толка, оба они были борцами за народное дело, только Прасковья Семеновна, когда говорила о народе, думала о мужиках, а Петр Алексеев – о рабочих. И это различие, не мешавшее им в кружковой работе, вдруг выросло в горячий спор, который длился уже несколько дней и сегодня закончился тягостным молчанием, потому что договориться они все же не могли.
Шел 1874 год. Революционная молодежь вырвала из сердца мечты о науке, о личном счастье. Она покидала учебные заведения, спешила облечься в сермягу, чтобы жить жизнью народа, делить с ним горе и радость.
Одни, следуя заветам Бакунина, шли «в народ» организовывать бунты, твердо веря, что народ ждет только случая к восстанию. Эта молодежь, лишенная политического, опыта, не задумывалась: а что же дальше? Вспыхнет бунт, пусть он даже дойдет до вооруженного столкновения, а дальше? Жестокое усмирение.
Лавристы шли «в народ» для мирной пропаганды. Они хотели осесть в деревнях волостными писарями, фельдшерами, кузнецами.
Василий Великий предложил отправиться «в народ» и Петру Алексеевичу.
Алексеев, хорошо зная деревню, отказывался от «хождения», но к его доводам не прислушивались в коммуне, не прислушивалась сейчас и Прасковья.
Только беда в том, что для Алексеева Прасковья Семеновна была больше чем любимая девушка: он безотчётно верил в ее ум, в ее знания, в ее уменье разбираться в жизненных сложностях. Он был внутренне убежден, что «хождение в народ» не принесет пользы революционному делу, что все эти «ходоки» на первых же шагах своей работы в деревне вызовут подозрение у становых, у исправников и даже у мужиков. Хорошие, нужные люди погибнут без пользы для дела.
Прасковья же говорит другое. Она знает – будут жертвы, но какая революция обошлась без жертв? Особенно убедительным был ее последний довод: «Скажи, Петр, какая польза народу от того, что мы в своих кружках читаем «Коммунистический манифест», если мы ничего не делаем для того, чтобы сорвать с народа цепи?»
И победила вера в ум Прасковьи: Петр Алексеевич поверил, что Прасковья видит что-то такое, чего он по малограмотности не постигает.
У Троицкого моста после тягостного молчания, которое отдалось болью в сердце Алексеева, он приглушенно сказал:
– Хорошо. Я поеду.
Прошло всего два дня. В коммуне большое «чаепитие». Места за столом не хватает на всех: сидят на подоконниках, на скамьях вдоль стен. Возле двери кучкой стоят несколько ребят. Все внимательно слушают. Читает молоденький студент. Голос у него высокий, чистый, с мягкими переливами, и эта мягкость придает его словам какой-то лирический оттенок. Он читает тонкую, напечатанную на папиросной бумаге книжку.
– «Хитрую механику построили царь с боярами да фабриканты с кулаками, чтобы свалить на наши крестьянские спины все расходы на их барское житье, на их кулаческое пирование…»
В стороне, чуть поодаль от ребят, сидят Прасковья Семеновна и Петр Алексеев. Прасковья Семеновна озабоченно смотрит на своего соседа: он угрюм, левой рукой теребит бороду.
– Петр, – позвала она тихо, – выйдем на минутку.
Петр сначала удивленно посмотрел на Прасковью Семеновну, потом поднялся и последовал за ней.
Коридор длинный, полутемный.
– Петр, что с тобой?
– Тошно, Прасковья.
– Но ведь ты согласился ехать. Может, раздумал?
– Бесполезно это… Бесполезно, Прасковья. Ни мне, ни всем этим хорошим людям нечего делать в деревне. Мужик нас и слушать не станет. Ему земля нужна, а не книжки.
– Ты и идешь в деревню для того, чтобы объяснить мужику, кто у него эту землю забрал.
– От этого мужику разве легче станет? Да он и сам знает, кто его ограбил.
Прасковья снизила голос до шепота:
– А если я с тобой пойду?
Петр Алексеев схватил ее руку, крепко сжал:
– Не смей об этом и думать!
– Много девушек собирается. Что я, слабее их?
– Прасковья, – и в голосе, в котором только что слышалась угроза, вдруг прозвучали нежные нотки: – Прасковья, ты деревни не знаешь. Это в книжках только «Иванушка да Марьюшка», а на самом деле дичь, темнота. Не любит мужик интеллигентов, боится их, как бы нового горя в дом не занесли.
– Тебя-то мужик не боится.
– Но и пользы от меня не получит.
– Петр, ты ведь уже решился.
– Оттого, Прасковья, и тошно. Согласился идти, а сердце сопротивляется. Мы тут нужны, Прасковья, фабричному люду мы нужны.
15
Петру Алексееву не надо было, как это делали его товарищи-студенты, добывать сермягу, отращивать бородку, не надо было заучивать из книг Слепцова или Решетникова простонародные словечки вроде сдюжит, робь, хлобыснись, ошшо. Петр Алексеев отправился «в народ» таким, каким был, – он был сам «народ».
Путь предстоял долгий. До Москвы – поездом. В Москве надо было закупить товар и опять по железной дороге до Гжатска. Оттуда пешком по песчаным и лесным просторам Смоленщины до родной Новинской.
Петр Алексеев не умел торговать и не хотел этим делом заниматься, но совет коммуны, снаряжая своих членов в дорогу, сам выбирал «специальность» для каждого «ходока».
– Писарем ты не устроишься, плотничать не умеешь, фельдшерского места тебе не дадут. Остается одно – с коробом.
В Москве Алексеев прямо с вокзала отправился в торговые ряды на Ильинку и по списку Прасковьи Семеновны закупил ленты, иголки, нитки, гребни, пуговицы и несколько десятков двухкопеечных книжек, вроде «Бовы-королевича», «Маленького сонника». Там же в торговых рядах он приобрел короб с крепкими лямками, уложил в него товар. Короб на спину – и на поезд.
В Гжатск он приехал ночью. На небе луна. Вокзал залит зелёным светом. На скамье, под вокзальным колоколом, сидит городовой. Лицо зеленое, даже усы кажутся зелеными.
– Борода! – окликнул Алексеева городовой. – Куда путь держишь?
– На Сычевку.
– А в коробе у тебя что?
– Товар.
– Купец?
– Выходит.
Видя, что Алексеев взваливает короб на плечи, городовой подошел к нему.
– Покажи паспорт!
Алексеев достал из кармана паспорт.
– Ступай за мной!
Он повел Алексеева в небольшую комнату с железной решеткой на окне. На столе неярко горела лампа. Пахло горячим ржаным хлебом.
Городовой, склонясь к лампе, разглядывал паспорт.
– Алексеев?
– Алексеев.
– Из деревни Новинской. – Он резко повернулся. – Развязывай короб!
Весь товар городовой переложил на стол, дотошно осматривая каждую ленту, каждую пачку иголок, каждую книжку и, покончив с этим, грубо приказал:
– Покажи руки!
Алексеев протянул свои большие, натруженные руки.
Городовой вернул паспорт.
– Укладывай свой товар. Без обмана у тебя. А то, знаешь, политики развелись! – добавил он сердито. – Тоже с коробами ходят. А ты из-за них не спи по ночам. Лови их! От себя торгуешь или от хозяина? – закончил он уже миролюбиво.
– Где там от себя: капиталов не хватает.
– И много добываешь?
– Это уж от удачи зависит. В одной деревне на пятак продашь, в другой и на пять целковых,
Петр Алексеев уже завязывал свой короб, когда в комнату вошел хилый, невзрачный старичок.
– Федул-от явился, – сказал он, искоса поглядывая на Алексеева.
– Пьяный? – спросил городовой.
– На ногах стоит. Так на ярманку? – обратился он неожиданно к Алексееву.
– А где ярманка?
– То ж у нас, в Голомидове.
– Далеко до Голомидова?
– Считается верст четырнадцать, а будет немного больше, верст восемнадцать. За любезное дело по зорьке пройдем. Торг у нас хороший, народу пропасть. Пошли, что ли?
Алексеев согласился. На перроне старичок взвалил себе на плечи мешок соли, пуда два, и они пустились в путь-дорогу.
Алексеев порядком устал: за спиной короб, ноги увязают в грязи, но предложить старику отдохнуть постеснялся – ведь он с большей еще тяжестью. А тот шагает мерным шагом да похваляется: «Ржица у нас во как поднялась», или: «У графа вон, смотри, какие хлеба! На Кубани, поди, колос пореже будет».
– А у тебя-то много земли? – заинтересовался Алексеев.
– Теперича вовсе нету, – охотно ответил старик. – Была землица, десятинки три, да вон оно как получилось. Младшенький сынок с Крымской возвернулся да с деревяшкой вместо, ноги. Куда ему деваться? В работники не берут, к мастерству не приучен. И к тому же еще женился; У жены-от ни кола ни двора, а ндрав господский: это не по ней и то не ндравится: Семья большая, и языки у всех, как аглицкие ножи, острые. Дома – содом, севастопольские бои. Тошно стало жить. Отделил я сынка, дал ему одну десятнику, помог избу поставить и – живи со своей цацой. Осталось у меня две десятинки и восемь ртов. Трудно было, голодно, зато дома благодать: тихо, мирно. Вот, парень, слушай, как оно дело обернулось. У нашего помещика-от новый зятек объявился. Барин ничего, обходительный. Когда еще женихов был, приезжал в деревню, по дворам ходил, с мужиками водился, все выспрашивал, выпытывал. И вон оно как обернулось. Приезжает летом целая комиссия. По полям ходят, вымеривают, высчитывают, в старые планы заглядывают. А прошлой зимой вышло решение: шестьдесят девять десятин мужицкой земли должны возвернуть помещику. Будто его эта земля, будто еще матушка Екатерина ему дарственную подписала. Мы и в суд, мы и к губернатору, – ничего не помогло! Губернатор-от еще пообещался кнутом нас отстегать. «Захватили, – говорит, – чужую собственность». Вот мои две десятники в чрево кита и угодили.
– Так чем кормишься?
– Сторожем на чугунке служу. Заработок хороший. Как двадцатое число подойдет, пять рублей шестнадцать копеечек получаю. И приработок имею неплохой. Вон, видишь, соль таскаю. Пудика два снесу, и Тихон Ильич мне за это гривенник пожалует. Кормимся. Только старуха-от все бунтует. «Грабеж, – говорит, – с землицей получился». Я ей толкую: «Будет еще у нас землица, и не меньше, чем у самого помещика…»
– Кто тебе ее даст? – удивился Алексеев.
– Обчество даст. На пригорке. Место сухое, солнечное. «Как помру, – говорю я своей старухе, – нам там три аршина землицы отмерят. Столько, – говорю, – сколько и нашему помещику, когда он сдохнет». А старуха все свое: грабеж да грабеж.
Хоть весело говорил старик, а Алексееву было грустно. Он как бы вернулся к своему детству, к поучениям деда Игната, к извечной крестьянской нужде. Прошло много лет, как Петр Алексеев ушел из Новинской, – сколько событий за это время, сколько надежд, и… ничего не изменилось, даже хуже стало. Дед хоть ворчал, в округе мужики бунтовали, а вон его спутник – ограбленный мужик – смирился и еще балагурит.
Его, Петра Алексеева, послали к ограбленным мужикам, и послали с чем? С иголками, лентами, книжками да с тайным словом. И вот он должен сказать этому обездоленному старику: «Потерпи, милый, грянет социальная революция, и ты обратно получишь свою землю. Но сначала нужно, чтобы у тебя самого выработалось представление о своем праве». «Чушь, господа интеллигенты! Мужик свое право знает, только право это губернатор захватил и кнутами охраняет. Вот ждет Он, мужик, чтобы мы, горожане, с губернатором расправились, тогда уж он сам свою землю из-под помещика добудет».
– А другие как? – спросил Алексеев. – Тоже смирились и на чугунку ушли?
– Зачем на чугунку? – просто ответил старик. – Кто в город подался, кто в работники к помещику, а кто постарше – с сумой пошел. Кормиться-то надо.
Дорога была ровная, но Алексееву казалось, что он карабкается в гору: спину ломит, ноги тяжелые. А старик знай шагает мерным шагом и с благожелательной заинтересованностью смотрит вокруг, точно впервые попал в это место.
Вот показалось село. «Версты четыре-пять осталось», – не без грусти подумал Алексеев, понимая, что теперь-то старик уже не сделает привала.
Алексеев шагал из последних сил. Вдруг, к его великому удовольствию, старик сказал, показывая на бугор:
– У того холмика маленько присядем, нужно-от деньги посчитать, потому у меня, брат, старуха бедовая, сейчас ей подавай отчет, а то начнет моркву стругать.
Дотащился Алексеев до бугра. Старик скинул с плеча мешок и принялся считать свою наличность. Несколько медяков он положил в карман:
– Это, брат, надо отдать кабатчику.
Остальные деньги он спрятал за пазуху,
– Другой раз зайдешь к нему, выпьешь в долг и, значит, надо теперь расплатиться, а то, пожалуй, боле и не поверит. Только ты смотри, придем домой, не говори старухе моей, что, мол, заходили в кабак, на этот счет она у меня во какая строгая!
Пришли, наконец, в Голомидово. Село большое, с двумя каменными церквами. Солнце уже начинало припекать. Перед кабаком стояли возы.
– Зайдем разговеемся, – предложил старик.
Алексеев потребовал стакан водки, а старик сказал кабатчику:
– Мне, Митрич, махонькую.
Когда кабатчик отошел от столика, старик начал поучать Алексеева:
– Ты, брат, стаканами не требуй. Митрич-от шельма, не доливает, а в махоньком стаканчике ему плутовать несподручно.
Выпили, расплатились. Старик усиленно приглашал Алексеева к себе, сулил пышками накормить. Но Петр Алексеев решительно отказался:
– Недосуг, ярманку провороню.
Он достал из короба пачку иголок и две катушки ниток.
– Отдай своей старухе.
– Это за что ей такой подарок? – удивился старик.
– За то, что она бунтует.
Старик как-то по-детски надул губы, потом многозначительно промолвил:
– Вон оно как!..
На ярмарке было уже людно. Торговали с возов, с рундуков и вразнос с лотков и коробов.
Петр Алексеевич выбрал себе местечко в «красном» ряду. Он разложил свой товар и, веселый от выпитого вина, зазывал:
– Подходи, подходи! Товар московский! По случаю купил, задешево продам!
Бабы недоверчиво посматривали на бородатого парня и проходили мимо. «Чересчур бойкий, – думали они, – такой и обманет и обсчитает». А девки льнули к Алексееву. Одни искали нужное, другие только для видимости рылись в товаре: им нравился сам продавец.
Весело торговал Петр Алексеев. Он вернулся в свое прошлое: стал деревенским парнем, для которого ярмарка большой праздник. То высмеет какую-нибудь курносенькую, то вдруг с галантностью деревенского ухажора протянет девушке колечко: «Бери!»
Это веселье, это многолюдье не понравилось соседним торговцам. Один из них – мордастый, с короткой шеей и крохотными злыми глазами – рванул Петра Алексеева за руку и раскричался:





