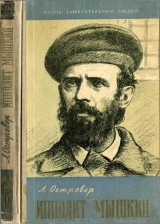
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Мышкин бросился искать товарища, но нигде его не нашел: ни на месте работы, ни на квартире.
Тревожную ночь провел Ипполит Никитич. Он еле дождался утра, чтобы поднять на ноги всю колонию. В поиск включились и французы-эмигранты. Обошли знакомых, обошли все кофейни, столовые, библиотеки– без результата: пропал Донецкий.
Но каково было изумление Мышкина, когда он после долгих поисков вернулся в кафе Грессо и увидел там своего товарища!
– Где ты пропадал?
– В кутузке.
Мышкину не верилось: в Швейцарии, в вольной стране, да вдруг – кутузка!
– Как ты туда попал?
– Взяли меня за шиворот да поволокли в участок. Вот так, просто, как это делается у нас. В участке меня обыскали, забрали табак и спички и очень невежливо втолкнули в вонючую каморку.
– За что?
– Об этом я узнал только сегодня. Видишь ли, Ипполит, мы, иностранцы, оказывается, отбиваем работу у швейцарских граждан. И к тому же мы еще и политические! А швейцарская полиция, оказывается, не любит политических… Господин комиссар предложил мне уехать ко всем чертям.
– И ты уедешь?
– Когда честью просят…
– Вместе уедем! – загорелся Мышкин. – На Сен-Готард. Там прорывают тоннель, там и поработаем!
На следующий день они выехали из Женевы. До Люцерна по железной дороге, до Флюэлена – пароходом по Фирвальштетскому озеру, а дальше пешком, с узлами плечах.
Дорога шла вдоль реки Рейс. Со всех сторон нависали горы, – угрюмые, острые, голые.
– Отдохнем, – предложил Мышкин, а когда они устроились, он вдруг сказал: – Скучно здесь. Август месяц. У нас в это время солнце светит золотыми лучами. Осины и березы уже тронуты желтизной. Листья трепещут, и их сухой шелест сливается с треском кузнечиков. Тихо посвистывает синичка. Хорошо, покойно…
– Ты не влюблен?
Мышкин удивленно взглянул на своего спутника:
– Какая связь?
– Самая что ни на есть прямая. Только влюбленные да поэты видят эти золотые лучики.
Мышкин ответил серьезно:
– А ведь ты прав. Я жил в одном из самых поэтических городов России – в Пскове, а города не видел. Ходил по берегу Великой или Псковы и не видел серебристой глади рек, ходил по улицам и не видел ни чудесных ворот Мирожского монастыря, ни причудливой арки «солодежни». И знаешь, когда все это мне открылось? На двадцать шестом году жизни. Я поехал в Псков всего на один день. Я поехал к матушке, чтобы сказать ей, что я счастлив, и когда мы с ней, с моей старушкой, прошлись по Пскову, город вдруг раскрылся предо мной во всей своей чудесной красоте.
– Где она?
– Ты, Ипполит, зря обиделся, – сказал вдруг Донецкий, смотря себе под ноги. – И у меня осталась там девушка, которую я люблю и которая меня любит… Она в тюрьме…
– И моя Фрузя в тюрьме! – выкрикнул Мышкин, и в этом выкрике было столько боли, что вся фраза прозвучала как протяжный стон.
Они пришли в деревушку, разыскали отель.
Чистенькая комната, мягкая постель. Поужинали, легли. В раскрытое окно впархивали ночные шумы; порой слышались дальние взрывы: там рвали гору для тоннеля.
– Ипполит, едем в Россию.
– Что там будем делать?
– Бороться!
Мышкин приподнялся в постели:
– А кто возглавит борьбу? Донецкий! Ты никогда не задумывался над тем, что мы партизаним, что мы наступаем маленькими отрядами, и потому нас бьют. Ты никогда не задумывался над тем, что нам нужен единый центр, единое руководство и что во главе этого центра должен стоять человек, которому верит, которого уважает вся прогрессивная Россия?
– Где ты найдешь такого человека?
– Подумай.
– Думал, Ипполит. Все мы думаем об этом, а все же такого человека не находим.
– Есть.
– Кто?
– Чернышевский!
Донецкий, помолчав немного, сказал:
– Ты прав. Это глубокий мыслитель, ученый, едкий полемист, тонкий конспиратор и с характером. Он мог бы возглавить движение. Но, видишь ли, Ипполит, царское правительство так крепко упрятало Чернышевского, что оттуда никакая сила его не добудет.
«А ты знаешь, как Клеменц увез из Петрозаводска политического ссыльного Тельсиева?» – хотел спросить Мышкин. Но этот вопрос показался ему самому несерьезным. Он повернулся лицом к стенке, накрылся одеялом и раздраженно сказал:
– Давай спать.
Утром они отправились к Сен-Готарду, и там им заявили: «Своих рабочих больше, чем нужно»,
Донецкий поехал в Россию, а Мышкин вернулся в Женеву. Он также собирался на родину, но перед отъездом в Россию хотел поговорить с Бакуниным. Эта фигура его очень интересовала: Бакунин участвовал в революции 1848 года в Дрездене, за что был приговорен сакорнским правительством к смерти. Его не казнили потому, что австрийское правительство потребовало его выдачи и, в свою очередь, хотело его повесить за участие в пражском восстании. Бакунина не повесили и в Австрии, так как Николай I потребовал его выдачи. Царь продержал его несколько лет в Шлиссельбургской крепости и сослал в Сибирь, откуда Бакунин бежал за границу. Явившись в Европу, Бакунин принимает горячее участие в революционных делах. Мышкин слыхал о борьбе Бакунина с Марксом, и многое было ему неясно в этой борьбе.
В Женеве, еще до отъезда на Сен-Готард, Мышкин встретился с эмигрантом Дебагорием-Мокриевичем – тот был ярым поклонником Бакунина.
– Поедемте к нему в Локарно, – предложил однажды Дсбагорий, – сами убедитесь, что это за гигант.
– А вы бывали у него?
– Один раз… Было солнечное утро, и после яркого света снаружи меня поразила темнота в комнате Бакунина. И окна выходили в темноту – не то в сад, не то упирались в стену. В углу стояла низкая кровать, на которой лежал Бакунин. Он лежа пожал мне руку, сопя, приподнялся и стал медленно одеваться.
Глаза мои приспособились к темноте. Я увидел стол, заваленный газетами, простые деревянные полки, загроможденные книгами и бумагами, самовар на круглом столе, там же стаканы, табак, куски сахара, ложки – все вперемешку.
Бакунин необычайно высок и грузен. Огромная голова, высокий лоб, редкие полуседые волосы. Он одевался с трудом – задыхался и часто отдыхал.
Наконец мы вышли в сад, в беседку, где уже ждал нас завтрак.
Говорили о восстании в Барселоне.
– Сами революционеры виноваты в неудаче восстания, – решительно заявил Бакунин.
– В чем была их ошибка?
– Надо было сжечь правительственные здания! Это первый шаг в момент восстания, а они этого не сделали! – с жаром проговорил Бакунин. – Каждый народ в момент восстания раньше всего набрасывается на правительственные учреждения – канцелярии, суды, архивы. Народ инстинктивно понимает зло «бумажного царства» и стремится его уничтожить… Вспомните, товарищи, Пугачева. Но то, что знал Пугачев, того не знали барселонские повстанцы. А это меня удивляет. Ведь испанцы, как и итальянцы, прекрасные конспираторы. Это тебе не немцы, – добавил он с презрительной усмешкой. – Впрочем, такие же плохие конспираторы и русские! Болтуны!
Я сказал что-то в защиту русских, но меня прервал раздраженный Бакунин:
– Что русские! Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет – и, может быть, ни одного анархиста среди них не будет!..
Мышкин прислушивался к рассказу Дебагория-Мокриевича, и как ни пытался мысленно представить себе этого поседелого в боях гиганта во главе русского революционного движения – ему это не удалось: настойчиво маячила перед глазами брезгливая улыбка Бакунина. Он даже слышал брюзжащий тон старика, чувствующего близкий закат, раздражало Мышкина и барски-пренебрежительное неверие в стойкость русского характера,
«А Маркс иного мнееия о русских», – хотел сказать Мышкин, но не сказал. А от поездки в Локарно наотрез, отказался.
Дебагорий-Мокриевич удивился: Ипполит Никитич Мышкин как-то сразу порвал с эмигрантами. Дни напролет просиживал он в библиотеке, словно готовился к чему-то очень серьезному. И еще больше удивился Дебагорий-Мокриевич, когда Ипполит Мышкин, придя к нему однажды рано утром, предложил:
– Пойдем на кладбище.
Дебагорий-Мокриевич уважал Мышкина за ясный и смелый ум, за необычную, даже для того времени, начитанность, за мудрость не по возрасту, и вдруг – чудачество!
– Зачем тебе на кладбище?
– Собираюсь в путь. А перед отъездом хочу поклониться одному человеку.
– Кому?
– Пойдем, там увидишь.
Дебагорий-Мокриевич пошел из любопытства.
Среди пышных бюргерских надгробий затерялся простой, неотделанный гранитный камень. На нем надпись:
Серно-Соловьевичу,
политическому осужденному.
Возле этого камня остановился Ипполит Мышкин. Он снял шляпу, склонил голову. Так он простоял несколько минут, потом сказал решительно:
– Пойдем.
– Ты знал его? – спросил Дебагорий-Мокриевич, когда они оказались за оградой кладбища.
– Нет, но он мне близок.
– Чем? Тем, что он робких звал к единству? Или тем, что, работая в Интернационале, не переставал думать о своей несчастной родине? Объясни мне, Ипполит. Твой прощальный визит мне непонятен.
– Все не то, Владимира Александр Серно-Соловьевич помог мне понять и оценить Чернышевского.
Чем был для меня Чернышевский? Главным образом писателем. Его герои мне импонировали, я хотел быть похожим на них. Но Серно своими статьями раскрыл мне Чернышевского-революционера, неуклонно идущего к цели, человеку логической, сдержанной, строго продуманной мысли, человека, для которого существует один идеал – истина, человека сурового, но умеющего радоваться, как ребенок, всякому проявлению жизни в России, всякому поступку, выражавшему сознание, энергию, единственного у нас политического деятеля, который может возглавить революционное движение.
– Ты что-то, Ипполит, в последнее время часто говоришь о Чернышевском. Что это, тоска о прошлом?
– Наоборот, Владимир, по будущему.
– Опять не понимаю! Какое будущее может быть связано с человеком, крепко упрятанным под замок?
– Замок можно сбить!
Дебагорий-Мокриевич окинул Мышкина грустным взглядом.
– Не узнаю тебя, Ипполит. Ты – человек с трезвой головой, а фантазируешь как гимназист.
– И фантазия может иногда осуществиться.
– Не в России!
– Там что, особые люди?
– Особые законы.
– А ты, Владимир, когда создавал кружки на Украине, не знал, что в России особые законы?
Дебагорий-Мокриевич остановился.
– Скажи, Ипполит, что ты задумал?
– Узнаешь, когда выполню.
– Секрет? Как это на тебя не похоже.
– Ты прав, Владимир, я сам заметил, что стал на себя не похож. А ведь это, пожалуй, естественно: время меняет человека.
Дебагорий-Мокриевич знал: если Мышкин не хочет сказать, то из него ничего на вытянешь.
– Пойдем в кафе.
– Идем, – охотно согласился Ипполит Никитич. – Выпьем на прощание по чашке крепкого черного кофе.
– За мечту о будущем? – иронически спросил Дебагорий.
– Нет, Владимир, – серьезно ответил Мышкин. – Мы с тобой уже старики, нам мечтать не полагается, мы с тобой должны дело делать.
15
Мышкин добрался до Петербурга. В городе шли аресты, но Мышкин не входил в дела революционного подполья: получив на «явке» документы на имя Михаила Петровича Титова и немного денег, он тут же уехал в Москву.
В Москве он прожил несколько дней: хотел узнать, где Фрузя. Но безуспешно.
Дальше! Дальше!
Какой тяжелый крест взвалил Ипполит Мышкин на свои плечи! Добраться до Вилюйска и, подобно капитану Штурму, увезти с собой Чернышевского! И этот дерзкий подвиг хочет он совершить один, один против всей полицейско-жандармской своры!
Мы, люди второй половины XX века, и вообразить себе не можем, каких физических и нервных усилий стоило человеку семидесятых годов прошлого столетия добраться до Вилюйска, до географической точки, затерявшейся в сибирском первозданном лесном хаосе, и к тому же человеку, за которым охотится полиция!
Железная дорога доходила тогда только до Волги, а остальные тысячи верст? Через реки, горы, таежное бездорожье. В ямщицких кибитках с ночевками на заклопленных станциях; на баржах и лодках, где сами пассажиры грузили и гребли; пешком со случайными попутчиками, которые делали привалы на каждой речке и на каждой заимке.
Но никакие трудности не пугали Мышкина. Он проехал Нижний, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень…
Ипполит Никитич присматривался к людям, беседовал с ними, и после двух месяцев пути он понял, почему у Войнаральского, Рогачева и Ковалика так горят глаза, когда они рассказывают о своем «хождении в народ». В народе, с народом легче дышит грудь, яснее видят глаза, спокойнее работает сердце. Сколько горя разлито вокруг! Но народ знает, кто причина этому горю, народ верит, что скоро наступит перемена, и эта вера дает ему стойкость, дает ему силу выстоять в беде.
Позади Волга, Кама, Тобол, Иртыш. Позади остались и плоские берега Оби, поросшие редкой чахлой зеленью.
В Томске Ипполит Никитич задержался на две недели, дальше не было пути: на Ангаре шла шуга, говорили, что через пять-шесть дней она станет.
Из Томска он уже выехал в кошеве, в крытых санях. Приходилось все время лежать, катаясь из стороны в сторону на раскатах.
Между Ачинском и Красноярском пошаливали воровские шайки, но Мышкин, надеясь на свой револьвер, ехал и ночью.
От Красноярска дорога то поднималась в гору, то спускалась в равнину. То вдруг горы сменялись суровой, дремучей тайгой. Местами неожиданно выбегали навстречу тройке лесные прогалины, и среди снежных сугробов ютились одинокие заимки.
После Нижнеудинска опять загромоздились горы, обросшие густым лесом.
Показался Иркутск.
В пути Ипполит Никитич общался со многими людьми, но ни с одним из них он не был откровенен, даже с такими, в которых угадывал друзей. Ему, Ипполиту Никитичу, нужна была дружеская помощь, но какую помощь могут ему оказать случайные попутчики? И к тому еще, думал он, какой друг одобрит его дерзкий план?
Но однажды, когда они еще плыли по Оби, Мышкин увидел: на мешках, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежит молодой человек и читает. Сначала Мышкина заинтересовала книжка: маленькая, в синем сафьяновом переплете, с золотым обрезом. Потом сам молодой человек: лицо бледное, тонкое, белокурая бородка, нос с горбинкой.
– Библию читаете? – спросил Мышкин, желая завязать разговор.
– Для меня это библия, – ответил молодой человек, присаживаясь.
– Можно ее посмотреть?
Мышкин раскрыл титульный лист и вдруг почувствовал такую слабость, что еле устоял на ногах. «Адам Мицкевич. «Дзяды», по-польски! Такая же книжка, только в другом переплете и без золотого обреза была у Фрузи!
Не отдавая себе отчета в своих поступках, Мышкин поднес книжку к губам, но в последнее мгновение он овладел собой и, возвращая поляку томик Мицкевича, немного суматошливо сказал:
– Кто бы мог подумать! В Сибири! На Оби! – напевным речитативом, подражая Фрузе, он прочел —
Молодой человек испытующе взглянул на Мышкина: в тулупе, валенках и заячьей шапке, с бородкой, давно не стриженной, был он похож на приказчика или молодого купчика из небогатеньких.
– С поляками дела ведете?
– Нет, жена моя полька.
И томик Мицкевича сблизил случайных попутчиков.
До самого Томска длилась их беседа. Поляк был из ссыльных – человек несчастный, но не озлобленный. Он видел вещи такими, какие они есть. Россию он не любил, но о русских говорил тепло – в его несчастьях они неповинны; над русским народом, говорил он, как и над поляками, один и тот же кнут свищет: царь.
Приятным собеседником был поляк, начитанный, любознательный. Он рвался в широкий мир и был благодарен Мышкину за его рассказы о Москве, Петербурге, за его рассказы о Швейцарии.
Описывать города бесстрастно, мертво, как это делают в путеводителях, Мышкин не мог – все его описания, помимо воли самого рассказчика, приобретали яркую социальную окраску, и умный поляк скоро понял, Что перед ним один из тех людей, которые под личиной приказчика или купчика скрывают свои высокие цели. И Мышкин стал ему близок, дорог – ведь эти люди отдают свои силы, свою жизнь за то, чтобы добыть свободу и для него, поляка. Только скромность, а может быть и выработанная годами ссылки конспиративная чуткость, помешала молодому поляку задать последний вопрос: «Кто вы?»
Томск. Баржа подходит к причалу.
– Михаил Петрович, – обратился поляк к Мышкину, когда они сошли на берег, – у вас есть друзья в Иркутске?
– Ни души.
– Я счастлив, поверьте, Михаил Петрович, я счастлив, что могу оказать вам услугу. – Он вырвал листок из записной книжки, написал несколько слов. – Отдайте это письмецо, и вас примут как родного!
Они расцеловались, попрощались…
И вот сейчас, в Иркутске, Мышкин разыскал фортепьянного настройщика, поляка из ссыльных, Вацлава Рехневского и отдал ему письмецо.
Прочитав записку, Рехневский обрадовался:
– Пане добродзею! Я счастлив принять в моем доме друга пана Феликса!
Рехневский усадил Мышкина, смотрел на него восторженными глазами и говорил, захлебываясь, о своем друге пане Феликсе – какой он ученый, какой он благородный, какой он великий музыкант…
Пришла жена Рехневского, пришли его три сына, гимназисты, и всем им хозяин представил своего гостя с такой церемонностью, точно это был министр или по крайней мере иркутский генерал-губернатор.
– Пан Титов – друг пана Феликса, и, конечно, он осчастливит нас на все время своего пребывания в Иркутске!
Мышкину понравился фортепьянный мастер – человек, который сохранил чистоту сердца после многих лет мучений, понравилась его жена – рослая, высокогрудая, со строгим лицом иркутянка, чем-то напоминавшая Ипполиту Никитичу его мать, понравились и сыновья – курносые парнишки с горящими глазами, но поселиться у настройщика Мышкин не хотел. Добрый Рехневский был слишком общителен – его знал весь город, и он знал весь город, а дело, которое затеял Ипполит Никитич, требовало тишины и как можно меньше человеческих глаз.
Осторожно, со многими оговорками дал Мышкин понять своему радушному хозяину, что он приехал в Иркутск ради одного серьезного дела, которое требует сосредоточенности, что приятная, но большая семья Рехневского будет его отвлекать.
– Я устрою вас у моих стариков, – заявила жена Рехневского. – Они живут в маленьком домике за Ушаковкой. Там вам будет покойно.
И действительно, в домике за Ушаковкой было Мышкину уютно и покойно. Старики заботились о нем как о родном сыне и с удивительным тактом не интересовались его делами.
16
«Капитан Штурм» стал для Мышкина символом, но отнюдь не образцом для повтора. «Капитан Штурм» действовал в городе, где жили не только люди, могущие помешать увозу Тельсиева, но и люди, желающие способствовать этому увозу. А в Вилюйске одни тюремщики! Тельсиев жил в Петрозаводске на свободе, с ним можно было общаться, с ним можно было договариваться, а Чернышевский под замком: с ним не посоветуешься, с ним не договоришься.
В мышкинском плане увоза Чернышевского должна остаться идея, метод «капитана Штурма», но сам план должен быть разработан применительно к Вилюйску и к такой крупной фигуре, какой является Чернышевский даже для своих тюремщиков.
Кто может получить доступ в тюрьму к Чернышевскому? Кто может сказать вилюйскому тюремщику: «Отпустите со мной Чернышевского»? Только власть имущий или представитель власти имущего! Чернышевский находится во власти жандармов. Следовательно, самое высокое в Восточной Сибири жандармское управление – Иркутское – может послать в Вилюйск своего представителя с предписанием: «Выдать такому-то государственного преступника Чернышевского». Кого в таком случае послало бы Иркутское жандармское управление? Конечно, жандармского офицера.
Переодеться в форму жандармского офицера несложно: мундир, шашку, побрякушки можно приобрести, а унтер-офицер Мышкин сумеет носить военную форму с такой гвардейской лихостью, что провинциальные офицеры ему позавидуют. Но где достать удостоверение личности и предписание о выдаче Чернышевского? Только в Иркутском жандармском управлении! Документы должны быть подлинные, на подлинных бланках, с настоящими печатями и написаны должны быть документы тем канцелярским языком, в котором обороты, обращения и расстановка слов незыблемы, как в молитве.
Мышкин приступил к выполнению своего плана.
Начал он издалека, со знакомства с людьми, которые к его замыслу никакого отношения не имели: с инженерами, со строительными подрядчиками, со служащими городского архитектурного управления.
В этих кругах скоро оценили чертежно-топографические способности Мышкина – его завалили работой и даже приглашали на штатную должность.
«Михаил Петрович Титов» стал много зарабатывать, к нему привыкли, его считали своим.
К тому же Михаил Петрович оказался широкой натурой: с компанией в трактир пойдет – сам платит, к себе зазовет – угостит на славу.
Круг знакомств постепенно расширялся: уже попадались чиновники, гарнизонные писаря и даже офицеры.
Выл среди новых знакомых и старший писарь» жандармского управления Непейцин – высокий, сухой, со строгим взглядом пожилой человек, но в подпитии. – весельчак и циник.
Мышкин не пил, даже чувствовал отвращение к водке, но с пьянчужкой Непейциным он сразу «подружился». Провозился с ним всю масленицу – ходил с ним по трактирам, устраивал вечеринки у себя за Ушаковкой.
И Непейцин привязался к Мышкину: к концу масленицы он уже отказывался от приглашений в знакомые дома, если одновременно с ним не приглашали его дружка Титова.
От Непейцина шел какой-то сложный и неприятный запах: не то чеснока, не то гниющей картошки. Ипполита Никитича тошнило при встречах с «Вонючкой», как он про себя звал жандармского писаря, но если посмотреть со стороны, как они, подвыпившие (Мышкин после первой же рюмки прикидывался пьяным), обнимаются или песни орут, можно было подумать: настоящие друзья!
И вот однажды, когда Непейцин жаловался своему другу на «паршивую жизнь»: «И в рожу тебе плюют, и денег нет», Мышкин решился:
– Хочешь, Костя, заработать красненькую?
– Какой чудак откажется. Только за что, спрашивается?
– За пустяк. У нас в архитектурном управлении служит инженер Соколовский. На него донос подан. Старик он очень хороший, и мне его жалко: затаскают человека. Донос, наверно, чепуховый: ведь Соколовский – старик смирный, безобидный. Сними, Костя, копию с этого доноса, пусть старик знает, какие грехи ему приписывают.
Непейцин ничего не ответил – вечер они провели как всегда: «песни орали», говорили о пустяках. А через день пьянчужка принес копию с доноса.
Ипполит Никитич прочитал аккуратно переписанную копию, тут же разорвал ее и, передавая Непейцину десятирублевую кредитку, тепло сказал:
– Ну его с жалостью. Соколовский может еще шум поднять, начнут искать виновных и до тебя доберутся. Будут у тебя неприятности. А я, Костя, не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты мне друг! Ты мне дороже всяких там инженеров Соколовских!
Непейцин принял деньги, но поступок Мышкина его растрогал: в этот вечер он больше пил, больше плакался на «паршивую жизнь» и чаще, чем обычно, клялся: «За тя, друг Миша…»
Мышкин действовал осторожно: сначала он поручал своему «другу» пустяковые, безобидные дела и за эти пустяки платил выпивкой или мелочью; потом, когда он убедился, что «Вонючка» жаден не только к водке, но и к деньгам, Мышкин попросил принести несколько бланков жандармского управления непременно с печатями.
– Зачем тебе? – удивлялся Непейцин.
– На всякий случай. Знаешь ведь, Костя, все мы под богом ходим. Авось при нужде выручат.
Непейцин принес бланки, и больше, чем нужно было Мышкину: ведь за каждый бланк с печатью Ипполит Никитич платил ему по рублю.
Пьянчужка привык к новому источнику дохода и поэтому был крайне разочарован, когда его друг и от бланков стал отказываться и поручения перестал давать.
– Жадный стал ты, Миша, – жаловался он. – Зарабатываешь сотни, а для друга десятки жалко.
– Эх, Костя, не понимаешь ты меня! К чему мне твои бланки? – Он достал из ящика стола несколько бланков, разорвал их. – Вот твои бланки! На кой ляд они мне? Спросишь, а зачем я их у тебя брал? От доброты сердечной, от любви к тебе. Вижу, тебе трудно живется, давай, думаю, помогу другу. Человек ты благородный, подачки от меня не примешь, вот я и затеял всякие там поручения да бланки. Ну а теперь, Костя, что можно выдумать? Ничего не выдумаешь. Хочешь, я тебе трешку подарю?
– Мне подачка не нужна.
Мышкин налил водку в стакан Непейцина.
– Вот и я говорю, что ты человек благородный, что ты подачки не примешь. Но что можно… – Он вдруг обнял писаря и сказал обрадованно – Костя! Учи меня писарскому делу! Будет и тебе и мне польза! Сегодня у меня есть чертежная работа, а завтра может ее не быть! Правда, Костя? Тогда в писаря подамся! А за уроки я тебе платить буду! По целковому за урок!
И две недели Непейцин учил Ипполита Никитича писарскому делу: как писать предписание на арест, предписание на выдачу арестанта, предписание на перевод арестанта из одной тюрьмы в другую, объяснял, кто какую бумагу должен подписывать, кто кому подчинен.
Непейцин оказался докой в этом деле, а Мышкин – способным учеником. Оба они остались довольны: Мышкин потому, что получил, наконец, возможность замкнуть утомительно длинную цепь подготовительных работ, а пьянчужка Непейцин тем, что за каждый урок получал, кроме выпивки, еще и рубль серебром.
17
Если в последние месяцы иногда закрадывалось в сердце Мышкина сомнение: «Удастся ли?», то сегодня, садясь в кибитку, Ипполит Никитич был уверен в успехе. Он предусмотрел все: в кармане документы на подлинных бланках, дорогу он изучил по лучшим картам, в офицерском мундире будет себя чувствовать не хуже любого старослужащего, а со всякими там урядниками да исправниками он найдет нужный тон.
Тройка сытых и крепких лошадей вынеслась на тракт. Сияло солнце, в небе курлыкали журавли. На сердце радостно.
В Качуге Мышкин пересел на паузок, груженный мукой, солью, салом.
Они плыли по Лене: над рекой нависли высокие утесы и скалы из красного песчаника. По правую руку темнели лиственницы, пихты и кедры.
Минули Жигалово, Усть-Куту, и река Лена развернулась во всю свою ширь.
Народ на паузке попался неинтересный, но назойливо любопытный. Многих интересовал пассажир, который, лежа на мешках, пристально всматривается в берега, словно ищет что-то, и от поры до времени заполняет страницы своей записной книжки закорючками и загогулинками.
Одни подходили к Мышкину и спрашивали в лоб: «Откуда? Куда? Зачем?» Другие нудно рассказывали о своих делах, чтобы получить право на те же вопросы. Мышкин отвечал всем обстоятельно, хотя в ответах его все было выдумано.
Проехали около тысячи верст, проплыли мимо Киренска, прошли знаменитое скалистое ущелье с известковыми утесами.
Паузок пристал у селенья. Мышкин сошел на берег. За ночлег потребовали с него три рубля. Вместо чая предложили ему водку. Здесь край золотопромышленников, край скорой наживы и угарного пьянства.
Мышкин решил немедленно выбраться из этого вертепа!
До Олекмы около семисот верст; ждать попутчиков в поселке было накладно. Мышкин решил купить лодку и ехать один.
Это граничило с безумием: один в лодке на реке в полторы версты шириной; кругом безлюдье, царство комаров, мошкары. Если заболеет? Если «белые ночи» лишат его сна, как это бывало в свое время в Петербурге, и он выбьется из сил среди дикой природы?
Но Мышкин не думал об опасности: он чувствовал необычайный подъем, он считал себя у порога цели, и никакие силы не могли уже остановить его! Перед его глазами неотступно стоял Чернышевский – вот такой, какой виделся ему на эшафоте: мудрый и улыбающийся…
Светлой лентой извивалась река меж темных берегов. Стояла первозданная тишина, и лишь легкий шорох перелетающих с места на место комариных полчищ нарушал иногда эту тишину. Что-то загадочное, таинственное чувствовалось в бесконечном строе могучих деревьев, выстроившихся дозором по обоим берегам. В тихие вечера казалось Мышкину, будто он очутился в храме, суровом и мрачном, где подавляют высокие стены и торжественная тишина. Сильный аромат пихт, словно фимиам, стоит в воздухе; как бледные светильники, мерцают красные жарки и желтые лишаи. Только храм пуст и безмолвен, разве изредка печально затоскует вдали кукушка, точно там, в глубине храма, одинокий голос повторяет все одну и ту же наивную молитву.
Ночью приставал Мышкин к берегу. От зверя и мошкары он раскладывал огромный костер. Над лесом стелется багровое зарево; на реке пляшут огненные языки.
У Мышкина был запас муки, сала, сухарей, кирпичного чая, и из этих запасов он готовил себе несложную еду. Поест, вытянется у костра и думает.
Казалось бы, все уже обдумано, все взвешено, все проверено, а беспокойная мысль, пользуясь любым случаем, толкает Мышкина к началу: нужно ли было?
Ипполит Никитич уже давно убедил себя, что революционное движение в России терпит беды от многомыслия, от отсутствия единой сильной воли, от отсутствия человека, который мог бы направить в одно русло усилия таких смелых, но разных по темпераменту людей, как Войнаральский и Кравчинский, Рогачев и Ковалик, таких смелых, но разных по мироощущению деятелей: петербургских «чайковцев», украинских «бунтарей» или «цюрихцев», обосновавшихся в Москве. Мышкин считал, что перед русскими революционерами стоит одна задача: перестройка общества, но многомыслие усложняет эту задачу, приводит к излишним жертвам. Только острый ум великого человека может подавить многомыслие среди революционеров и из сплава всех течений создать теорию и практику для скорейшего достижения цели.
И этим великим человеком может быть один только Николай Гаврилович Чернышевский – человек сильной воли и острого ума! Другого нет! И не пытаться освободить Чернышевского из неволи равносильно отказу от торжества революции!
Вглядываясь в темноту, смотря на огненные языки на реке, Мышкин в тысячный раз проверял свой план и не находил в нем изъяна. Он мысленно советовался с Фрузей, с Войнаральским и Коваликом, с Кравчинским и Рогачевым, со всеми, кому он верил и доверял, и ни у кого из его воображаемых советчиков план увоза Чернышевского не вызывал возражений.
Белые ночи изнуряли, мошкара ела поедом, подавляло величие суровой природы, угнетала девственная тишина. Время как бы остановилось: вода, лес, небо; вода, лес, небо. Только по все усиливающейся усталости чувствовал Мышкин, что он движется – вперед, к цели.
Наконец-то причалил Мышкин к Олекминску. Здесь – кордон, заградительный пункт по вылавливанию «подозрительных лиц». Но личность и поведение «Титова» ни у кого из начальства не вызывали подозрений.
Отдохнув после изнурительного путешествия, Мышкин стал заниматься «торговыми делами». Встречался с прасолами, договорился с ними о покупке больших гуртов скота, надеясь через этих богатеев завязать связи с крупным золотопромышленником, тем самым, который был известен в революционных кругах как щедрый поклонник Чернышевского: это на его деньги Ольга Сократовна Чернышевская совершила свою первую поездку в Сибирь, к мужу.








