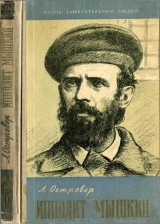
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Вышла одна неловкость: увлекшись, Мышкин прочитал и слова военного министра Милютина и ответ сановного старца. Царь, как бы желая удостовериться, действительно ли написаны эти слова, заглянул в тетрадь, но, видя одни загогулинки и закорючки, метнул злой взгляд на генерала Иванова и жестко спросил:
– Как понять?
Выручил генерала Иванова умный Милютин.
– Ваше величество, – сказал он своим мяукающим голосом, – унтер-офицер Мышкин, внеся постороннее в запись, хотел показать вашему величеству, что он поспел бы записать, кроме доклада генерала Иванова, еще и реплики, буде такие были бы произнесены.
– Молодец! Положительно молодец! – похвалил царь, но глаза по-прежнему холодные, безучастные. – Оставь мне свою тетрадь! Спасибо, генерал, – он пожал руку Иванову, – и вам, подполковник, спасибо, вы, кажется, тоже причастны к новой системе?
– Причастен, ваше величество.
– Одобряю, – сказал он, пожимая руку Артоболевскому. – А тебе, Мышкин, за ловкость, – он посмотрел в сторону белой двери, где стоял дежурный флигель-адъютант: – Дай унтер-офицеру двадцать пять рублей. – И, даже не кивнув головой, направился к двери.
Звеня шпорами и орденами, последовала за царем свита.
Когда дверь закрылась и в кабинете остались генерал Иванов, подполковник Артоболевский, Мышкин и дежурный флигель-адъютант, который вручал Мышкину голубую двадцатипятирублевую кредитку, Иванов бросился к Мышкину и, схватив его за грудь, промычал сдавленным шепотом:
– Что ты, сукин сын, наделал?
Флигель-адъютант укоризненно покачал головой:
– Унтер-офицер удостоился царской милости.
– Но меня он, подлец, зарезал своей вставкой! Зарезал!
– Наоборот, генерал, именно вставка повлияла на решение его величества.
– Тогда… тогда… – засуетился Иванов, и лицо его, багровое, злое, сразу стало ясным и теплым, как румяное яблоко, освещенное солнцем. Он вытащил из кармана кошелек, извлек из него трешку. – Получай, Мышкин, награду и от меня!
5
Генерала Иванова ждала у подъезда дворцовая карета; подполковник Артоболевский уехал на извозчике; унтер-офицер Мышкин пошел пешком. Он шел по набережной, смотрел на широкую, расцвеченную солнечными бликами Неву, смотрел на величественные здания, которые отгородились от внешнего мира колоннами и решетками, смотрел на приземистую церковь Петропавловской крепости, которая на острие своей колокольни подняла к небу золотого ангела, и… ни о чем не думал – вернее, думал о многом, но мысли неслись таким вихрем, что ни одна из них не успевала закрепиться в сознании. Всем своим существом сознавал Мышкин, что с ним произошло что-то большое, решающее: он, солдатский сын, сидел в царском кресле, за царским письменным столом, а царь, сам царь, стоял рядом с ним и любовался его уменьем. Ведь о таком счастье он и мечтать не смел, а между тем нет радости, что-то мешает ей пробиться. Что? Вот в этом, основном, не мог разобраться Ипполит Мышкин, и поэтому текли его мысли, как вода сквозь сито, не освежая и не оставляя следа.
Вспоминался иронический тон царя, его глаза, равнодушные, холодные, надменные; его рот с брезгливо оттопыренной нижней губой, как у человека, который вместо вина хлебнул воду. Ничем, решительно ничем не был похож Александр на того царя, которого он так часто видел в мечтах. Но ведь именно этот Александр освободил народ от неволи, ведь именно этот Александр дал ему, кантонисту, новую, человеческую судьбу.
Неужели он, Мышкин, по молодости не разбирается в людях? Или там, в царском кабинете, был он так ошеломлен необычной для него обстановкой, что потерял способность видеть людей такими, какие они есть на самом деле?
Он прерывал размышления, чтобы отдать честь офицерам, стать во фронт перед генералами; но после каждого перерыва мысли Ипполита Мышкина возвращались к какому-то началу, которое, развиваясь, не шло к логическому завершению, а растекалось на отдельные ручейки, все дальше и дальше уходя от главного: кто он, царь Александр?
На одной из улиц до слуха донесся барабанный бой. Мышкин машинально одернул на себе мундир и зашагал четким шагом. Барабаны били на Мытнинской площади. Мышкин не видел барабанщиков, издали проступали лишь кивера конных жандармов, а в их кольце – бородатый, в очках человек.
Мышкин удивлен: какого роста, подумал он, должен быть человек, чтобы его было видно поверх конников?
Мышкин вышел на площадь. Что это? Посреди площади – эшафот, выкрашенный в густой черный цвет. На эшафоте – черный столб, а на нем железная цепь. Возле столба – невысокий человек, бородатый, с виду суровый, но из-за стекол овальных очков проглядывают приветливые глаза. На нем длинное пальто с меховым воротником, на голове круглая шапка.
За спиной невысокого человека – два палача: оба в черном, под цвет столба. Немного в стороне – чиновник в треуголке, в вицмундире.
А вокруг эшафота – охрана, да какая! Три шеренги солдат с ружьями; за ними – кольцо конных жандармов; за жандармами – цепь из пеших городовых!
Кто этот человек с серыми приветливыми глазами? И зачем такая усиленная охрана?
На солнце набегали свинцовые тучи, утро начало хмуриться.
Народу на площади становилось все больше и больше. Подходили офицеры и студенты, подходили пожилые люди в широкополых шляпах и крылатках, целыми группами прибывала молодежь в «русских» костюмах, подходили девицы – стриженые, в черных платьях и черных башлыках. За спинами городовых скопилось несколько тысяч человек.
Многое удивило Мышкина: на эшафоте преступник и палачи, а попа нет. Какая казнь без попа?! И почему преступник не в арестантской робе?
Чиновник в вицмундире читал что-то с листа, читал торопливо, невнятно – ничего не разобрать! Правда, невысокого человека вовсе не интересовало чтение: он беспрерывно обводил близорукими глазами толпу, по-видимому искал кого-то? А возможно, подумал Мышкин, он и не ищет никого: ведь прежде чем попасть на эшафот, этот несчастный должен был долго просидеть в тюрьме, отвык от людей, не слышал шума толпы… И вот теперь она перед ним…
Неожиданно послышались из толпы окрики:
– Позор!
– Шапки долой!
Чиновник закончил чтение.
Один из палачей, детина с волосатым лицом, до того смотревший на все с тупым безразличием, сразу оживился, он достал откуда-то обнаженную шпагу и театральным жестом показал ее народу.
Второй палач сказал что-то хриплым голосом, и человек возле черного столба опустился на колени.
Обнаженная шпага блеснула в воздухе.
Замерла толпа, замерли солдаты. Это продолжалось несколько мгновений. Вдруг, точно озверев, первый палач смахнул шапку с головы осужденного и, поднявшись на носки, переломил шпагу над его головой.
Барабаны отбивали тревожную дробь.
Первый палач, подбоченившись, стоял у края помоста, как актер в ожидании аплодисментов.
Второй палач поднял осужденного, вдел его руки в кольца свисавшей со столба цепи, а затем повесил ему на грудь черную доску с надписью: «Государственный преступник».
Тут заголосила толпа:
– Опричники!
– Позор!
– Негодяи!
Гражданин в кумачовой рубахе и плисовых шароварах прорвался сквозь кольцо охраны.
– Хочу проститься с ним! – кричал он, озлобленно отбиваясь от наседавших на него городовых.
И в то время, когда городовые боролись с гражданином в кумачовой рубахе, выдвинулась из толпы девушка в длинной черной накидке и, замахнувшись, ловко бросила на эшафот букет алых роз.
Послужило это сигналом или вышло случайно, но вслед за розами полетели к эшафоту венки, букеты и охапки белой сирени.
Осужденный улыбался, кивал головой, кланялся во все стороны.
Городовые рассыпались. Одни пытались ловить людей, бросавших цветы, другие оттесняли толпу, рвущуюся к эшафоту…
Палачи подхватили осужденного под руки, уволокли его с помоста.
Молодой офицер, помахивая фуражкой, кричал:
– Прощай, Чернышевский!
Толпа подхватила:
– До свидания!
Мышкин выбрался из толпы. Его не увлек общий порыв: он был недоволен собой. «Есть люди, – думал он, – которые за какую-то правду идут на казнь. А за какую правду, ты не знаешь, не знаешь, Ипполит! Ты не знаешь, почему Чернышевский так дорог девушке в длинной накидке, почему он так дорог молодому офицеру, тому, который восторженно кричал: «Прощай, Чернышевский!»
И что ты, Ипполит, вообще знаешь о жизни? Ходишь гоголем с чужой медалью на груди и считаешь, что мир прекрасно устроен. А в этом прекрасно устроенном мире люди с улыбкой на лице идут на муки!
Ты сидел сегодня за царским столом, и в твоем сердце не было радости! Тебя поразил холодный и надменный взгляд Александра. А ведь ты, Ипполит, не разглядел, что за этой холодной надменностью скрывается трусливая озабоченность. Ведь он, Александр, в это время думал: «Как сойдет казнь Чернышевского?» Он, царь, конечно, догадывался, что народ будет тянуться к Чернышевскому через забор из штыков… И чтобы не допустить до этого, нагнал солдат, жандармов, городовых…
Помогло это царю? Нет! Чернышевский улыбался, к его ногам летели цветы, а те, что выполняли царскую волю, трусливо спешили, даже не посмели обрядить «государственного преступника» в арестантскую одежду!
Есть, видать, сила посильнее царя!
Вот, Ипполит, о чем надо тебе подумать!»
6
Опять школа: лекции, муштра, чертежи, стенография. К занятиям прибавилось чтение. Он читал жадно, неуемно, как человек, который должен в короткий срок нагнать упущенные годы.
В школе была приличная библиотека, но не все книги выдавались ученикам. Мышкину повезло: его соседом по койке оказался книголюб – парень, друживший с библиотекарем; тот доставал для Мышкина книги из так называемого «преподавательского шкафа».
Что читать, Мышкин не знал и поэтому читал все, что добывал для него товарищ.
Во многом юный Мышкин не разбирался: сегодня он соглашался с Белинским, завтра убеждала его логика Писарева. Только один Чернышевский казался ему безгрешным во всех своих высказываниях. Каждая страница Чернышевского напоена ненавистью к крепостному праву, к самодержавию. Его, Мышкина, увлекли герои романа «Что делать?» – волевые, талантливые люди, готовые в любую минуту на муки, чтобы своими муками и даже своей смертью очистить народу путь к счастливой жизни.
Если раньше, в первые годы ученичества, Мышкин сторонился товарищей, даже побаивался этих шумных и, как ему казалось, слишком смелых юношей, то теперь Мышкин искал их общества, бывал на секретных читках, участвовал в спорах…
1864 год. Школа закончена. По существующему тогда закону полагалось отработать четыре года в войсковых частях. Мышкина, как лучшего ученика, генерал Иванов потребовал для службы в Академию Генерального штаба.
Осеннее яркое солнце заливает город. На мостовых – кареты, дрожки, верховые, на тротуарах – толпы, толпы, в небе – золотой ангел, ангел, взлетевший на иглу Петропавловской крепости. Ангел простирает крест к Мышкину: не то благословляет, не то дорогу указывает.
Мышкин остановился перед зданием Главного штаба, что полукругом охватывает просторную Дворцовую площадь. Рядом – Зимний дворец. Там сидел Мышкин в царском кресле, за царским письменным столом…
Мышкин поднялся на четвертый этаж, в геодезическое отделение. Он нашел комнату № 216, постучал и, не дождавшись отклика, открыл дверь.
В комнате всего два офицера: капитан и подпоручик. Оба удивленно взглянули на вошедшего.
– Тебе кого? – строго спросил капитан, поднявшись из-за стола.
У капитана светлые, соломенного цвета, бакенбарды, они мягко сливаются с серебряным шитьем воротника.
– Унтер-офицер Мышкин, назначенный в службу в геодезическое отделение!
Отрапортовав, Мышкин протянул капитану свои документы.
Капитан сначала просмотрел документы, потом исподлобья взглянул на Мышкина, затем, прикрыв свой нос мышкинским пакетом, спросил:
– Воняешь?
Мышкин вопроса не понял:
– Как вы сказали?
Капитан отступил на один шаг и, не повышая голоса, сказал:
– Пошел вон. Службы не знаешь.
Мышкин вышел в коридор, длинный, унылый коридор с цепочкой белых дверей и синими песочными ящиками возле каждой двери.
Сколько надежд он связывал с новой службой! Ему чудилось, что именно здесь он начнет восхождение к тем высотам, о которых столько мечтал. Он будет служить и учиться, учиться, чтобы стать похожим на тех героев, которые ему полюбились, из романа «Что делать?». И вдруг – «Пошел вон!»
Дверь № 216 раскрылась, показался капитан.
Мышкин решительно шагнул к нему:
– Ваше высокоблагородие! С семи лет я на военной службе, с семилетнего возраста я знаю, что солдату полагается отвечать «так точно» и «никак нет». А на ваш вопрос я не мог ответить ни «так точно» ни «никак нет»: я вопроса не понял.
Капитан опять посмотрел на Мышкина исподлобья, но на этот раз посмотрел заинтересованно: ему понравился ладно скроенный юноша с живыми глазами и серьезной речью.
– Вопроса не понял? А в твоей характеристике сказано, что ты по-нят-ли-вый, – закончил он издевательски. Повернулся спиной к Мышкину, сделал несколько быстрых шагов, вдруг остановился и добавил: – Ступай к господину подпоручику.
Мышкин опять в комнате № 216. Подпоручик что-то вычерчивает на большом листе плотной бумаги. Перед ним угольники, линейки. От окна тянется солнечный луч, и он веером растекается по чертежной доске.
– Разрешите, ваше благородие!
Подпоручик поднял голову. Круглое лицо, тонкие усики, улыбающиеся глаза.
– Садитесь, унтер-офицер, – сказал он приветливо. – Как вас величать по имени-отчеству?
– Ипполит Никитич.
– А меня Михаил Сергеич. Сидите, Ипполит Никитич, не вскакивайте, забудьте, что вы нижний чин, мы с вами сослуживцы. Ошарашил вас капитан…
– Я его вопроса не понял.
– Его подчас и я не понимаю: с придурью он. Он убежден, что все солдаты грязные, что от них дурно пахнет. И, кроме того, обиделся: как это ему, сиятельному графу, придется сидеть в одной комнате с солдатом! Но не огорчайтесь, Ипполит Никитич, все устроится. Для карьеры наш сиятельный капитан поступится своим графским гонором.
И действительно, все устроилось.
Жизнь была однообразна и в то же время очень сложна. Мышкин работал и жил в центре города, а на котловом довольствии состоял при телеграфной роте, что квартировала за Невской заставой. Ходить туда завтракать, обедать и ужинать не было возможности, пришлось Мышкину тратиться на питание из своего жалованья. А жалованье было воробьиное: 4 рубля 20 копеек! Жил Мышкин на хлебе и воде, а сытым бывал только по праздничным дням, когда, свободный от службы, мог отправляться в телеграфную роту.
И так жил он четыре года, и если выжил, то только благодаря своему крепкому организму да тем крохам, которые могли ему уделить брат Григорий из своего нищенского жалованья кондуктора и мать из своего заработка поденщицы.
На службе быстро наладились отношения Капитан убедился в двух вещах: «от солдата не пахнет» и «солдат чертовски трудоспособен». Капитан был вздорным человеком, но достаточно умным, чтобы понять: на солдата можно свалить всю чертежную работу.
Мышкин работал безотказно: с утра до темна вычерчивал он топографические карты и до того набил себе руку в этом трудном деле, что частенько удостаивался похвалы начальства.
С Михаилом Сергеичем установились иные отношения. Подпоручик явно симпатизировал Мышкину. Правда, в присутствии капитана он обращался к Мышкину на «ты», зато когда оставались наедине, они беседовали непринужденно, даже дружески. Михаил Сергеич рассказывал Мышкину о своих семейных делах, говорил с ним о книгах, которые читал, интересовался планами Мышкина на будущее.
Мышкин был благодарен подпоручику за человеческое отношение, и в то же время был он крайне сдержан: голодный и униженный, Мышкин не мог преодолеть внутренней неприязни к сытому барчуку.
Как-то в субботу, на исходе рабочего дня, подпоручик сказал:
– Ипполит Никитич, вы жаловались, что у вас нет практики по стенографии.
Михаил Сергеич не понял Мышкина: не практика по стенографии нужна была ему, а приработок, который могли дать занятия по стенографии. У Мышкина не было свободного часа для побочных занятий, даже по праздничным дням приходилось работать дома.
– Да, Михаил Сергеич, совсем не занимаюсь стенографией.
– А хочется?
– Очень.
– Могу вам помочь. У меня по воскресеньям собираются друзья. Читаем, спорим. Иногда попадаются нам любопытные книги. Вот, например, завтра будем читать интересную книгу. Пришли бы ко мне, послушали, ведь вы любите хорошую книгу, а если книга вам покажется полезной, застенографировали бы ее. Вот вам и практика будет.
Мышкину понравилось предложение: он действительно любил хорошую книгу, но, увы, в штабе был лишен ее. В офицерскую библиотеку его не пускали, а в солдатской – одна дребедень.
Михаил Сергеич жил на Охте, в деревянном домике.
Старушка, открывшая дверь, поклонилась Мышкину и тепло сказала:
– Разденься, дружочек, самовар уже на столе.
Она проводила Мышкина по низеньким, но светлым комнатам. Желтые навощенные полы, на стенах – расписные тарелки.
В просторном кабинете человек шесть-семь – студенты и военные. На столе – самовар, блюда со снедью.
Михаил Сергеич поднялся с дивана:
– Ипполит Никитич Мышкин, мой друг и сослуживец. Прошу любить и жаловать!
Мышкин чувствовал себя неловко. Он пожимал руки, улыбался, но не мог отделаться от назойливой мысли: почему эти барчуки так обрадовались солдатскому сыну?
Артиллерийский юнкер, чернявый человек громадного роста, обнял его и, захлебываясь, промолвил:
– Наконец-то среди нас человек из народа!
Саперный подпоручик сказал церемонно:
– Рад пожать вашу руку.
А студент Военно-медицинской академии, длинноволосый, в дымчатых очках, потянул Мышкина за рукав:
– Тамбовский? – спросил он.
– Псковской.
– Почти соседи. Садись со мной, поговорить надо.
– Парфен! – оборвал студента хозяин. – Разговоры после. Давайте завтракать!
Все ели с большим аппетитом, перекидываясь при этом шутками, а Мышкин сидел словно замороженный. К еде не прикасался. Был уверен: барчуки знают, что он голодный, и пригласили его только для того, чтобы накормить голодного солдата!
– Ипполит Никитич! А вы что? Поститесь сегодня?
– Не хочется, Михаил Сергеич. Я дома плотно поел.
Как-то незаметно перешли от шуток к серьезному разговору. Юнкер достал из кармана книгу и, прежде чем приступить к чтению, сказал:
– Господа. Мы разобрались в споре Сент-Илера с Кювье. Мы проштудировали бюхнеровскую «Материю и силу». Проштудировали Дарвина и Молешотта. Мы убедились, что «природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». Мы убедились, что все живое на земле совершенствуется в результате борьбы за существование. И вот теперь, господа, перед нами вторая задача: проштудировать труды, которые преследуют цель усовершенствовать человеческое общество. Таких трудов немало, и мы все их добудем. Сегодня начнем с Фурье, с его труда «Принципы ассоциаций». – Он протянул книгу через стол. – Прошу…
Подпоручик, юноша с грустными, а может быть, усталыми глазами, принял книгу из рук юнкера, откашлялся и приступил к чтению…
Мышкин закрыл глаза. Размеренное чтение убаюкивало. Ему почудилось: он на Мытнинской площади, Чернышевский, прижавшись спиной к черному столбу, говорит тихим, задушевным голосом… «Люди-братья, вы рождены свободными, а вас держат в рабстве. Вы рождены, чтобы быть счастливыми, а вас угнетают несчастья. Вы сильны, а вас ломают, как ветер сухие ветки… Объединяйтесь… Объединяйтесь, люди-братья…»
Жизнь в Петербурге приобрела для Мышкина новый смысл. Он стал постоянным участником «воскресных чтений».
Кружок Михаила Сергеича не преследовал политических целей (хотя впоследствии почти все участники кружка стали активными революционерами), да и сам Мышкин в то время таких целей не искал. Он учился, учился, чтобы достойно спорить с товарищами, которые были значительно образованнее его, он учился, понимая, что только знания дают ему возможность считать себя полноправным членом «барского» кружка, он учился, предугадывая классовым своим чутьем, что именно на путях Фурье, Сен-Симона, Герцена, Бакунина, Лассаля и Маркса (хотя пути эти разные, и в этой разности нужно еще разобраться!) человечество должно искать спасение от нищеты и унижений.
Четыре года Мышкин, прослужил в геодезическом управлении Генерального штаба, и четыре года продолжалась учеба.
Мышкин получил назначение в Москву – правительственным стенографом.
Солдатский сын очутился на свободе! Мир велик и богат всем, чего просит душа, – умей только взять то, чего желает твое сердце. Но что выберет он, безродный кантонист, выживший только благодаря своей сильной природе? Он выберет все, что могут взять ясная голова и здоровые руки!
Должность правительственного стенографа была почетная и прибыльная. Точный, исполнительный, трудолюбивый, Мышкин был нарасхват. Он стенографировал на заседаниях Окружного суда, вел отчеты земских собраний, ездил в Пензу, в Нижний…
Новая жизнь, новые отношения! Переход от подневольного состояния и нужды к свободе и полному благополучию был так внезапен, что первые месяцы в Москве Мышкин все еще чувствовал себя солдатом: при встрече с офицерами рука сама поднималась к козырьку, хотя на голове вместо военной фуражки сидела шляпа; уже питаясь в ресторанах, Мышкин набивал ящики своего стола всяческой снедью, словно не верил, что действительно кончилась петербургская голодуха. Новая жизнь была чересчур необычна для «правительственного стенографа», чтобы он мог сразу поверить в ее реальность. В Окружном суде за восемь рабочих дней в месяц ему платили 46 рублей, а в остальные дни, стенографируя на съездах, собраниях и в ученых обществах, Мышкин зарабатывал больше двухсот! Он мог разрешить себе все! Одевался у Голышева – модного в то время портного; жил в гостинице на Тверской; обедал у Соколова и не в «низке», а на втором этаже, где обедала «чистая» публика; посещал театры, покупал книги, задаривал мать и брата Григория. Источник дохода был неиссякаем! При трудолюбии Мышкина, при его усидчивости он мог, если бы ему понадобилось, удвоить и утроить свои заработки: стенографов было мало, особенно правительственных, чьи стенограммы считались официальными документами.
Прошел угар первых месяцев «свободы», наступили трудовые будни. Мышкин свыкся и с работой и со своим положением Новая жизнь, новое окружение, все это уже казалось ему естественным. Адвокаты, земские деятели, журналисты – народ, с которым он ежедневно общался, – больше не вызывали в нем настороженности или недоверия. Он убедился, что среди них есть люди хорошие и плохие, прогрессивные и отсталые, но даже плохие и отсталые считали его «человеком своего круга». Жизнь Мышкина текла ровно и тихо, как ручеек на дне оврага.
В 1869 году Мышкин встретился с двумя людьми, и эти встречи немного взбаламутили его безмятежное житье.
Первая встреча произошла в Пензе. На собрании земцев Мышкин познакомился с мировым судьей Порфирием Ивановичем Войнаральским, местным богатым помещиком. Мышкин волновался, стенографируя его речь: в деревнях голод, мор, и Войнаральский закончил свою речь страстным предупреждением: «Народ не стерпит, народ поднимется!»
Войнаральскому было лет 25, но говорил он сурово и веско, как умудренный жизненным опытом старец.
В сознании Мышкина всплыло прошлое, тяжелое и горькое. В смелой речи Войнаральского он услышал и отзвуки каких-то своих мыслей, каких-то своих сомнений.
После заседания он подошел к Войнаральскому:
– Вы привели ужасные факты. Но что, по-вашему, нужно делать сегодня, завтра? И можно ли что-либо сделать в наших условиях?
Войнаральский взял Мышкина под руку, отвел его в сторону:
– Друг мой, разрешите задать вам два вопроса.
– Пожалуйста!
– Вот на вас хорошо сшитый фрак. Скажите, друг мой, если вам предложат снять с себя фрак и обрядиться в рубище, вы очень будете страдать?
Мышкин рассмеялся:
– Тринадцать лет я носил солдатскую рубаху!
Войнаральский удивился: перед ним стоял юноша с тонким, породистым лицом, с высоким лбом мыслителя, из-под которого смотрели пытливые карие глаза.
– Вы носили солдатскую рубаху? И целых тринадцать лет?
– Да я же бывший кантонист, я солдатский сын. Мой фрак – случайность!
– Тогда, друг мой, я второго вопроса вам не задам. Я не носил солдатской рубахи, фрак на мне не случайность, но для блага народа я готов сменить фрак на арестантский халат.
– Порфирий Иванович! – опять рассмеялся Мышкин. – Сменой фрака народу не поможете! – И закончил серьезно: – Я вас спрашиваю, какие выводы вы делаете для себя из фактов?
Войнаральский склонился к уху Мышкина:
– Такие, как я, должны сделать все, чтобы народ скорее поднялся. Вот мой вывод из фактов, которые вы изволили назвать ужасными. И если, друг мой, эти факты и вас тревожат, буду рад поговорить с вами в любое время.
И Мышкин узнал от Войнаральского, что в Пензе есть люди, которые уже работают для «блага народа», что эти люди связаны с кружками в Москве, Петербурге…
С одним из таких кружков, по указанию Войнаральского, Мышкин и связался по возвращении из Пензы. Но кружок этот чем-то напоминал Мышкину воскресные чтения у подпоручика Михаила Сергеича: участники кружка занимались самообразованием, самоподготовкой к «подвигу», не зная еще, в чем выразится их подвиг.
Вторая встреча произошла в Москве. Был поздний вечер. Мышкин, сидя за столом, расшифровывал стенограмму. В комнате стоял полумрак, лампа под густым синим абажуром освещала только листы бумаги и руки Мышкина.
Без стука вошел в комнату странный человек. В ярком пледе, накинутом на плечи в виде римской тоги, на голове шляпа с широченными полями, из-под которой ниспадали длинные волосы, на носу дымчатые очки.
– Вам что угодно?
– Если ты Мышкин, то мне угодно, а если не Мышкин…
Мышкин обрадовался: по голосу узнал он гостя. Поднялся ему навстречу:
– Парфен! Какими судьбами?
– Не судьбами, а ногами. Прямо с вокзала. А. ты, земляк, неплохо устроился. Наследство от тетушки получил?
– Не наследство, а своими руками добыл, – в тон ответил Мышкин. – Разоблачайся. Будем чай пить.
– Погоди, земляк, с чаем, – хмуро сказал Парфен. – Нам сначала надо кой о чем договориться. Михаил Сергеич дал твой адрес и предупредил…
– Как поживает Михаил Сергеич?
– Ничего. Ждет производства в штабс-капитаны. На примете невеста. Богатенькая. В общем кандидат в либеральные помпадуры.
– Ты не изменился, Парфен!
– А чего мне меняться? Ведь жизнь не изменилась. Но не в этом дело. Можно будет у тебя прожить недели две? Знай, земляк, жилец я не из спокойных: народ будет ходить, а возможно, и голубой мундир заглянет. Подумай, земляк, не повредит ли это твоей чистенькой репутации.
– Живи сколько хочешь и принимай кого хочешь!
Парфен сбросил плед с плеч. Какой убогий вид! Серые холщовые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя ситцевая рубаха, перехваченная тесьмой.
Мышкин достал из шкафа полотенце, тонкое белье и новый черный костюм.
– Бери, Парфен, и шагай в ванную. Помойся с дороги, переоденься, и будем чай пить.
Гость сделал так, как предложил ему Мышкин, – щедрость товарища его не удивила.
За чаем разговорились: Парфен приехал в Москву, чтобы набрать «группу».
– Зачем?
– В Тамбовскую губернию поедем.
– Почему именно в Тамбовскую? И при чем тут группа?
Парфен прилег на диван, закрыл глаза.
– Вот что, земляк. Вместо того чтобы отвечать тебе на всякие «зачем?» и «почему?», я тебе скажу главное. Не всех россиян прельщает производство в штабс-капитаны или тихая жизнь в уютных гостиницах. Есть чудаки, которые не могут мириться с тем, что где-то в Тамбовской губернии народ мрет от тифа и болотной лихорадки.
– А в Пензенской он не мрет?
– И в Пензенской мрет, и в Рязанской, и в остальных губерниях святой Руси. Но наша группа едет в Тамбовскую. – Он вдруг раскрыл глаза, пристально посмотрел на Мышкина. – А знаешь, земляк, такое положение вещей предопределено законами природы. Птицы летают, гады ползают, хищники пожирают…
Мышкин тряхнул гостя за плечи:
– Ты, летающий, ты слеп, как сова днем!
– Задело? – спокойно спросил Парфен.
– Не твои прописные истины! Все вы говорите о народе, о его нужде, страданиях. Один хочет снять с себя фрак и обрядиться в арестантский халат, ты бросил медицинскую академию и вырядился в холщовые штаны. И все для блага народа. Один мой знакомый, тот самый, который тоскует по арестантскому халату, устроил в своей деревне что-то вроде кассы взаимопомощи для мужиков и считает, что облагодетельствовал народ. Ты вот со своей группой едешь в Тамбовскую губернию, чтобы объяснить мужичкам: «Не пейте, милые, болотную воду, в ней, проклятой, тиф водится», – и тоже считаешь, что облагодетельствовал народ. Чепуха! Слышишь, Парфен? Чепуха!
Парфен присел, заинтересованно взглянул на Мышкина.
– Валяй, земляк. Ты начал дело говорить.
– Начал и кончил! Все!
– Обиделся?
– Да! На себя обиделся! Плохое вижу, а как до хорошего добраться, не знаю!
Парфен уехал со своей группой в Тамбовскую губернию. Мышкин продолжал заниматься стенографией.
В Окружном суде ему приходилось часто работать с одним адвокатом, человеком передовых и смелых взглядов, хотя с виду и по манерам он казался сановником времен Николая I.
В один из дней этот адвокат пригласил Мышкина «на чаек».
Впервые Мышкин очутился в барской квартире, высокой, светлой, где вещи радовали глаз богатством красок, где воздух был насыщен ароматом невидимых цветов, где человеческий голос звучал приглушенно из-за обилия ковров.
«Чаек» оказался обильным ужином, с винами и несколькими переменами горячих блюд. Посторонних не было: хозяйка, женщина с яркими губами, адвокат и дочь Варвара, девушка лет девятнадцати. Золотисто-пепельные волосы, большие светлые глаза с задумчивым взором.
За ужином был Мышкин неловок, малословен. Адвокат что-то рассказывал, а Мышкин любовался Варварой. Их глаза встретились. Она улыбнулась.
– Счастливый вы человек, Ипполит Никитич, – начал адвокат, когда они перешли в гостиную. – Деньги лопатами загребаете, а аз, грешный, в вашем возрасте на Козихе жил, а на четверых нас, студентов, одна пара сапог была.
Мышкин был благодарен, хозяину: он понимал, что умный адвокат «приподнимает» гостя в глазах своей семьи.
Мышкин не курил, но тут он взял сигару из ящика, закурил и… все поплыло перед его глазами. А когда пришел в себя, когда улеглось кружение в голове, он увидел трогательно озабоченное лицо Варвары и услышал трепетный голос:
– Правда, что вы были кантонистом?
– Правда.
– Расскажите что-нибудь о себе.
Мышкин видел нежный взгляд, и ему стало радостно. Он рассказал, как его высекли в день смерти Николая I. Рассказ звучал весело, с детской непосредственностью.
Установилась тишина. Адвокат и его жена почувствовали себя неловко, они избегали взгляда гостя. А Варвара положила руку на рукав Мышкина и с материнской теплотой сказала:








