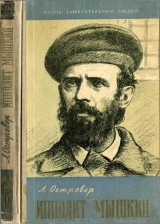
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
– В оба гляди! – сказал он часовому, закрывая дверь.
«Первая атака отбита, – подумал Мышкин, – но сколько таких атак впереди?»
Наутро Мышкин проснулся от стука при открывании двери. В камеру вошел смотритель с двумя унтерами и двумя жандармами. Не снимая фуражки, смотритель уставил на Мышкина свои стеклянные глаза, следя за каждым его движением.
Мышкин одевался.
– Как здесь насчет чаю? – спросил он.
Смотритель указал на стол, где лежал хлеб, оловянная тарелка с кашей-размазней и кружка с водой. Отчеканивая каждое слово, он сказал:
– Два с половиной фунта хлеба, щи, каша, вода. Больше ничего не полагается.
– Спасибо и на этом, – язвительно проговорил Мышкин.
Он умылся и, принимая из рук унтера полотенце, улыбнулся. Мышкину пришла в голову дерзкая мысль: а нет ли среди этих унтеров человека, которого можно будет использовать для связи с городом, с товарищами на воле?
Ободренный этой мыслью, Ипполит Никитич принялся за размазню. Увы, размазня была отвратительна на вкус, напоминала застывший клейстер.
Мышкин вспомнил изречение Гуфелянда: «Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле». «Но как быть, – подумал он, – когда голову ломит от холода, брюхо щемит от голода, а ноги преют в суконных портянках? Видимо, ученый гигиенист Гуфелянд, изрекая истины, не думал о том, что и в Петропавловской крепости живут люди!»
Унтеры убрали таз с водой, полотенце, посуду. Смотритель, стоявший все время напряженно, как злобный пес, ждущий сигнала хозяина «пиль», повернулся. За ним последовала вся жандармская орава.
После завтрака Мышкин отправился «на прогулку» по камере: из угла в угол.
Послышался легкий стук в стену.
– Кто вы… кто вы… – выстукивала барабанная дробь.
Хорошо, что Мышкин изучил в Якутске тюремную азбуку! Он простучал в ответ:
– Я Мышкин, а вы?
– Костюрин.
Завязалась беседа, нервная, торопливая, чтобы успеть сказать как можно больше до того, как перестук будет услышан кем-нибудь из охраны. После первых приветственных фраз, после пожеланий бодрости и здоровья Костюрин простучал:
– Наши войска перешли турецкую границу. Объявлена война за свободу болгар.
Мышкин ответил:
– А мы будем воевать с царем за русскую свободу.
Костюрин простучал быстро:
– Россия охвачена энтузиазмом. Народная совесть за войну. Молодежь идет в волонтеры. Пахнет свободой.
– Где? Нас душили и душат. Вы увлеклись.
Сосед замолчал.
Прошло лето, на дворе уже осень.
Через своего соседа Костюрина Ипполит Никитич завязал деятельный перестук со всей тюрьмой. Мышкин доказывал товарищам, что на воле осталось достаточно людей, чтобы продолжать революционное дело, что революцию, как смерч, как землетрясение, приостановить нельзя.
Одни соглашались с Мышкиным, другие спорили. С этими товарищами Мышкин возился, как нянька с капризными ребятами: убеждал, доказывал, уговаривал…
Тянется время. Вечный сумрак.
Все чаще и чаще стали раздаваться по ночам внезапные крики, вслед за криками – короткая возня, и слышно было, как что-то тяжелое проносят по коридору.
Бьют кого? Сошел кто с ума?
У Мышкина появилась обостренная, жгучая боязнь за жизнь всех своих невидимых друзей. В каждом шорохе, в каждом необычном звуке чудилось ему насилие.
Сама смерть не казалась страшной, однако какой смысл умирать ему или товарищам, если они своей смертью не облегчат участи других мучеников?
Не умирать надо, а бороться, бороться со своими мучителями!
Мышкин убедился, что большинство тюремщиков – мерзавцы, но в то же время и трусы: они донимают своими придирками только людей с подорванным здоровьем, с пониженной стойкостью. Тогда решил Ипполит Никитич подставить себя под подлый огонь смотрителя, чтобы тем самым отвлечь его от своих ослабленных товарищей.
Он стал изводить унтеров и жандармов колкими насмешками, а смотрителя доводил до бешенства.
Тот являлся ежедневно в сопровождении своей оравы. Мышкин как сидел спиной к двери, так и оставался сидеть.
– Встать!
Мышкин поворачивался и, улыбаясь, говорил приветливым голосом:
– А, директор ломбарда сегодня не в духе.
– Молчать!
– Вещи, сданные в ломбард на хранение, действительно молчат, но люди, сданные на хранение в тюрьму, обладают умением говорить. Это умение дано им от бога, и никакой тюремный смотритель не в силах спорить с богом.
– Немедленно упрячу…
– В карцер? Пожалуйста, господин директор ломбарда! Место знакомое, обжитое… Нашли чем пугать. Кстати, как бы мне там не простудиться, ведь за это взыщется с директора ломбарда.
Это повторялось изо дня в день, и смотритель всю свою злобу, всю черствость своего холодного сердца сберегал для ежедневных встреч с дерзким, неукротимым Мышкиным. Сажал его в карцер и выпускал, то топал на него ногами, то льстил ему, дошло даже до того, что стал ему говорить «вы», но… Мышкин был неистощим в своих издевательских выдумках.
Он стал писать пространные заявления – то сатирические, то негодующие – коменданту крепости и обер-прокурору сената. На успех своих заявлений он сам не рассчитывал: Мышкин развлекался самим процессом поддразнивания сатрапов, которых он презирал, и развлекал товарищей по горькой судьбе, которым посылал копии своих заявлений. Прокурора сената он просил указать ту статью закона, которая определяет размеры письменного заявления заключенного, так как комендант крепости поставил ему на вид, что он, Мышкин, пишет «слишком много и долго». Совсем иронически звучит заявление Мышкина к обер-прокурору сената, что-де в Петропавловской крепости «извращают христианское учение, ибо плох тот рай, в который гонят на цепи с жандармами». И каждое свое заявление он заканчивал: «Требую прокурора!»
Через три месяца явился прокурор. Он явился в сопровождении смотрителя, жандармов, надзирателей. Прокурор был осанистый, важный. Несколько минут он задержался возле двери, ожидая поклона, но узник не только не поклонился, но даже не повернул головы в его сторону.
– Господин Мышкин, что вы имеете сказать представителю правосудия?
Мышкин повернулся и ответил твердо:
– У меня к представителю правосудия одно заявление и одна просьба.
– Какое заявление? – насторожился прокурор, сразу почувствовав, что перед ним сильный враг.
– Вот какое, господин прокурор. Мы, я и мои товарищи, не каторжники, а только люди, находящиеся под следствием. Мы даже не привлечены к суду…
– Но, несомненно, будете, – вставил прокурор.
– Даже если будем, – еще жестче продолжал Мышкин, – то до приговора не должны нести наказания. А между тем нас держат как осужденных уже на каторгу.
– Заключение в крепость, – заторопился прокурор, стремясь как можно скорее закончить опасный разговор, – есть мера пресечения, а всякая мера пресечения ограничивает права.
– Но это не значит, чтобы нас морили голодом, развивали чахотку. При том еще, что это за мера пресечения, которая длится вот уже второй год? Это равносильно наказанию.
– Следствие, господин Мышкин, почти закончено. В скором времени вам пришлют обвинительный акт. А какая у вас еще просьба?
– Просьба незначительная: разъясните, пожалуйста, своим коллегам, что по законам Российской империи мы, я и мои товарищи, не лишены ни гражданских, ни просто прав человека.
Прокурор вспыхнул:
– Мои коллеги не нуждаются в разъяснениях! Они свои обязанности хорошо знают!
– Тогда простите, господин прокурор, – склонив голову, вежливо сказал Мышкин. – Простите меня за то, что я жандарма принял за представителя правосудия.
– Что?! – взревел прокурор.
– Именно то, что вы слышали. – И повернулся к прокурору спиной.
…В летний день уже 1877 года смотритель вошел в камеру и, прежде чем Мышкин успел произнести свое ироническое приветствие, сказал:
– Надо идти в канцелярию.
Он это оказал таким тоном, словно в канцелярии Мышкина ждет что-то очень приятное. Мышкин вмиг собрался.
Во дворике он сначала замедлил шаг, потом остановился; четыре чахлых деревца, поникшие травинки, забор… Это уже стало его миром, и сердце защемило: опять куда-то переводят…
– Надо поскорее, – напомнил смотритель, – там ждут.
Слышен мягкий шорох Невы, бойкие гудки пароходов, гул города.
– Надо поскорее!
Смотритель увел Мышкина в канцелярию.
Серые своды, длинные столы – на них сплошными грудами лежали синие папки.
За столами четыре человека с изможденными лицами, горящими глазами.
«Товарищи», – понял Мышкин.
В комнате стояли часовые; в сторонке, стараясь не попадаться на глаза, жандармский офицер.
– Садитесь, – предложил офицер. – Читайте обвинительный акт. – Он указал на груды папок. – Найдите свое дело.
– Здравствуйте, товарищи! – громко сказал Ипполит Никитич, приветствуя сидящих за столом. – Я – Мышкин.
Пошли рукопожатия, объятия, взволнованные слова,
– Прошу заключенных не разговаривать, – сухо заметил жандармский офицер.
Но Мышкин продолжал говорить что-то теплое, дружеское: ведь эти люди ему дороги, он с ними давно знаком, хотя видит их впервые.
– Прошу прекратить!
– Вот я пожал руку товарищам и прекращаю, – бодро ответил Мышкин.
Он сел, потянулся к папкам и выбрал из общей груды объемистую тетрадь: «Особое присутствие правительственного сената. Предварительное следствие по делу о домашнем учителе [2]2
Звание «домашний учитель» присваивалось лицам, окончившим специализированное училище.
[Закрыть] Ипполите Мышкине и других по Москве, произведенное Членом Московской судебной палаты Крахт, Высочайше назначенного для произведения следствия по государственным преступлениям, 1874 г.».
Мышкин подумал: «Для того чтобы заполнить такую тетрадь, нужно было три года…»
Он углубился в изучение дела.
В канцелярии стояла тишина, лишь изредка шелестели переворачиваемые страницы…
Вдруг – звон шпор, легкие шаги.
Мышкин обернулся.
– Фрузя! – воскликнул он, стремительно бросившись к девушке…
Это произошло так неожиданно, что и смотритель и жандармский офицер, растерявшись, обалдело смотрели на взволнованную пару.
– Фрузя? Ты в Петропавловке?
– Уже второй месяц…
– И я, осел, не знал этого…
Смотритель взял за руку Мышкина, жандарм – Фрузю, и вежливо оттянули их друг от друга.
– Господа, – сказал жандармский офицер. – Буду вынужден прекратить групповую читку.
– Это моя жена! – воскликнул Ипполит Никитич. – Понимаете человеческий язык? Это моя жена!
– Понимаю, господин Мышкин. Но мы с вами находимся в тюрьме, а не в гостиной.
– Ип, милый, не стоит спорить.
– Ты права, Фрузя. Им чужд человеческий язык. Они действуют по инструкции.
– Именно, господин Мышкин, по инструкции. Прошу вас садиться и знакомиться с делом. В вашем распоряжении немного времени.
Мышкин и Фрузя сели, но ни она, ни он дела не читали: они смотрели друг другу в глаза. О чем они думали? Пожалуй, об одном и том же: как ты изменился, но ты и такой мне дорог.
– Время истекло! – заявил жандармский офицер.
Звякнули ружья часовых.
– Увидимся в суде, Фрузя.
– Увидимся, Ип. Теперь у меня хватит сил ждать… Даже годы!
Мышкин сделал шаг в сторону Фрузи, но его задержал смотритель.
– Пошли! Время истекло!
Его вывели из канцелярии первым: он обернулся и крикнул:
– Фрузя! До скорого свидания!
– До скорого, Ип!
22
Жандармы и министерство юстиции из полутора тысяч арестованных отобрали 268 человек и, продержав их по тюремным одиночкам больше трех лет, завершили свое гнусное дело «Большим процессом» – процесс этот вошел в историю под названием «процесса 193-х».
А куда девались 75 человек? Ведь жандармы отобрали для вящей своей славы 268 юношей и девушек.
75 из отобранных умерли, покончили самоубийством или сошли с ума, не выдержав каторжного режима, созданного для них просвещенным министром графом Паленом.
«Большой процесс» даже для того сурового времени был подлым: все обвинительное заключение было основано на явной лжи и на подтасовках.
Но… разве министра Палена или жандарма Потапова интересовала истина? Достаточно препроводить две сотни молодых людей в суд, а уж там, в суде, холопствующие сенаторы найдут статьи для отправки на каторгу невиновных!
Правда, холопствующим сенаторам на сей раз пришлось очень туго: из 193 обвиняемых они были вынуждены оправдать 94!
Юношей и девушек, намеченных к «убою», жандармы собрали в одном месте: в петербургском «Доме предварительного заключения», что на Шпалерной улице. Туда свезли молодежь со всех концов России – из 37 губерний.
17 октября перевели туда и Мышкина.
Первого, кого он встретил, поднимаясь по железной лестнице в свою камеру, был студент Донецкий – близорукий приятель по Женеве.
– И вы тут? – удивился он.
– Я всегда там, где мои друзья, – ответил Мышкин, пожимая протянутую руку.
– Откуда?
– Из Петропавловки.
– Вот куда залетели!
– А вы думали.
– Господа, – поторапливал надзиратель, – успеете наговориться.
Мышкин взобрался на четвертый этаж, вошел в камеру – слышит, сосед стучит.
– Мышкин, приветствую. Откройте окно, вам хотят передать записку.
Мышкин распахнул окно, тут же с пятого этажа спустили ему записку на веревочке:
«Ип, милый, мы опять вместе. Если ты не очень устал, просись сейчас на прогулку. Буду ждать тебя у забора. Ип, милый, осень, а день какой чудесный!»
Мышкин потребовал смотрителя.
– Знаю зачем, – сказал он, не дожидаясь даже первого слова Мышкина. – Хотите на прогулку.
– Откуда знаете?
– Нашему брату положено все знать. – Он вызвал надзирателя. – Проводите господина Мышкина на прогулку. Полчаса разрешаю.
У Мышкина потекли слезы из глаз: как все это не похоже на Петропавловку!
Смотритель понял состояние заключенного.
– Туда, знаешь, – повернулся он к надзирателю, – к забору поведешь господина Мышкина, а сам уходи в сторону.
«Свидание» с Фрузей все же было испорчено, и испортили его друзья. Не успел Ипполит Никитич сказать Фрузе и частицы того, что теснилось в его сердце, как с одной стороны забора налетели мужчины, с другой – женщины, и все наперебой, вразрез друг другу заговорили о процессе. «Свидание» превратилось в многолюдное совещание. Посыпались предложения, делались торжественные заявления, вспыхивали споры.
Споры, видимо, велись уже давно: одни были за то, чтобы не подчиняться суду, чтобы вслух заявить: «Считаем царский суд гнусной комедией», другие – за подчинение суду.
Мышкин сразу вступил в спор:
– Товарищи, я тоже признаю, что никакие доводы и доказательства не проймут царских чиновников. Но поскольку суд все же состоится, мы должны воспользоваться им, чтобы через головы судей поговорить со своим народом. Мы не должны на суде ни оправдываться, ни защищаться, но мы должны оказать своему народу, за что мы боремся и с каким подлым, развращенным режимом мы боремся. Мы должны подбросить в костер революции свежую охапку хвороста. – Вдруг Мышкин перешел на шепот. – Товарищи, у меня к вам огромная просьба: доверьте мне произнести на суде краткую речь…
– Этих патентованных трусов, карьеристов и негодяев ничем не удивишь, – сказал Войнаральский.
– Верно, Порфирий Иванович, но я буду говорить не для них, а для народа, для пользы нашего дела.
– Пусть говорит Мышкин! – предложил Ковалик.
– А я ему набросок своей речи дам, – восторженно откликнулся незнакомый Мышкину молодой голос.
– Значит, согласны? – спросил Ипполит Никитич.
Его голос дрожал, в глазах всплеск радости, как у человека, который, наконец-то достиг давно желанного.
И молодежь, стоявшая по обеим сторонам забора, поняла, что именно он, Мышкин, сумеет донести до суда всю их боль, все их чаяния, все, что они передумали и перечувствовали в мрачных одиночках.
– Пусть говорит Мышкин!
Доверие товарищей растрогало Мышкина: он хотел поблагодарить их, сказать им, что речь уже давно сложилась у него в уме, он хотел тут же прочесть начало своей речи, но горло словно веревкой перетянуто.
Пришла на помощь Фрузя:
– Ипполит, напишите свою речь и передайте ее…
– Ковалику! – подхватил Войнаральский.
– Муравскому! Отцу Митрофану! – предложила одна из девушек.
– Рогачеву! – воскликнул Ковалик.
Послышался мощный бас Рогачева:
– Я предлагаю такую очередность. Мышкин передаст свою речь Муравскому, или, как его тут называют, «отцу Митрофану». Он автор «Безвыходного Положения», и его замечания будут ценны для Мышкина. Затем Муравский передаст речь со своими замечаниями по цепочке остальным.
На этом закончилось тюремное собрание.
Мышкину дали бумагу, карандаши, и он приступил к работе. Правда, отвлекали стуки справа и слева, и на эти стуки надо было отвечать. Весь корпус принимал участие в составлении речи: каждый вносил в нее что-то свое. Получил Мышкин и труд Муравского, его «Безвыходное Положение». Это была толстая, хорошо сброшюрованная тетрадь. Убедительно и остроумно Муравский доказывал, что прокурор Желиховский, автор обвинительного акта, шулер, что все его обвинение основано на лжи и клевете.
Работа Муравского привела Мышкина в восторг. Каждая строка «Безвыходного Положения», каждая фраза восстанавливали правду относительно событий и лиц, и это было очень важно, ибо Мышкин все же боялся, что личные испытания могут толкнуть его на путь преувеличений.
18 октября 1877 года повели 193 человека в суд. Чуть ли не целый дивизион жандармов с шашками наголо окружил измученных, изнуренных юношей и девушек, из которых многие передвигались на костылях, многие еле ноги волочили, многие кашляли надрывно. Но все были возбуждены, взволнованы.
Приветственные оклики, объятия, всхлипывания, слезы…
Странное шествие докатилось до здания суда и бурным потоком хлынуло в зал заседаний.
Суетятся приставы, нервничают жандармы, покрикивает толстый полковник.
Наконец разместили обвиняемых. 37 женщин усадили на скамьях для адвокатов; Мышкина, Войнаральского, Рогачева, Ковалика и Муравского устроили на особом возвышении, окруженном перилами, – эту клетку тут же прозвали «Голгофой»; остальные – на скамьях, предназначенных для публики.
– Суд идет! Встать!
Сияют звезды на шитых золотом мундирах, сверкают муаровые ленты, бренчат ордена. Сенаторы опустились в кресла, настороженно осмотрелись.
Кресла – глубокие, мягкие, а господам сенаторам неуютно. Совсем недавно они судили в этом же зале 50 человек, и один из них, бородатый мужик Петр Алексеев, занес над ними свой увесистый кулак и предрек им близкую кончину… «Ярмо деспотизма разлетится в прах…»
А эти подсудимые? Что готовят они? Сколько среди них Алексеевых? Неведомое беспокоит, угнетает, страх заползает в сердце… Потому-то так вежлив Ренненкампф, этот мордастый первоприсутствующий сенатор!
Первоприсутствующий приступил к опросу подсудимых о звании, вероисповедании, занятиях, летах…
– Ваше вероисповедание, обвиняемый Мышкин?
Прозвенел гибкий, бархатистый голос Мышкина:
– Я крещен без моего ведома по обрядам православной церкви.
На опросы ушло все утро. Председатель был сдержан, терпелив, а обвиняемые отвечали кратко, сухо.
Мышкин неотрывно следил за поведением судей, он видел, что они растеряны.
– Смотрите, – обратился он к Войнаральскому и Ковалику, – эти гордые павлины растеряли перья.
Скандал вспыхнул неожиданно. Когда формальный опрос был закончен, подсудимые потребовали перенести судебное заседание в более просторное помещение.
– Здесь нет публики! Вы устроили закрытое заседание! Вы лишаете, нас гласности! Отказываемся приходить на ваш Шемякин суд! – выкрикивал Рогачев.
– Удалить его! – распорядился первоприсутствующий.
Но, когда пристав хотел привести в исполнение это приказание, понеслись возгласы:
– Пусть выводят всех!
– Все разделяют это мнение!
Стоял шум, рокот сотен голосов.
И этот шум помог Ренненкампфу выйти из неловкого положения: удалить всех он не мог и не мог также оставить свой приказ невыполненным.
– Объявляю заседание закрытым!
Опять жандармы с шашками наголо, опять кольцо, и обвиняемых повели в… столовую.
Столы, накрытые белыми скатертями; салфетки, сложенные в виде митры католического епископа.
Мышкин уселся рядом с Фрузей. Она в белой блузке. Два золотых локона выбились из прически.
– Ип, какая роскошь!
– Улыбка палача.
– Но я благодарна палачу за эту улыбку! Я с тобой, близко-близко! Ип, милый, сколько раз я мечтала о таком счастье! Помню, однажды в камере было сумрачно, за окном лил дождь, на душе было очень скверно, и вдруг… ты зашел в камеру, взял меня за руку. Ип, это не была галлюцинация, я ощущала тепло твоей руки, я слышала твое дыхание, я видела, как блестят твои глаза… Милый, мне было так хорошо, как… тогда… помнишь…. на берегу Москвы-реки… в то утро…
– Господа! – раздался взволнованный голос у двери, – принес вам неприятную новость!
Это был один из адвокатов.
Все вскочили с мест.
– Какая еще новость?!
– Сенаторы решили разбить всех обвиняемых на группы и каждую группу судить отдельно. Они утверждают, что судить всех скопом невозможно. Что вас слишком много для нормального процесса.
– Новая гнусность! – воскликнул Войнаральский.
– Ведь все привлечены по одному делу! – возвысил голос Мышкин. – Такое решение несогласно даже с их собственными законами!
Поднялся шум.

С. М. Кравчинский.

Д. М. Рогачев.

С. Ф. Ковалик.

П. И. Войнаральский.
Второй день процесса. Подсудимые сидят мрачные, озлобленные. Прокурор – маленький, юркий, ехидный – приступил к чтению обвинительного акта. Одна ложь подгоняет другую. Часто, когда от прокурорского вымысла било в нос, как от навозной кучи, слышались выкрики из зала:
– Это позор для суда!
– Прокурор бесстыдно лжет!
Подсудимые вскоре потеряли всяческий интерес к обвинительному акту. Они стали меняться местами, перелезать через скамьи. Начавшие разговаривать вполголоса мало-помалу перешли на громкий говор, и зал превратился в громадный улей.
Пискливый голос прокурора утопал в общем шуме, а звонок председателя выбивался из сил, но никто не обращал на него внимания. В зале гудело: тут два товарища горячо заканчивали теоретический спор, начатый ими еще перестукиванием в крепости; там жених и невеста уславливались, как им быть после приговора, который, несомненно, разлучит их на долгие годы; здесь друзья юности спешили передать друг другу пережитое ими за годы одиночества. Бледные, исхудалые «кандидаты на смерть» грустно смотрели на тех, кто был еще в состоянии радоваться.
Чтение обвинительного акта закончено. Встал председатель, злой и суматошливый. Его бульдожье лицо поминутно менялось: то оно белое, то багровое. Он зачитал постановление суда: разделить всех подсудимых на семнадцать групп для отдельного суда над каждой группой.
Поднялся шум:
– Не имеете права!
– Произвол!
Нарастала буря. И, как удар раскатистого грома, голос Мышкина покрыл собой весь хор негодующих:
– Позор и стыд! Вы лицемерно взываете к правосудию, кричите о законности. Мы ясно и откровенно не признаем ваших законов, но вы, обвиняя нас в их нарушении, творите беззакония на каждом шагу!
С грозной отвагой глядя на врагов своих, отчеканивая каждое слово, бывший кантонист Мышкин бросал сенаторам в лицо одно обвинение за другим.
Все поднялись с мест, и зал точно сотрясался от взрыва негодования. Люди, просидевшие в одиночках по 3–4 года, ругали, поносили сановных судей.
Сенаторы почувствовали себя беспомощными: на них обрушился шквал. Они, сенаторы, знали, что творят неправое дело, но… такова воля царя!
И судьи сбежали, трусливо втягивая головы в плечи.
Но грозный голос Мышкина преследовал их:
– Вы позорно составили обвинительный акт, в котором нет ни смысла, ни правды, в котором вы хотите перед лицом населения выставить нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли! Наглость лжи и трусости – вот характеристика ваших действий!
Ворвались в зал жандармы. Они разъединили обвиняемых, сбили их в мелкие группы и среди общего шума и криков выталкивали в коридор.
23
Тюрьма бурлит: идет перестук, «веревочная почта» работает всю ночь, из раскрытых форточек слышатся целые речи.
«Протестовать! Протестовать!» – это слово бежит с этажа на этаж, из камеры в камеру.
Первая группа не пошла на суд – их потащили силой, но и там, в зале суда, они вели себя так дерзко, что первоприсутствующий был вынужден отправить их обратно в тюрьму.
То же случилось и со второй группой, третьей, четвертой…
Двадцатого ноября наступила очередь московской группы, двенадцатой по порядку.
– Иду на суд, – заявил Мышкин смотрителю, явившемуся к нему в камеру с четырьмя надзирателями, чтобы силой отправить его в зал заседаний.
– Вот не ожидал, – искренне обрадовался смотритель. – И в самом деле, господин Мышкин, какой смысл вам бунтовать: плетью обуха не перешибешь.
– Вы правы, господин смотритель, плетью обуха не перешибешь, но зато можно этот самый обух вырвать из рук палача!
– Уж вы скажете, господин Мышкин. Палач – он не всегда палач, бывают палачи и по принуждению.
– Это еще хуже! – оборвал его Мышкин. – Идемте, господин смотритель. О палачах поговорим с вами в другой раз.
Вся двенадцатая группа явилась на суд. Торжественный стол с красным сукном и золотыми кистями, судьи в бриллиантовых звездах. На «Голгофе» – Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалик; на скамьях – человек тридцать.
– Подсудимый Мышкин! Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?
Много лет ждал Мышкин этой минуты! Все тюрьмы, все тюремщики промелькнули перед ним, ожили мысли, продуманные им в гробовой тишине Петропавловки.
Но Мышкин не дал горечи подступить к горлу, он не дал сердцу захлебнуться в боли – поднялся, строго посмотрел на раззолоченных сенаторов и отчетливым голосом произнес:
– Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии… Основная задача социально-революционной партии – установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который удовлетворял бы требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных… Осуществлен он может быть только путем социальной революции…
Судьи переглянулись: неужели и этот занесет кулак?
Ренненкампф перехватил улыбку более опытного сенатора Петерса, поднял руку и мягким голосом сказал:
– То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили. Остальное вы можете сказать впоследствии.
Наступила тишина. Все головы обернулись к Мышкину. Он стоял на «Голгофе» прямо, четко, как часовой на посту. Бледное лицо, шапка черных волос, высокий лоб, глаза смотрят сурово и смело. Он было рванулся вперед, но тут же сам себя одернул, мысленно сказав себе: «Я должен быть так же спокоен, как этот мордастый сенатор».
Не повышая голоса, Мышкин сказал:
– Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции. Ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание. Ввиду неизбежности этого восстания нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное – предостеречь его от всех фокусов, которыми западноевропейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах…
Сенаторы опять переглянулись: перед ними стоял бледный, изнуренный, но сильный человек. Он говорил спокойно, убежденно, не разрешая себе ни единого резкого выпада против суда. Остановить его, оборвать не было причины.
– Первое движение интеллигенции в начале шестидесятых годов было отголоском того сильного народного волнения, которое было во время крестьянской реформы вследствие того, что народ не удовлетворялся этим мнимым своим освобождением. В наши дни обеднение народа, истощаемого непомерными платежами и поборами, дошло до того, что нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать громкого ропота народа. Этот ропот и вызвал движение семьдесят третьего – семьдесят пятого годов… Движения интеллигенции не созданы искусственно, а составляют только отголоски народных волнений…
Ренненкампфа возмущало спокойствие Мышкина. Казаться несправедливым он не хотел, но повода для «зажатия Мышкину рта» также не находил. А он видел, как солдаты охраны жадно слушают оратора.
И Ренненкампф решился:
– Я вам задал вопрос о том, признаете ли вы себя виновным. Вы себя признали принадлежащим к незаконному обществу. Я не вижу, что может еще остаться для выслушивания суду по этому вопросу.
– Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своею обязанностью, долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии! – Мышкин впервые повысил голое.
В зале стало так тихо, что слышно было шамканье престарелого Лукьянова – волостного старшины, представляющего «народ» в судебной коллегии.
– Ну да, – уже раздраженно промолвил Ренненкампф, – вы признали себя членом партии и достаточно разъяснили свое преступление.
– Но для суда необходимо еще знать причины! – оборвал его Мышкин. – Возникновение социально-революционной партии совершилось благодаря: во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западноевропейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли – образования Международного общества рабочих, и, во-вторых, благодаря уничтожению крепостного права, потому что после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу гнета государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной партии. Фракция эта – умственный пролетариат. Кроме того, крестьянская реформа оказала три важные услуги социально-революционному делу. Первое – с девятнадцатого февраля 1861 года начинается развитие капиталистического производства с его неизбежным спутником – борьбой между капиталом и трудом. Второе – крестьянская реформа, вместе с другими реформами, послужила для нас наглядным доказательством… полной несостоятельности политических реформ в деле коренного улучшения народного быта… Народ доведен до отчаянно бедственного положения, до небывалых хронических голодовок… Третье – крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее, увидел, что он жестоко обманывался, веря в царскую правду…
Председатель, нервно постукивая пальцами по столу, промычал:
– Вы достаточно уже выяснили свою мысль!
При ветре трава клонится к земле, молодое деревцо качается, а кряжистый дуб и не шелохнется. Таким кряжистым дубом стоял сейчас Мышкин перед своими судьями. Он видел злобу в их глазах, он слышал их змеиное шипение, но все это действовало на него, как ветер на ствол дуба.
Мышкин не получил «слова», он вырвал у суда право говорить, и этим добытым в бою правом он хотел воспользоваться до конца. Пусть шипят сенаторы, пусть бросают злобные взгляды, а он выскажет все, что созрело в месяцы странствий по сибирским рекам, в бессонные тюремные ночи, в спорах с товарищами, а зачастую в спорах и с самим собой.








