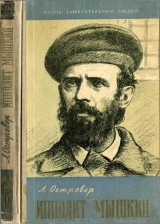
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Верно, Николай. Именно мы, а не наши внуки или правнуки должны разрушить эту стену. Только… Вот ты, я и все наши народники, за что мы воевали? Вспомнишь и диву даешься: какая была у нас цель? «Все для народа и все через народ». Что это? Акафист. Всё! Значит, и обманы Нечаева, и бомбы террористов – все для народа! Вот мой друг Кравчинский заколол на улице кинжалом самого главного жандарма Мезенцова. Какую пользу принес он этим народу? Вместо Мезенцова назначили другого жандарма. Или такая чистая душа, как Соня Перовская, или такой умнейший человек, как Желябов, за что они погибли? Какую пользу принесли они народу своей смертью? Цифру переменили: вместо Александр два появился Александр три… Ты не подумай, Коля, что я порицаю Перовскую или Желябова. Я преклоняюсь перед ними. Но… после цареубийства революционная волна пошла на убыль. Видишь, Коля, акафист не помог, не помогли и бомбы. Знаешь, что мне сказал на прощание Петр Алексеев? «Народ ждет ясного слова». А знаешь, Коля, какого ясного слова? Партия! Вот слово, которое нужно Петру Алексееву, нужно тебе, мне. Партия с такой программой, за которую любой рабочий, любой мужик-немироед, любой честный интеллигент пошли бы на плаху…
– Ну вот и договорились, – просто, буднично сказал Хрущев. – Давай не задержимся в Америке, скорее вернемся в Россию. Ты будешь партию собирать, а я, вот тебе моя голова, сотни рабочих к партии привлеку.
И Петр Алексеев и Ипполит Мышкин чувствовали потребность в такой партии, но, увы, «ясного слова» ни тот, ни другой сказать еще не могли, «…в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее– стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией…»[3]3
В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 224.
[Закрыть]
В Благовещенске беглецы пересели на пароход.
Все сходило гладко, никто ими не интересовался, но в сердце Мышкина притаилась тревога. Он понимал, что в тюрьме уже давно их хватились, что уже полетели во все стороны розыскные листы, что решающим является теперь, кто раньше дойдет до Владивостока: они или листы.
Но своими сомнениями Мышкин не делился с Николаем: ему не хотелось тревожить покой этого чудесного парня, который уже видел себя в Москве, в гуще рабочей массы. Плыли меж берегов, поросших лесом и густым острецом, проплывали мимо богатых деревень с каменными церквами, проплывали мимо одиноких хижин, проплывали мимо плотов, на которых бегали голые детишки.
Пароход хлопал плицами по воде, часто гудел – низко, тоскливо, словно жаловался на что-то.
Миновали Хабаровск. Пароход поднялся, вверх по Уссури.
Мышкин беседовал с попутчиками: он выпытывал, как живут, чем зарабатывают на хлеб.
Хрущев не принимал участия в этих беседах – прислушивался и восхищался умением своего товарища незаметно переводить любой разговор на «высокую политику».
Однажды он спросил Мышкина:
– К чему ты такие беседы ведешь?
– Какие такие?
– Все вглубь да вглубь. Будто что-то проверяешь.
Мышкин похлопал Хрущева по колену:
– Молодец, Коля. Умеешь слушать и умеешь делать выводы. Да, я проверяю, что ждет завтра тебя, меня и всех наших товарищей.
– Это что? – удивился Хрущев. – Вроде на кофейной гуще гадаешь?
– Вроде, – улыбнулся Мышкин. – Только не на кофейной гуще. Ты вот – деревенский, у вас в деревне, поди, астрономов не было, а погоду на завтрашний день мужики безошибочно угадывали. Посмотрят, как солнце садится, высоко или низко порхают ласточки на закате, и заявят: «Завтра ведро», или: «Завтра дождь». И в большой политике можно по мелочам угадывать погоду на завтра. Можно было предвидеть реформы шестьдесят первого года? Можно было. По каким приметам? В деревнях бунты, в городах волнения, на заводах брожение. Тут не надо было быть астрономом, чтобы предсказать бурю. А любое правительство бури боится и… отпускает гайку. Облегчение дает народу. Надолго? Нет, Коля, не надолго. Уляжется буря, правительство сейчас же гайку обратно. В шестьдесят первом отпустили, а уже в шестьдесят четвертом снова завинтили. Надолго? Нет, Коля. К концу семидесятых годов опять волнения в деревнях, опять студенческие беспорядки, стачки на заводах. За эти годы, Николай, прибавилось еще и кое-что новое: в Одессе и Петербурге появились рабочие союзы; рабочие вместе со студентами устроили манифестацию перед Казанским собором; рабочие послали в Париж адрес в связи с празднованием годовщины Парижской коммуны; два больших политических процесса: 50-ти и 193-х… Опять поднялась революционная волна, опять, значит, приближается буря. Что делает правительство? То же самое, что сделало в шестьдесят первом году: отпускает гайку, обманывает народ посулами. Прошла гроза – опять аресты, тюрьмы, каторжные приговоры. Надолго? Вот это, Коля, я и проверяю. Проверяю, идет ли третья волна. И знай, Николай, если третья волна подымется, то уж никакие лисицы Лорис-Меликовы не спасут царизм: грянет революция!
– И к какому выводу ты пришел? – сдержанно спросил Хрущев. – На что указывают приметы? На ведро или дождь?
– Не вижу третьей волны. – И, сказав это, Ипполит Никитич медленным шагом направился на нос парохода.
Растительность на берегах стала богаче, красочнее. Среди садов мелькали белые куртки корейцев.
Но все, что видел Мышкин, просеивалось в его сознании, как песок сквозь сито. Чем ближе к Владивостоку, тем гуще становилась тень от прошлых неудач. Тревожила и история со станичным атаманом: он узнает нас по приметам розыскного листа и направит поиск во Владивосток!
И Мышкин решил сойти с парохода в Раздольной, верст шестьдесят не доезжая Владивостока.
– Лишняя осторожность не помешает, – согласился Хрущев, не понимая, что для них это не «лишняя осторожность», а единственный путь к спасению.
В Раздольной они наняли лошадей и поздно вечером приехали во Владивосток.
Остановились в плохоньком трактире, заночевали, а на другой день, позавтракав, пошли к Золотому Рогу.
На рейде много кораблей. Флаги – разноцветные, с крестами и с полосами. На берегу толчея: грузят на корабли, выгружают с кораблей, возят тюки из города, отвозят тюки в город. Грохочут цепи, гудят гудки, скрежещут лебедки. Около кабаков шумят пьяные матросы; китайцы стоят кучками и многозначительно молчат. Таможенные стражники и городовые шныряют во все стороны – прислушиваются, присматриваются.
Разговорившись с пожилым матросом, Мышкин узнал, что завтра в полдень уходит в Америку японский грузовой пароход.
– Берет пассажиров, – заверил матрос. – Для богатых у него кают нет, а вот для таких, как вы, найдется уголок.
И из сердца Мышкина ушла тревога: они заночуют у себя в трактире, притаятся, а завтра…
Хрущев купил два апельсина.
– Сроду не ел, – оправдывался он перед Мышкиным за трату из общего капитала. – Хочу попробовать, что это за фрукт. – Один апельсин он протянул Мышкину. – Получай свою долю.
Мышкин улыбнулся: ребенок.
– Можешь и мою долю съесть, я не люблю апельсинов. Вот приедем в Америку, я тебя там ананасом попотчую, вот это фрукт!
– Неужели вкуснее апельсина?
– Во сто крат!
– Чудеса!
Они вышли из бухты и переулками, где меньше народу, вернулись в трактир.
Мышкин распахнул дверь… и знакомое чувство опасности холодом влилось в сердце. Перехватило дыхание, потемнело в глазах: на стуле, поставив шашку между ног, сидел жандарм.
– Пожалуйте в управление, – сказал он, поднявшись.
Случилось то, чего Мышкин опасался: их опередили розыскные листы! Их ждали, за ними следили!
Вышли на улицу.
Мышкин заметил: шпики и городовые уже обхватили дом полукольцом.
Бежать было бесполезно, бессмысленно.
Шпиков и городовых увидел и Хрущев. Он взял
Мышкина под руку, прижался к нему плечом и от всего сердца, с радостной дрожью в голосе сказал:
– А все же, Ипполит, больше месяца подышали мы с тобой свежим воздухом.
35
В тяжелых кандалах – ножных и ручных – прибыл Мышкин обратно на Кару.
Его поразила тюрьма: охрана усилена, камеры перегорожены, всюду замки, запоры; товарищи угнетены, подавлены. Когда он вошел в камеру, его поразило: заключенные вповалку лежали на голых нарах. Один из них бился в припадке падучей, другие, хотя и здоровые, но до такой степени исхудали и пожелтели, что были похожи на мертвецов.
– Из-за меня, – сказал Мышкин.
Но товарищи, особенно Рогачев и молоденький Чернавский, его разубеждали:
– Не из-за вас, Ипполит Никитич. Это после одиннадцатого мая. Восемь человек бежало благополучно, а вот пятая пара нарвалась на часового… Все из-за Минакова, уж очень он горячий человек…
Мышкин ушел в себя. Бежать не удалось. Однако значит ли это, что он должен примириться со своим положением? Все в нем возмущалось, бунтовало.
А жизнь в тюрьме все усложнялась: тюремщики злобствовали. Выносить такой гнет, гнить заживо, без надежды увидеть свет было бы противоестественно: все думали о протесте, дело было лишь в том, в какую форму облечь этот протест и каким образом придать ему массовый характер.
Объявили голодовку.
На шестой день тюрьма представляла мрачное зрелище. На голых нарах лежали люди. Одни лежали молчаливые, неподвижные, с руками, сложенными на груди, с ногами, свисающими с досок под тяжестью кандалов, другие ворочались с боку на бок и глухо стонали. Глаза одних холодно блестели, как светляки темной ночью, потускневшие зрачки других, казалось, угасли навеки. Некоторые совсем обессилели, трупной синевой отливали их лица, другие же, побеждая усилием воли собственную слабость, старались словами утешения подбодрить менее стойких.
Произвело ли это зрелище впечатление на смотрителя тюрьмы, или он опасался выговора «за недосмотр», но на шестой день голодовки он предложил заключенным выбрать из своей среды двух делегатов с целью выяснить причины, вызвавшие голодовку. Выбрали Мышкина и Ковалика.
Шатаясь от слабости и зловеще бренча кандалами, направились два скелета к смотрителю тюрьмы. Говорить пришлось одному Мышкину: у Ковалика язык от голода одеревенел. Смотритель выслушал Мышкина и обещал доложить обо всем губернатору.
Прошел день, два – никаких результатов. Тогда Мышкин, почти не владея рукой, заставил себя написать:
«Господину коменданту тюрьмы государственных преступников
Государственного преступника Ипполита Мышкина от лица 54 человек, голодающих восьмые сутки в тюрьме.
Заявление
К тем стеснениям, каким мы подвергались и прежде, вроде, например, запрещения переписки с самыми близкими родными и высылки отсюда матери одного из нас за то только, что она, поддавшись вполне естественному чувству, послала через подлежащих властей, а не каким-либо запретным путем, письмо, написанное одним из заключенных, после 11 мая, ознаменованного беспримерно вызывающим и невыносимым отношением к нам местного начальства и казаков и избиением некоторых из нас, привлеченных за это же избиение к судебной ответственности, начали совершаться все новые и новые стеснения и оскорбления: нам брили головы, несмотря на то, что на многих из нас, особенно страдающих нервным расстройством и головною болью, операция эта действует очень вредно и предохраняющим от побегов средством она служить не может (Павел Иванов бежал из Красноярска с бритою головою); некоторых из нас заковали в наручники, чему не подвергался до сих пор никто из нас в тех местах, где мы содержались на каторжном положении; нам приходится подвергаться массе мелочных придирок и оскорблений; несмотря на словесное предоставление нам права улучшать пищу на собственные средства, в действительности это право оказывается совершенно фиктивным: мы просим купить масла, и нам три недели не покупают его, просим о покупке самой дешевой ягоды (голубицы), и нам отказывают в ней, как в роскоши, хотя эта ягода требовалась как противоцинготное средство; даже ложки и перец покупаются только после многократных, в течение 8—10 дней, напоминаний и просьб; одного из нас (Богданова) сажают в карцер и потом выпускают с объяснением, что он попал туда «по недоразумению», какой-то мелкий чиновник наговорил напраслину, а подобающие администраторы не потрудились немедленно проверить степень справедливости наговора и поторопились упрятать в кутузку оговоренного; мужья лишены свиданий с женами, приехавшими за ними с разрешения высших властей и подвергшимися этому запрещению без всякого повода с их стороны; мы, удаленные от родных, от всех близких нам людей на много тысяч верст, лишены права переписки с отцом, матерью, братом, сестрою, хотя этим правом пользовались те из нас и тогда, когда содержались в централках. Значит, это запрещение проистекает не от закона, а от произвола неизвестных нам начальствующих лиц; нас не водят на прогулки и весь день безвыходно держат в недостаточно просторных, зараженных разными испарениями комнатах; отсюда развитие цынготной болезни, причем нам не дают ни казенных противоцынготных средств, ни позволяют покупать на наш собственный счет; совершенное игнорирование наших просьб вроде приведенного факта о покупке припасов и подобных многочисленных однородных случаев привело нас, наконец, к тому, что в последнее время мы стали уклоняться от всякого обращения к ближайшим начальствующим лицам с просьбою об удовлетворении наших текущих, обыденных потребностей. И, наконец, после 11 мая, одно из самых первых мест принадлежит лишению нас права какого бы то ни было физического или умственного труда, лишению возможности иметь какие бы то ни было книги, и таким образом мы обречены на убийственное изо дня в день, с утра до вечера безделье, представляющее одно из самых гибельных условий, разрушающих здоровье и умственные способности. Многим краткосрочным из нас давно уже окончились присужденные им сроки каторги, и тем не менее их продолжают держать в тюрьме.
Насколько нам известно, все наши вещи, книги и вновь получаемые посылки сложены в беспорядочную кучу в сыром амбаре и подвергаются скорому гниению, так что от них скоро, вероятно, останется одна гниль. Указываем на то, как на одну из мелочей, характеризующих отношение к нам и к нашим вещам. И все это держится в амбаре на основании будто бы постановления следователя о секвестре нашего имущества с распространением его даже на посылки, присылаемые нам родными после первых чисел мая.
Заявление это написано мною, Мышкиным, а не другим кем-либо собственно потому, что я принадлежу к числу тех немногих лиц, которые, несмотря на недельный голод, сохранили еще некоторые мысли; остальные же голодающие товарищи, из которых одни проголодали уже семь, а другие даже восемь дней, уже совершенно ослабели; написано это заявление не раньше, а лишь после такого продолжительного голода (он начался для одних 12-го, для других 13-го июля) собственно потому, что лишь сегодня мы получили возможность изложить мотивы, принудившие нас к отказу от пищи.
Ипполит Мышкин».
Июля, 19 дня, 1882 г.

Петр Алексеев.

Ипполит Мышкин.


Петропавловская крепость.

Карийская мужская тюрьма.

Шлиссельбург. Старая тюрьма.
Тринадцать дней продолжалась голодовка.
Как и предполагал Мышкин, заключенным вернули книги, чуть улучшили пищу, но какое это имеет значение для людей, мечтающих о борьбе за большую правду, а не о лишней крупинке в супе?
Об этом Мышкин и сказал товарищам:
– Нас будут душить постепенно, будут годами стягивать петлю, пока всех не передушат. Поймите, друзья, когда вы убедились, что нет никакого выхода, нужно бороться с самой безвыходностью. Мы должны быть морально неуязвимы для врагов. Несмотря ни на что мы должны иметь волю к победе, и мы победим!
И опять, как и в Ново-Белгородской тюрьме, вокруг Мышкина забурлила жизнь: пошли споры, диспуты, на лицах уже виделись улыбки, с губ уже срывались шутки.
Мышкин возобновил переписку с Софьей Лешерн. От ее записок веяло чистотой, доверием. Ипполит Никитич стал писать ей о самом сокровенном, о том, о чем он не говорил даже своим ближайшим друзьям.
«Как бы я хотел снова произнести речь, но такую, которую слышал бы весь мир, чтобы весь мир содрогнулся от тех ужасов, которые я расскажу! Ценой жизни я готов это сделать… Я показал бы им всех запытанных, замученных, сведенных с ума, я показал бы им прикованных к тачке: безумного Щедрина, Попко и Фомичева. О, как все это ужасно! Тем более ужасно для меня! Ведь они платят нечеловеческими муками за наш неудавшийся побег, за мой побег».
Стояло знойное душное лето, но записки Софьи Лешерн врывались в камеру Мышкина, словно порывы горного ветра. На каждую записку, самую коротенькую, он отвечал большим письмом, и каждое письмо было тематически законченное. Он писал о своей матери – от детских своих лет до последнего свидания в Мценской тюрьме, он писал о Фрузе – от их первой беседы в типографии до той душевной боли, которая послышалась ему в ее прощальных словах; он писал о своих муках, о своем желании во что бы то ни стало вырваться из мертвого круга и опять стать в ряды живых борцов; и если, писал Мышкин в этом письме, я не найду выхода из мертвого круга, то изобрету что-то такое, чтобы и смерть моя пошла на пользу нашему общему делу. И плакать по этому поводу не стоит! «Если не мы, то младшие поколения выполнят наши задачи! Наш долг передать им свой опыт, воспитать их борцами!»
И в этот же знойный июль 1883 года Ипполита Никитича Мышкина вызвали в контору, заковали, усадили в повозку и увезли в Иркутск, а оттуда в Петербург, в более надежную тюрьму.
Опять Петропавловская крепость. Но на этот раз не Трубецкой бастион, а мертвый, гиблый Алексеевский равелин.
– Разденься! – услышал Мышкин резкий голос.
Перед Мышкиным стоял жандармский офицер – коренастый, с молодецки выпяченной грудью и широкими ручищами. Донельзя было противно его бритое, мясистое лицо, толстые губы и выражение тупого самодовольства. Личность, которая может оскорбить, истязать, тиранить, может свести с ума, загнать в могилу.
– Разденься, говорю!
Мышкин понял, что перед ним наглый, бесчувственный, жестокий жандармский ротмистр Соколов, известный среди политических под кличкой «Ирод».
Мышкин невольно опустил руки. Ему стало ясно, что наступил предел его странствований. Теперь-то уж ничего худшего с ним не случится! Но… это худое было так скверно, что всякое утешение потеряло свою ценность.
«А ведь не один я в равелине, – подумал Мышкин, – сообща найдем управу и на иродов».
Эта мысль его успокоила.
– Надеюсь, не будем ссориться, – тоном выговора промолвил Ирод.
– Поведение заключенного зависит от такта смотрителя, – смело, даже дерзко промолвил Мышкин.
– Такта еще захотел! Я тебе такой такт пропишу…
Столько злорадства, столько бульдожьей свирепости было отображено на лице Ирода, что старенький капитан Домашнев, ведающий жандармами, счел нужным вмешаться.
– Чего вы, ротмистр, расстраиваетесь? Пусть разденут заключенного.
К Мышкину кинулись жандармы: стали раздевать, обыскивать, обряжать в арестантское.
36
Мышкин долго не мог заснуть. Может, оттого, что было еще рано, может, оттого, что было холодно, а более всего от тревожных мыслей.
Алексеевский равелин! Он не успел не только испытать, но даже познакомиться со всеми его прелестями, однако и того, что он уже испытал, было вполне достаточно, чтобы чувствовать ужас при одной мысли, что впереди ждут годы, долгие годы – четверть века (за побег ему еще надбавили 10 лет) – таких страданий и унижений. Так не лучше ли предупредить неизбежную развязку и избавиться от бесполезных страданий?
Но, подумал он тут же, имеет ли он право так распоряжаться своей жизнью? Принадлежит ли ока только ему одному?
Утро. Щелкнул ключ, дверь распахнулась, в камеру вошла целая толпа. Один взял лампу, другой переменил ведро, третий поставил на стол кружку с водой, четвертый положил кусок черного хлеба.
Завтрак окончен. Орава ушла. Мышкин сел на кровать, окинул взором все окружающее. Сумрак. Перед окном возвышается стена. В камере сыро, на стенах пятна.
Тихой чередой потекли мысли. В этой камере или в камере рядом, такой же мрачной и грязной, сидел Чернышевский! За таким же столиком писал он свой роман «Что делать?». Он не видел пятен на стенах.
«Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес…»
Вот что видел Чернышевский в этой грязной камере!
Шаги и звякание шпор в коридоре. Мышкин понял: водят на прогулку – то легкая женская поступь, то твердые мужские шаги.
Народу немного: ведь во всем равелине всего 14 камер, но сколько людей тут перебывало? Сколько глаз поднималось к этому запыленному своду? Сколько взоров блуждало по этим угрюмым стенам? Сколько было в этих камерах продумано, выстрадано? Сколько здесь загублено молодых сил, сколько жизней разбито?
На прогулку Мышкина не взяли.
Наступило время обеда. В двери раскрылась форточка. Дали миску щей и немного гречневой каши-размазни.
Когда затихло в коридоре, Мышкин лег на кровать и ногой постучал соседу справа:
3—2, 6–1, 5–4, 2–5, 2–4, 3–3.
Это означало: Мышкин.
Раздался в ответ тихий, едва уловимый стук:
2—5, 3–4, 3–1, 3–4, 1–5, 2–5, 2–1, 1–3, 2–4, 5–3.
«Колодкевич», – обрадовался Мышкин.
Одиночество отступило: рядом друг, товарищ по борьбе. Они проговорили до ужина, до того часа, когда в коридоре начали грохотать солдатские шаги.
Перед сном Мышкин остановился возле другой стенки, стоял недвижимо, словно задумавшись, а ногой тихо выстукивал:
– Я – Мышкин.
– Я – Арончик, – ответила ему стена.
Тоже народоволец!
– Жить можно! – проговорил Мышкин, укладываясь спать.
Просыпается Ипполит Никитич, смотрит на пол и диву дается: весь он покрыт серебряным налетом.
Встал, потрогал – пленка легко снимается.
На другой день то же: за ночь образовалась такая плесень, что получился сплошной белесый ковер.
Сырость увеличивалась с наступлением дождливой погоды. Соль таяла, спички сырели, матрац прогнил…
В камере холодно. Сначала Мышкин отогревался беспрерывной ходьбой, но постепенно приходилось ему сокращать «прогулки»: уставал и на подошвах стала ощущаться боль.
«Надо чаще отдыхать», – решил Ипполит Никитич.
Новая беда! Посидит на стуле – ноги отекают. Лучше лежать. Лег, не помогает – под лодыжками появились опухоли.
Пошел пятый месяц. Ни прогулок, ни книг. Когда при утренней уборке отворялась дверь и через коридорное окно виднелось небо, облака, иногда птицы, свободно порхающие в синеве, – так манило, так тянуло на свежий воздух…
Наконец повели на первую прогулку.
– Ходить можно прямо, – указал Ирод на дорожку, имевшую вид траншеи, проложенной в снегу.
Было еще темно, и Мышкин спугнул ворону, примостившуюся на ночлег в густых ветвях липы. С глухим карканьем, тяжело хлопая широкими крыльями, взлетела потревоженная птица, стряхивая с ветвей хлопья снега.
Мышкин не питал особой любви к вороньему роду, но тут он почувствовал, что к его сердцу прихлынуло что-то теплое: не потому ли, что на вороне не было голубого жандармского мундира?
Проводив ворону завистливым взглядом, Мышкин стал оглядываться: снег, узкая дорожка, высокая стена.
Мышкин хотел пройтись, но и пяти шагов не осилил: голова кружилась, сделалось дурно, а ноги словно из ваты – подгибались.
– Набегался? – издевательски спросил Ирод.
Мышкин не ответил, вернулся в камеру и лег на койку.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он вздумал заняться гимнастикой: стал подбрасывать кверху ноги. Раз, два… и чуть не закричал от боли. Глянул под колено – чернота.
Болезнь с каждым днем все усиливалась. От лодыжек опухоль поднялась до колен. Ноги превратились в два обрубка; цвет их менялся от красного к серому. Боль в икрах была ужасна…
Но Мышкин заставлял себя ходить. Походит несколько минут и как сноп валится на койку. Сознания он не терял, однако впадал в сумеречное состояние: ему казалось, что не он страдает, а Фрузя, что она смотрит на него умоляющими глазами: «Ип, помоги…»
На соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и Мышкин открывает глаза. Он встает, но ходить не может…
Надо! Надо! Обойдет раз-другой вокруг койки, держась за нее…
И вот тогда, когда он, словно ребенок, неуверенно ходил вокруг койки, сосед справа простучал:
– Знаете, Ипполит, о чем я все утро думаю? О картине.
Превозмогая боль, Мышкин простучал ногой:
– О какой картине?
– В Москве, на выставке, я видел удивительную картину. Стрельцов ведут на казнь. Картина меня поразила. На ней ничего страшного не было: художник не показал, как вешают стрельцов, а показал только людей, которых собираются вешать.
Мышкин простучал:
– Предчувствие большой человеческой трагедии производит более сильное впечатление, чем показ самой трагедии. Подробнее поговорим ночью: я устал.
«Какой умный и… странный человек этот Колодкевич, – подумал Мышкин. – С утра до темна ходит он по камере, постукивая костылем, кашляет и думает, думает… Несколько ночей подряд урывками, таясь от унтеров, он рассказывал о себе, о пережитом… Тяжелая ему досталась доля…»
Ночью Колодкевич предложил:
– Давайте продолжим разговор о картине.
Но Мышкин не ответил: он был не в силах шевельнуть ногой.
Мышкин слабел день ото дня, ноги распухли, из язв сочилась вонючая бурая гадость. Несколько зубов вывалилось, остальные расшатались. Глаза болят, слезятся, словно в них дунули табачную пыль. Мышкин чувствовал, что он с каждым днем разрушается не только физически, но и духовно. Его ум, точно придавленный тяжестью, работает вяло, скоро утомляется.
«Неужели конец? – спрашивал себя Мышкин. – И какой будничный! Добро бы на баррикаде, в опьянении борьбы, или на эшафоте на глазах друзей и врагов, но здесь, в четырех стенах…»
Однажды послышалось ему: скрипнула дверь, в камере раздались легкие осторожные шаги. Но он не мог преодолеть дремоты и раскрыть глаза. Шаги замерли у койки, и Мышкин почувствовал на своем лице чье-то горячее дыхание: кто-то над ним наклонился, и к его лбу прикоснулись теплые губы.
Он раскрыл глаза и увидел Фрузю. Одета она была в дорожное платье, с сумочкой через плечо. Она стояла на коленях, нагнувшись над ним, и шептала, улыбаясь сквозь слезы:
– Иппушка, как ты похудел…
Что это? Сновидение? Нет! Она здесь, она с ним. Нгг ее губах – улыбка, а на длинных ресницах – слезы.
Мышкин встрепенулся и протянул руки: пустота…
37
По коридору разнесся топот ног, загремел замок, щелкнул ключ, дверь отворилась.
Сначала два жандарма, за ними Ирод с двумя унтерами, позади всех доктор – высокий худощавый старик с длинной седой бородой и с очками на носу. Заложив одну руку за борт пальто и опираясь другой на палку, он вошел в камеру, не снимая фуражки, сделал несколько шагов и вдруг обратился к Ироду:
– А еще жив!
Ирод ухмыльнулся.
– Ну что, братец, плохи дела? – обратился доктор к Мышкину.
Мышкин молча взглянул на старика и, не отвечая на вопрос, закрыл глаза. Деревянные лица унтеров, змеиный взгляд Ирода и его тупая морда, доктор, неприязненно смотревший из-под нависших серых бровей, – все они произвели на Мышкина тяжелое впечатление: его сердце болезненно сжалось.
Доктор опустился на табурет, распахнул пальто и, положив часы на стол, стал щупать пульс больного.
– Плохо, плохо, – пробормотал он. – А ну, покажи-ка ноги.
– Да оставьте вы меня, – раздраженно сказал Мышкин.
– Капризничать нечего, – наставительно заметил Ирод, – ведь это о тебе же заботятся.
У Мышкина не было охоты, а может быть, и сил ответить Ироду.
– А ну-ка, покажи рот! – приказал доктор.
Не открывая глаз, Мышкин молча раскрыл рот.
Доктор покачал головой и, помолчав несколько мгновений, встал, застегнул пальто и процедил сквозь зубы:
– Ну, братец, недолго протянешь. Что делать, – , добавил он, снимая очки и протирая их платком, – ведь когда-нибудь надо же умирать. Ну, – обратился он к Ироду, – нам еще в десятый номер.
Взявши палку, доктор кашлянул и направился к выходу. Вдруг повернулся:
– Да, вот что, дайте ему молочка, побалуйте его перед смертью.
Все вышли, дверь захлопнулась.
Мышкин остался лежать с закрытыми глазами. В последние дни он часто думал о смерти, но ужаса смерти не ощущал. Смерть – это покой, отдохновение. Он, правда, не закончил, не завершил дела своей жизни, но разве можно его упрекать за это? Как сказал Коля Хрущев? Кругом стена. Да, стена… Один солдат выбыл из строя, другой станет на его место…
Стену разрушат… Непременно разрушат. Не может стена загородить дорогу новой жизни…
Но хотелось бы умереть на открытом воздухе, под шелест листьев и щебетанье птиц, смотря в ясное солнечное небо!
Последние слова доктора, сказанные не без ехидства, спасли Мышкина.
С цингой дело улучшилось, появилась новая беда. Стоило Мышкину встать на ноги или начать ходить, как в подошву вонзались сотни гвоздей. Выносить такую боль у Ипполита Никитича уже не хватало сил, но он заставил себя ходить… ходить.
Беседы с Колодкевичем его утомляли. Колодкевич как бы ушел из реального мира. Он говорил только о совести, о долге, о гартмановской философии бессознательного.
«Неужели у этого сильного человека туманится ум?»
Мышкин, превозмогая боль в ноге, выстукивал соседу рассказы из своей жизни: как он ездил в Вилюйск, как они с Колей Хрущевым пробирались во Владивосток. Ему, Мышкину, хотелось кричать от боли, а он вел рассказ в шутливом тоне, чтобы развлечь, чтобы отвлечь Колодкевича от грустных мыслей.
И это ему часто удавалось.
Сосед слева, Арончик, радовал Мышкина своей детской непосредственностью: он чем-то напоминал ему Колю Хрущева.
Особенно трогателен был один из рассказов Арончика: семья снаряжает его в дальний путь, в Петербург. На Гомельском вокзале, когда обо всем уже было уговорено, матушка Арончика вдруг забеспокоилась: «А калошки ты не забыл взять с собой? Не дай бог, можешь еще простудиться! В Петербурге ведь сыро!»
– Смешно, Мышкин, правда? Мне уже тогда грозил арест, а дорогая моя матушка беспокоилась, захватил ли я калошки.
Теплое отношение студента Арончика к своей матери вызывало встречную теплоту со стороны Мышкина. Устав от беседы с Колодкевичем, он отдыхал в перестуке с Арончиком.
Мышкин стал выходить на прогулку. Он физически окреп, и вместе со здоровьем вернулась неугомонность, жажда деятельности. Он стал писать записки и прикреплять их ниточкой к лопате – заключенные пользовались ею для отгребания снега на прогулках.
Опять разгорелся спор. Многие упрекали Мышкина в… донкихотстве. Он-де собирает полки для будущих атак и не желает видеть, что мы заживо гнием в своих гробах. Вместо того чтобы разрабатывать партийные программы для завтрашнего дня, он подумал бы о сегодняшнем.
Михаил Попов, товарищ по Каре, прислал Мышкину записку:
«Надо решиться. Надо протестовать. Товарищи предлагают начать голодовку».








