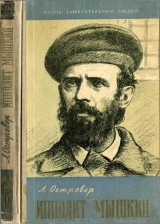
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Мышкин много разъезжал: он налаживал связь с иногородними кружками, создавал новые, готовил запасные склады для хранения литературы, но своим сотрудникам по типографии говорил, что разъезжает по делам службы в Окружном суде.
Вернется из поездки – прямо с вокзала в типографию. Займется недолго с Николаем Абрамовичем и… в наборную, к Фрузе. О чем они говорили? О людях, которых он видел, о книге, которую читал в пути, о работе типографии…
Шли дни, недели. Сквозь деловой тон Ипполита Никитича стали прорываться теплые нотки. Ефрузина понимала, что он хочет высказаться, раскрыться перед ней, но что-то удерживает его от решительного разговора.
В один из вечеров, когда они остались вдвоем в наборной и Ипполит Никитич, без связи с их разговором, вдруг стал рассказывать о своем детстве, Ефрузина убедилась, что этот человек ей близок, дорог и что волнение, которое охватывает ее при каждой встрече с ним, не что иное, как проявление любви, первой девичьей любви.
Ефрузина сначала сопротивлялась этому чувству, не давала ему проявиться: в сознании Ефрузины образ любимого человека жил слитно, неотрывно от образа соратника, товарища по борьбе. Но постепенно, от беседы к беседе, стал все явственнее прорываться второй облик Мышкина – облик соратника, товарища.
Однажды, когда он оборвал рассказ на полуслове, она не сдержалась, провела рукой по его мягким волосам:
– Почему вы не продолжаете?
Ипполит Никитич не ответил: говорить о главном, о своей любви, он не мог, а отделаться пустыми фразами не хотел. Да и вообще ему трудно говорить: хочется спрятать лицо в золотой кипени ее волос или долго-долго молча смотреть ей в глаза.
И Ефрузина, увлеченная тем же чувством, сама потянулась к Ипполиту Никитичу, припала к его плечу…
11
В Москву прилетели жаворонки и принесли с собой тепло.
Весна пришла и для Мышкина. Все заботы, разъезды, все тяготы, выпавшие на его долю в последние недели, вдруг повернулись к нему своей светлой стороной. Трудное, повседневное отступило, осталась лишь одна конечная цель. А конечная цель для Мышкина – революция, то яркое видение, которое неотступно стоит перед его мысленным взором. И в этом видении, в этом новом мире, населенном счастливыми людьми, немного возвышаясь над другими, точно на пригорке, стояла Ефрузина, озаренная солнцем, – она призывно улыбалась ему, протягивала к нему руки…
Одно это видение придавало Мышкину силу трудиться сверх меры и в месяцы делать работу, на которую надо затрачивать годы.
Было воскресенье. Ипполит и Ефрузина сидели на берегу реки. Апрельское тепло еще мешалось с утренней свежестью. От башен Новодевичьего монастыря тянулись к реке острые тени.
Ефрузина смотрела в воду: мелкая рыбешка, встревоженная чем-то, суетливо мечется из стороны в сторону.
Вот так же – суетливо и тревожно – на душе Ефрузины. Они вышли из дому на рассвете – им стало тесно среди стен, давил потолок, раздражали городские шумы, что врывались в распахнутое окно. Им захотелось в мир – широкий, свободный.
В их жизнь вошло что-то новое, и, хотя это новое не вклинилось чем-то чужеродным, а, наоборот, обогащало, делало их жизнь более яркой, все же Ефрузина чувствовала, что в сердце ее Ипполита закралась тревога.
Может быть, ей не следовало накануне начинать разговора о скучных делах?
Она заставила себя говорить. И Войнаральский и Ковалик жаловались ей, что типография дает мало книг, что именно сейчас, весной, надо готовиться к летней страде, сотни кружков отправляют своих членов в деревню, и их необходимо снабжать литературой. Неужели ее Ипполит остановится на пол пути?
– Ип, милый, книги нужны, много-много книг. Нужны листовки, песенники. Надо во что бы то ни стало расширить типографию!
Ефрузина не ошиблась: в сердце Мышкина действительно закралась тревога. Он шел по жизни твердым, но не поспешным шагом; завтрашний день он основательно подготавливал сегодня. Любовь не ускорила его шагов, наоборот, делала его более осмотрительным: он слишком любил Фрузю, чтобы рисковать ее счастьем!
– Народу надо дать короткую, ясную и занимательную книжку, а не научные трактаты, в которых он еще не может разобраться. Ип, милый, мы должны дать народу эти книжки!
Мышкин был удивлен, и не предложение Фрузи его удивило. Он подумал: неужто она не видит пропасти, к которой приближается? Он скрывал от нее свои далекие цели, считая, что этим оберегает их любовь, а она, оказывается, считает свою цель – служение революции – чем-то высшим, чем-то таким, чему должна подчиниться и любовь!
Да, Ипполита Никитича охватила тревога. Глядя в глаза Фрузи, которые в полумраке наборной отсвечивали лунным блеском, он почувствовал тревогу за ее счастье, за ее жизнь, словно в мгновенном озарении привиделась ему судьба этой удивительной девушки.
Но сказать ей об этом? Ипполит предложил пойти за город, в утреннюю свежесть. Они шли по тихим улицам ранней Москвы. Он вел ее под руку – бережно и крепко, точно боялся, что она сбежит от него.
И сейчас, на берегу Москвы-реки, он также не находил слов.
– Как тут хорошо, – сказала она дрогнувшим голосом.
– А ты хочешь всего этого лишиться.
– Лишиться? Почему? Это утро никогда не изгладится из моей памяти.
Она прижалась к его плечу, заглянула ему в глаза:
– Ведь ты всегда будешь со мной?
– Фрузя, нас могут разлучить…
– Не надо! Прошу тебя, не надо! Ты со мной, и мне не страшно ни за тебя, ни за себя. Ты умный, ты мудрый, ты сумеешь обойти любые опасности. И меня поведешь. С тобой ничего не страшно! Ил! Какое счастье любить, быть любимой и бороться за счастье других! В ненастный день грустно, и можем ли мы быть счастливыми, когда кругом ненастье?
Тревога ушла из сердца Ипполита Никитича:, с таким товарищем можно и море переплыть!
Только человек, безгранично верящий в дело, которое он делает, и к тому еще окрыленный любовью, может сделать то, что сделал Мышкин. Разговор на берегу Москвы-реки произошел 27 апреля, а 4 мая уже появилась у ворот дома № 5 по Арбату, в доме Орлова, новая вывеска:
ТИПОГРАФИЯ И. Н. МЫШКИНА.
Дом Орлова Мышкин выбрал не случайно. По фасаду, с улицы, дом небольшой, всего восемь окон в длину, зато во дворе, где и помещалась типография Мышкина, понастроено столько флигелей и народу в них столько проживает, что чужой человек, направляющийся в типографию, никому не бросится в глаза. Дом имеет запасный выход в Филипповский переулок, а для конспиративных дел это большое достоинство. К тому еще сам владелец дома, Орлов, действительно передовой человек – это он сдавал жене Чернышевского, Ольге Сократовне, помещение для устройства в нем «кооперативной пекарни».
Новую типографию Мышкин так распланировал, что из одной он получил две. Одна выполняла заказы управы и статистического бюро, в другой набиралась и печаталась революционная литература. В первой типографии хозяйничал курчавый Николай Абрамович, во второй – Ефрузина.
«Толстых» книг оставил Мышкин немного: два тома Лассаля, три книги Чернышевского, «Очерки фабричной жизни» Голицынского, «Книгу для чтения рабочим», «Государственность и анархия», «Историческое развитие Интернационала», «Исторические письма», «Сборник новых песен» и «Историю французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, переработанную Мышкиным и названную им же «Историей одного из многострадальных». Зато очень расширил отдел, где печатались хлесткие брошюры по списку Ефрузины: «Сказка о четырех братьях», «Речь Лаврова цюрихским студентам», «Дедушка Егор», «Степан Разин», «Крестьянские выборы».
Когда типография заработала в полную свою мощь, выяснилось, что переплетное отделение не справляется с потоком готовых листов. Тогда решили тонкие книжки отправлять для брошюровки в Пензу, к Рогачеву, а для толстых, многолистных книг организовать «мастерскую» в Саратове, где работал крепкий революционный кружок. Для этой цели Войнаральский послал туда своего товарища по Пензе Алексея Кулябко и специалиста переплетного дела Пельконена. Посланцы сняли в Саратове на тихой Царицынской улице домик с просторным мезонином и открыли в нем «Башмачную мастерскую». Для работы в «мастерской» отправились сестры Юлия и Елена Прушакевич, Рогачев и Ковалик.
Дело быстро разрасталось: с почты везли в «башмачную» ящики, ящички, и каждый раз после получения из Москвы новой партии «товара» в витрине появлялись то узорчатые казанские сапожки, то мехом отороченные кавказские чувяки.
«Башмачная мастерская» приобрела широкую клиентуру – за «сапожками» и «чувяками» являлись не только местные товарищи, но приезжали и из дальних городов.
12
Войнаральский также жил в доме Орлова, но с Мышкиным и Ефрузиной встречался не часто. Каждое их свидание требовало уйму предосторожностей.
А 20 мая днем явился Порфирий Иванович в типографию будто за тем, чтобы заказать визитные карточки, и, улучив удобную минуту, шепнул Мышкину:
– Прошу вечером ко мне. Часов в семь.
С Мышкиным пошла и Ефрузина.
На столе – самовар, бутерброды; лампа под густым синим абажуром. Возле окна, в нише, Войнаральский что-то говорил своим гостям.
Увидев Мышкина, Порфирий Иванович пошел ему навстречу:
– Вы, Ипполит Никитич, точны, как всегда, а вы, крестница, как всегда, прекрасны.
– Случилось что? – обеспокоенно спросила Ефрузина.
– Ничего, дорогая, не случилось. Друзья приехали из Питера. Из тюрьмы хорошего человека хотят вызволить..
Мышкин понял, что до его прихода уже состоялся неприятный разговор. Сергей Кравчинский раздраженно ерошил свои черные курчавые волосы. Богатырь – голова в русых кудрях – Дмитрий Рогачев уселся чересчур решительно и хмуро принялся за бутерброды. Ковалик, этот живчик и балагур, сидел словно замороженный. Шишко – чистенький, аккуратненький – присел на краешек стула и, застенчиво улыбаясь, рассматривал свои ногти.
И действительно, как только расселись, Кравчинский вспылил:
– Вы беспечны, Порфирий Иванович! Раз идут аресты, то надо на время притаиться.
– Сергей, – сказал Войнаральский певуче, – не нужно прежде времени бить тревогу. За саратовскую «мастерскую» я спокоен: там Кулябко, на которого полагаюсь как на каменную гору, и, наконец, туда поехал Иван Селиванов – уж этот осторожный человек ничего не проморгает…
– Разве дело только в Саратове? – оборвал его Кравчинский. – Тревожный сигнал из Саратова только подтверждает, что жандармские мальбруки опять в поход собрались!
– И, по-моему, – вмешался Шишко, – прав Сергей Михайлович.
– Други мои, что-то сегодня нашло на вас, – все еще спокойно сказал Порфирий Иванович. – Ваши выводы не соответствуют фактам. Давайте разберемся. Я верю осторожному Ивану Войне, я верю, что за нашей «мастерской» в Саратове началась слежка, но Иван Война все же преувеличивает: от слежки до ареста проходит не один день.
– Вы слишком оптимистичны, – мягко, с едва заметным укором в голосе возразил Шишко.
– Почему вы так полагаете? – насторожился Войнаральский.
– Потому, что слишком много глаз привлекаем! Тюки из Москвы, тюки в Пензу и из Пензы, тюки в Саратов и из Саратова. Где-нибудь сорвется, и… катастрофа. Ведь жандармы на каблуки нам наступают. Сугубая осторожность нужна. А вы, Порфирий Иванович? Месяца два тому назад Мышкин убеждал вас, что полезнее для дела выпускать две-три книги с уверенностью, что они дойдут до народа, чем выпускать десяток с риском, что они попадут в лапы полиции. Вы отмахнулись от дельного совета! А ведь мы рискуем слишком многим.
– А вы слышали про революцию без риска? – язвительно спросил Ковалик, склонившись к Шишко.
– Но рисковать не значит поступать опрометчиво! – горячо ответила Ефрузина.
Войнаральский, сделав несколько глотков из своего стакана, начал с прежним добродушием;
– Нас за столом шестеро мужчин, из них три бывшие офицеры, один бывший унтер-офицер и двое штатских – это мы с Коваликом. И вот эти двое штатских, я и мой друг Ковалик, пытаемся быть храбрее «господ военных». Ничего еще не случилось, а вы, господа военные, уже готовите ретираду. Нужно ли это? Вы, други мои, переоцениваете умственные способности нашей полиции. Расскажу один случай, который убедит вас, что не так страшен черт, как его малюют. Я жил тогда в Петрозаводске. Находился там и Тельсиев, сосланный туда по нечаевскому делу. Приезжает однажды в Петрозаводск некий капитан Штурм, проездом в Финляндию, где ему поручили произвести какие-то геологические изыскания. Как полагается, капитан Штурм нанес визит губернатору, исправнику и остальным сильным мира сего. Капитан Штурм очаровал всех. Ему устраивали приемы, в его честь давались обеды, без него не начинался ни один бал. Пролетела шумная неделя, и капитан Штурм отбыл в Финляндию. Но в этот же день, други мои, исчез из Петрозаводска и политический ссыльный Тельсиев. Случайность? Совпадение? Во всяком случае, никому из власть имущих и в голову не пришло, чтобы милейший капитан Штурм имел отношение к исчезновению опасного государственного преступника. А что, други мои, оказалось? Капитан Штурм вовсе не был капитаном и вовсе не был Штурмом. Это был наш товарищ Дмитрий Клеменц, который приехал в Петрозаводск специально за тем, чтобы увезти Тельсиева. Вот вам, други, хваленая жандармская осведомленность. Смелость нужна и хладнокровие!
Рассказ не убедил слушателей. Кравчинский сказал:
– Не просто смелость нужна, а благоразумная смелость. План, который мы с вами тут разработали для освобождения Кропоткина, тоже смелый, но мы с вами учли все случайности.
Рогачев, более резкий на язык, пробасил:
– Дважды два все еще четыре!
А Шишко, играя ложечкой, поддержал:
– Когда идет дождь, то, выходя из дома, надо брать с собой зонтик.
– Сдаюсь! – Войнаральский поднял руки кверху. – Кстати, вы, Ипполит Никитич, даже рта не раскрыли! С кем вы? С господами военными или с нами, штатскими?
Мышкин ответил не сразу. Ефрузина заметила, что в его глазах появился беспокойный блеск, что его пальцы тянутся к ленточке галстука. Ип раздражен! Она прижалась к нему плечом, шепнула ему что-то на ухо, но Ипполит Никитич, ничего не слыша и ничего не видя, начал:
– С кем я? – И вдруг, окинув Войнаральского быстрым взглядом, резко спросил: – А разве это важно? Мы должны задать себе другой вопрос: кто мы?
– Любопытно, – сказал Ковалик, придвинувшись со своим стулом ближе к Войнаральскому.
– Не любопытно, а трагично! – подхватил Мышкин. – Мы, все здесь сидящие, делаем одно дело, но одна ли у нас цель? Вот вы, Порфирий Иванович, чуть не подняли на бунт целую деревню. Во имя чего? Народ хочет земли и воли. Вот цель, за которую он пойдет на бунт! А какую конечную цель вы преследуете? «Доброго» царя хотите или республику? Скажите это народу. Или вы, Леонид Эммануилович, – обратился он к Шишко, – все для мужика пишете, а про рабочих забыли? А вспомните, с каким сознательным единодушием бастовали рабочие Невской бумагопрядильной! А забастовка на Кренгольмской мануфактуре? Четыре тысячи рабочих решительно заявили: «Так дальше не пойдет!» И в этой забастовке уже стояли плечом к плечу две нации: русские и эстонцы! А вы все твердите: «мужик да община»! И вот, товарищи, я вас спрашиваю: кто мы? Мы все идем в одном ряду. Возможно, что наш путь лежит к эшафоту, так не время ли спросить самих себя: «Во имя какой конечной цели несешь ты свою голову на плаху?» Все мы числимся народниками, но мы все разные, подобно тому, как береза и ель числятся деревьями, а они даже не похожи друг на друга. Не пора ли сказать народу: мы за республику, мы за то, чтобы землю передать крестьянам, а орудия производства рабочим…
– Парижская коммуна? – спросил Ковалик.
– Да, Сергей Филиппович, я за Парижскую коммуну, только без ее ошибок! Мы должны повести дело так, чтобы сам народ воспользовался плодами своей победы. Мы должны повести дело так, чтобы одновременно двигать к цели и крестьян и рабочих!
– Рабочих горсточка, а мужиков миллионы, – отчеканивая каждый слог, заявил Шишко.
– Горсточка? – возмутился Мышкин. – Сорвите повязку с глаз! Из деревень тянется народ в город, и все на фабрики, на заводы. Их уже сотни тысяч, а завтра-послезавтра их будет миллион! С ними нам нужно работать, их надо просвещать и втягивать в борьбу! Вот из Цюриха приехали студентки. В Швейцарии они работали с Лавровым, а приехали в Москву, куда кинулись? Спросите Ефрузину Викентьевну, она встречается с ними.
– На фабрики! – подтвердила Фрузя.
– Слышите, товарищи? На фабрики! Они работают вместе с рабочими, живут жизнью рабочих и агитируют среди рабочих. А мы? Много ли в наших кружках рабочих? Мало, очень мало. И здесь, и в Пензе, и в Саратове, и в Рязани! Во всех кружках, куда я бы ни ездил, мало рабочих! А ведь законы общественного развития одинаковы как для России, так и для Западной Европы! Один мужик не сделает революцию! А мы, если желаем приблизить революцию, если мы действительно социалисты, то должны действовать так, как действуют социалисты на Западе! А ведь они уже кое-чего добились!
Дмитрий Рогачев, этот богатырь в русых кудрях, так стукнул по столу, что ложки звякнули в стаканах:
– Мышкин прав! Стократ прав! У нас концы с концами не сходятся. Наша теория отстает от практики… Хотя подчас мне кажется, что наша теория куда шире нашей практики. Мы проповедуем социализм, но наш социализм какой-то лубочный, яркий, с широкими мазками, а вот того, о чем говорит Мышкин, нет в нашем социализме, нет, товарищи! До прихода Мышкина я вам говорил, что завтра-послезавтра отправляюсь на Волгу и не только для того, чтобы толкать народ к действию, но и для того, чтобы себя проверить, чтобы разобраться в своих сомнениях. Товарищи, задумывались ли вы над тем, почему это народ не валит к нам валом? Ведь мы ему предлагаем хлеб, волю и человеческое достоинство! Ведь мы ему предлагаем все, чего он лишен! А вот Мышкин ответил на этот вопрос, он поставил все точки над «и»!
– Все ли? – спросил Войнаральский. – Мне кажется, что не все. Ипполит Никитич забыл, что Западная Европа опередила нас в общественном развитии на много десятков лет, и поэтому желание равняться по Западной Европе будет по меньшей мере… наивно.
– А я не предлагаю равняться, я предлагаю перенять у Западной Европы опыт…
Войнаральский поднялся:
– Разрешите мне закончить. Я не все еще сказал. Вы, друг мой, забыли, что Россия страна мужицкая, с вековыми традициями, с вековыми предрассудками, с вековым укладом, с тягой к общинному строю.
– Отрыжка славянофильства! – воскликнул Рогачев. – Правительство в шестьдесят первом году оставило общину с землей. Но теперь правительство стремится к уничтожению общины. Само правительство подчеркивает, что у нас нет никаких специфически славянских вековых укладов! Мы носим калоши, а не мокроступы!
– Мне кажется, – раздраженно сказал Кравчинский, – что весь спор затеян не ко времени. Сегодня не важно, «кто мы», а важно, что мы должны делать завтра. Для теоретических споров соберемся в другой раз.
– Не решив вопроса «кто мы?», трудно будет найти ответ на вопрос «что делать?», – жестко сказал Мышкин.
– Что ж, товарищи, – после общего молчания продолжал Мышкин, как-то сразу успокоившись, – будем считать мой вопрос «кто мы?» несвоевременным, вернее преждевременным, и приступим к делу, для которого собрались.
Оказались все же правы «господа военные», а не прекраснодушный Войнаральский.
Уже готовился первый массовый политический процесс. Начальник Московского жандармского управления генерал Слезкин делал свое дело с обычной для него гусарской лихостью и свойственной ему подлой беспринципностью. Он действовал по методу хищника-рыболова, который глушит гранатой тысячи рыб, дабы воспользоваться десятком. По его распоряжению жандармы таскали в кутузку любого юношу или девушку, если они чем-либо выделялись из общей среды или числились «на заметке» у полиции.
Вскоре оказалось под замком – в Киеве и Одессе, в Казани и Петербурге, в Ростове и Москве – около полутора тысяч человек. Жандармствующая прокуратура обставила следствие самыми возмутительными условиями. Арестованных заставляли выдавать своих товарищей: голодом, надеванием кандалов на голое тело, строгим одиночным заключением. Для опорочения действительных революционеров собирались сплетни и лживые доносы провокаторов.
Шпики Слезкина рыскали по городам и селам. Они хватали, арестовывали, и вскоре оказалось, что для одного процесса собрали слишком много обвиняемых. Поэтому, выделив «москвичей» для «процесса 50-ти», жандармы стали готовить «материал» для нового, еще большего процесса.
2 июня Ефрузина получила депешу от Елены Прушакевич из Саратова: «Потрудитесь передать Пудинову (то есть Мышкину), чтобы он приготовился к принятию наших давно ожидаемых знакомых, которые только что посетили нас в Саратове и, вероятно, посетят вас вскоре».
«Ожидаемые знакомые» – конечно, жандармы. Они произвели обыск в Саратове в «башмачной мастерской», нашли там листы отпечатанных книг: «История одного из многострадальных», «Историческое развитие Интернационала», два тома Лассаля, «Очерки фабричной жизни»; нашли сфальцованные брошюры «Сказки о четырех братьях», нашли листовки «Чтой-то, братцы» и бланки паспортов.
«Сапожников» арестовали.
Мышкин подготовился к «посещению»: все, что возможно было вывезти, вывезено, все, что можно было уничтожить, уничтожено.
6 июня жандармы явились в дом Орлова. Обыск они сделали поверхностный и… ничего не нашли. Но когда генерал Слезкин получил из Саратова более обстоятельный рапорт, он тут же направил на Арбат своих молодцов с приказом: «Взять!»
Арестовали всех, кто в то время находился в типографии.
Жандармский офицер закончил протокол и отдал команду своим подручным: «Ведите!» Тогда Ефрузина обратилась к стоявшему рядом с ней полицейскому чину:
– Принесите мне из моей комнаты белый зонтик. Он висит на вешалке.
– Зачем он вам?
– От солнца.
Полицейский хмыкнул и принес зонт. Ефрузина раскрыла его, как бы проверяя, в порядке ли он, потом закрыла и строго сказала:
– Я готова.
Вдруг она рассмеялась:
– А ведь вы правы! Зачем мне зонтик?
– То-то! – ухмыльнулся полицейский.
Ефрузина поставила зонт на подоконник.
Арестованных увели.
И белый зонт спас Ипполита Никитича Мышкина. Под вечер, приехав из Рязани, он вошел во двор дома Орлова и увидел в окне белый зонт. Сигнал: полиция, уходи!
Мышкин мгновенно ушел; на бульваре опустился на скамью.
Там он просидел всю ночь. То сердце рвалось из груди, причиняя ему неимоверную боль, то оно замирало, и Мышкин погружался в блаженное небытие, то нападало на него оцепенение, и мысли в голове лишь мелькали, не задевая сознания, то вдруг наступала ясность, и он получал возможность думать связно. И это были самые тяжелые минуты – Мышкин задыхался от тоски. Он, Ипполит Мышкин, взобрался на высокую гору: ведь; шагая рядом с Фрузей, ему казалось, что голова упирается в небо, и… в одно мгновение его столкнули с горы, обездолили, осиротили….
Перед глазами Мышкина прошла вся его короткая жизнь. По камешкам возводил он гору, чтобы на нее взобраться.
«Почему я ускорил шаг? Знал же я, что торопливость не кончится добром!»
Эта мысль блеснула и потухла, как огонек спички на ветру, но она ужаснула Ипполита Никитича: как может он думать о каком-то благополучии, когда Фрузя в тюрьме, Фрузя, которая даже з лапах жандармов помнила о нем, выставила в окно условный знак: «Скройся… Скройся…»
Бывали минуты, когда Мышкин срывался с места, хотел бежать в участок, в жандармское управление. Только огромным напряжением воли он заставлял себя оставаться на месте: ничто не спасет уже Фрузю.
Наступило утро. Озолотились деревья, появились люди, начали трезвонить колокола.
И Мышкина вдруг охватила надежда: все разрешится! И звон колоколов, и блеск в окнах домов, и пронизанные солнцем верхушки лип – все такое бодрое и привычное, все звало к жизни, к радости…
У Мышкина в кармане был подложный паспорт на имя Павловича, «надежный» паспорт: его сделал сам Порфирий Иванович Войнаральский – художник этого дела. Были у Мышкина и деньги – 426 рублей. Он занял номер в гостинице, помылся, почистился и отправился по полицейским участкам искать Фрузю.
И нашел ее в Пятницкой части. Толкаясь в участке меж людей, он услышал, что помощника пристава зовут «Виктор Александрович Артоболевский».
Знакомая фамилия и знакомое отчество! А вдруг это брат подполковника Алексея Александровича Артоболевского, его школьного учителя, переведенного недавно в Москву?
Через двадцать минут был уже Мышкин на квартире подполковника.
– Мышкин! Рад тебя видеть! – встретил его подполковник с протянутыми вперед руками. – Слышал про твои успехи! Капиталистом стал!
– Маленьким, Алексей Александрович.
– И Москва не в один год построена. Ты молодец. Я всегда говорил, что ты далеко пойдешь. Чем тебя поить: чаем или водкой?
– Спасибо, Алексей Александрович. Водки не потребляю, а чай только что пил. Я к вам, Алексей Александрович, с просьбой.
– Какой?
– Алексей Александрович, у вас есть брат Виктор?
– Есть брат Виктор. Служит в полиции. А тебе он зачем понадобился?
– Очень нужен, Алексей Александрович. Одна моя знакомая содержится у него в участке. Она без денег. О чем я прошу? Передать ей двести рублей.
– И только?
– Только всего, Алексей Александрович. И пусть Виктор Александрович не знает, кто деньги передает. А то еще проговорится моей знакомой, а от меня она денег не примет. Скажите своему брату, что деньги от господина Пудинова.
– Любовь без взаимности?
– К сожалению, да.
– Такого красавца да не любить!
– Бывает, Алексей Александрович.
– А кто этот господин Пудинов?
– Это и есть тот господин, которого моя знакомая любит.
– Твой соперник счастливый! Не знал, Мышкин, что ты такой рыцарь. Глупо, но… похвально. И я бы так поступил. А теперь, Мышкин, расскажи, как ты живешь.
– Живу хорошо, очень хорошо, и благодаря вам, Алексей Александрович. Ваша наука мне впрок пошла.
– Моя наука? К моей науке нужна была еще твоя голова и твое упорство. Вот что дало тебе хорошую жизнь. И я рад за тебя. От души рад за тебя, Мышкин.
Ипполит Никитич поднялся, достал из кармана две сторублевые кредитки, положил их на стол.
– Это срочно?
– В узилище без денег, сами понимаете, Алексей Александрович.
– Ты прав, Мышкин, я не подумал об этом. В два часа я буду у Виктора.
– И полагаете, что он вам не откажет?
– Виктор мне откажет? Нет, батенька, такого случая еще не бывало.
Виктор действительно не отказал брату. Ефрузина обрадовалась не деньгам, а тому, что эти деньги передал «господин Пудинов»: ее Ип на свободе!
Мышкин в тот же день уехал за границу.
14
В Женеве он сразу очутился среди политических эмигрантов. Интернационал к тому времени уже распался на два враждебных лагеря: социал-демократический и анархистский.
Русская колония, которая делилась на лавристов и бакунистов, также враждовала между собой.
В каждом из двух народнических течений Мышкин находил что-то созвучное своим мыслям, своим чаяниям, но полностью ни одно из этих течений его не удовлетворяло. Правда, в Москве он действовал как лаврист: он печатал книги, которые должны были подготовить народную массу к социальному перевороту. И все же связать свою революционную судьбу с лавристами ему мешала «философская осторожность» Лаврова.
В своей программе Лавров писал: «Лишь тогда, когда течение исторических событий укажет само минуту переворота и готовность к нему русского народа, можно считать себя в праве призвать народ к осуществлению этого переворота». Чересчур много «если»!
В бунтовской путь Бакунина он также не вполне верил. Из рассказов. Порфирия Ивановича Войнаральского, Ковалика и Дмитрия Рогачева – «ходивших в народ» – Мышкин понял, что день «всенародного восстания» не так близок, как кажется Бакунину. Да и основное утверждение Бакунина, что «свобода в государстве есть ложь», казалось Мышкину крайне спорным.
Было еще одно течение – якобинское, хотя и незначительное, но очень шумное. Возглавлял это течение нервный, весь дергающийся Ткачев. В этом течении Мышкин усмотрел много противоречий. Лозунг «Революционер не подготовляет, а делает революцию» казался Мышкину верным, действенным, но утверждение Ткачева о «необходимости изменения самой природы человека, его перевоспитание», по мысли Ипполита Никитича, уводило революционеров в область философии, в сторону от живой жизни.
В эмигрантских кругах многие знали Мышкина по Москве, Пензе, Рязани, многие слышали о нем, но не всем он был приятен. Эмигранты – почти сплошь интеллигенты, то есть люди, которые хотят «облагодетельствовать» народ, и вдруг является кантонист, вчерашний раб, и поучает их, интеллигентов, спорит, укоряет. Он зачеркивает все, что они считают незыблемым. Нет социализма в общине, уверяет он; после крестьянской реформы, говорит он, Россия вступила на путь капитализма; капиталистические отношения коснутся и деревни. Ересь! Он требует организации партии, и не просто партии, а партии с двумя программами: с программой максимум и программой минимум! Он требует немедленной перестройки всей революционной работы – для рабочих-де должны быть выработаны одни методы пропаганды, для деревни – другие! И какими доводами оперирует этот солдатский сын! Не из русского общинного уклада черпает он доказательства, а из практики западноевропейских социалистических партий, из протоколов I Интернационала; даже в поступках деятелей Парижской коммуны находит он ошибки! И он требует вождя – мыслителя и практика, который мог бы возглавить революционную борьбу в России! А Лавров? А Бакунин? Нет! В каждом из них Мышкин находит изъяны!
Да, многих раздражал Ипполит Мышкин, но многих убеждала его логика, его страстность.
Деятельная натура Мышкина не могла удовлетвориться одними диспутами. Не для них он приехал в Женеву! И не для того, чтобы любоваться снеговым куполом Монблана или разгуливать по прекрасным набережным бирюзового озера или вдоль быстрой Роны и бешеной Арвы, – нет, не для этого он приехал в Женеву!
Он стал посещать «вольную русскую типографию», помогая Лазарю Гольденбергу и Куприянову при печатании «Истории французского крестьянина», – конечно, за свой труд он денег не брал, – этой работой
Ипполит Никитич как бы продолжал свою московскую деятельность: ведь эту же книгу он печатал всего два месяца тому назад в своей московской типографии.
Потом, когда «вольная типография» закончила печатание «Истории», Мышкин и студент Донецкий пристроились к одному предпринимателю в качестве землекопов.
Мышкин был крепко скроен и вынослив, Донецкий же, близорукий и болезненный, выбивался из сил. Земляная пыль набивалась в глаза, ноздри, рот, а горное солнце невыносимо жгло.
Как-то в субботу Мышкин ушел с работы несколько раньше обыкновенного, договорившись с Донецким встретиться в кафе Грессо, где собирались русские эмигранты. Уже время близилось к закрытию кафе, а Донецкого все нет.








