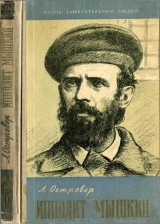
Текст книги "Ипполит Мышкин"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– Бедненький.
Первая девушка, первая любовь! Мир казался Мышкину чудесным. С Варварой он виделся часто, говорил ей о своей работе, о своей мечте стать учителем. Она слушала его с трогательным сочувствием, лишь иногда чудилось Мышкину, что в ее взгляде нет-нет да появляется что-то пренебрежительное. Но в 21 год, если действительно любишь, видишь только то, что хочешь видеть.
Прошло несколько недель. Стоял июль. Жарко. Варвара с семьей жила на даче в Сокольниках. Суббота. Мышкин еле дождался конца судебного заседания: он собирался в Сокольники. Мысленно он уже видел: Варвара идет ему навстречу, вся залита солнцем, волосы на голове как бы дымятся. В своем легком платье кажется она розовой, воздушной…
– Вас просят в адвокатскую, – доложил служитель.
Мышкин отправился. В большой комнате – адвокат, один.
– Освободились уже?
– Полностью! – обрадовался Мышкин, догадываясь, что адвокат приглашает его с собой в Сокольники.
– Тогда пошли.
Перед зданием суда стояли «лихачи». Мышкин поманил пальцем одного из них.
– Не надо, – удержал его адвокат. – Пройдемся немного.
Они вышли к Кремлевской стене, к молодому садику.
Адвокат опустился на скамью. Несколько минут он сидел молча.
Тысяча мыслей пронеслась в голове Мышкина: молчание адвоката показалось ему зловещим. Неужели он против их любви? Неужели этот передовой человек не согласен впустить в свой дом бывшего кантониста? Неужели Варвара не смогла убедить его?
– Выручайте, батенька! – сказал вдруг адвокат нервно и громко. – В понедельник будет слушаться дело Огородникова.
– Чем я могу вас выручить? – облегченно вздохнув, спросил Мышкин. – С великим удовольствием!
– Я так и думал: кто-кто, а вы мне не откажете. А прошу я у вас безделицу: сделайте ошибочку в стенограмме.
– Не понимаю.
– Объясню, Ипполит Никитич. Дело Огородникова я должен выиграть. А если оно будет решаться в понедельник, то я его определенно проиграю. Нужно выждать, чтобы шумиха спала.
– И все же не понимаю, чем я могу вас выручить.
– Мне нужен бесспорный повод для кассации. И вы должны мне дать этот повод.
– Я?!
– Да, батенька, вы. Ваша стенограмма – официальный документ. Вот вы, дорогой Ипполит Никитич, сделайте ошибочку в этом документе. В показаниях одного из свидетелей напишите «да» вместо «нет» или «нет» вместо «да». Как вам более удобно. И это мне даст повод для кассации.
День яркий, солнечный, а Мышкину вдруг холодно стало. Ноги дрожат, ледяная волна поднимается по спине и заползает под волосы. Неужели он ослышался? Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы спасти от каторги миллионера-мукомола Огородникова, спасти от каторги того, кто поджег свои паровые мельницы, дабы сорвать крупный куш со страховых обществ! Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы «выгородить» миллионера и отправить на каторгу его приказчиков, чьими руками подлец хотел совершить свое подлое дело! И совершить этот подлог предлагает ему, Мышкину, кто? Человек, которого Мышкин уже мысленно называл отцом!
– Вы мне предлагаете…
– Ипполит Никитич, дорогой, ради бога, не волнуйтесь. С этической стороны нет ничего предосудительного в моем предложении. Вашу ошибку обнаружат, или вы сами заявите о ней. Высшая справедливость будет восстановлена, а мне вы большую услугу окажете. Вы, так сказать, приобщаетесь к нашему миру…
Мышкин не поднялся, а вскочил на ноги и почти бегом вышел из садика.
Ему было тяжело. Все в нем возмущалось, негодовало, но порой его охватывала такая жалость к себе, что слезы, как в детстве, лились обильной струей. Он сам загородил дорогу, ведущую к счастью: без Варвары он не мыслил будущего! Он сам порвал нить: не ему отказали, а он отказался от счастья, не желая его купить за… подлость!
Мышкин еще один раз столкнулся с «барином из либералов». На съезде земцев в Пензе выступал «уважаемый и почтенный общественный деятель», благообразный старик с Владимиром на шее, с львиной гривой и бархатистым голосом.
– …Что же это за освобождение без достаточного земельного надела, без гарантированного крестьянского самоуправления, без благоустроенной народной школы, даже без избавления от телесного наказания, унижающего человеческое достоинство освобождаемых, – освобождение, которое началось и продолжается до сих пор беспощадными порками? Возьмем наш. суд. Что осталось в нем от того идеала…
Эти мысли тревожили и Мышкина.
«Вот, – подумал он, – барин с Владимиром на шее, а мыслит шире, чем те из молодежи, которые видят только болото в какой-то Тамбовской деревне».
Вечером в гостинице он расшифровывал стенограмму. Заходит коридорный:
– К вам пожаловал…
Не успел он фразы закончить, раскрывается дверь – на пороге уважаемый и почтенный общественный деятель. Правда, ничего львиного уже не было в его обличии, он был больше похож на петуха, попавшего под ливень.
Долго не выпускал он руку Мышкина, говорил что-то о благородных порывах, которые, увы, «душатся холодным дыханием жизни», и когда Мышкин, не понимая, что произошло, спросил, чем он обязан визиту, старик ответил добродушно, хотя и немного стеснительно:
– Я сегодня увлекся, был несдержан. Наговорил такое, что даже губернатору не понравилось. Каково мне будет, когда стенограмма до министра дойдет? А у меня, уважаемый господин Мышкин, семья, большая семья. Прошу вас, убедительно прошу зачеркнуть все, что звучит неприятно. – Он достал из кармана «конверт со вложением», застенчиво положил его на стол. – Дорогой Ипполит Никитич, поймите меня: моя речь никому не поможет, а меня погубит. Погубит, уважаемый друг.
Мышкин был всегда ровен в обхождении с людьми и почтительно относился к старости, но тут он потерял власть над собой: схватил со стола конверт с деньгами, распахнул дверь, выкинул конверт в коридор и, повернувшись к «уважаемому и почтенному общественному деятелю», прокричал:
– Вон! Немедленно вон отсюда!
7
Летом 1871 года редактор «Московских ведомостей» предложил Мышкину дать отчет о «Нечаевском деле», которое должно было разбираться в Судебной палате.
Ипполиту Никитичу шел уже 24-й год, а своего места в жизни он еще не нашел. Он много зарабатывал, но мир сытых, благополучных, мир «уважаемых и почтенных общественных деятелей» его не прельщал. Не увлекали его и читки в кружке: Мышкин был человеком дела, а в кружке только говорили о деле. А может быть, именно разговоры в кружке привели к тому, что Мышкин все еще «плавал меж берегов»? Все его симпатии, все его помыслы были с теми, которые хотели что-то делать, но он, как и остальные кружковцы, не знал, как приняться за дело. Сенсимонисты предлагали одно, лассальянцы – другое, бакунинцы – третье, и все для блага русского народа. Мышкин видел, что в русском обществе идет брожение, но он хорошо помнил слова Марата: «Если в эти моменты общественного брожения не найдется смельчака, который стал бы во главе недовольных, чтобы сплотить их против притеснителя, не найдется сильной личности, которая подчинила бы все умы… то восстание обратится в бесплодную вспышку, которую очень легко подавить». Этой сильной личности не видел Мышкин!
«Нечаевское дело» произвело на Мышкина ошеломляющее впечатление: из выступлений Успенского и Прыжова, которые даже на скамье подсудимых говорили о своем страстном желании помочь народу, просветить его, добиться для него счастливой доли, – перед Мышкиным все яснее вырисовывался «его путь». Горячее отношение Успенского и Прыжова к тому, во что они верили, и их самопожертвование звало к подражанию. Успенский прямо заявил суду, что всякий честный человек должен работать на пользу народа.
«Что я, – спрашивал себя Мышкин, – способен на такой подвиг?»
На суде были названы книги, которые распространяли участники нечаевского кружка: «Политическая экономия» Милля, «Исторические письма» Миртова (Лаврова) и первый том Лассаля. Мышкин знал эти книги, он их опять добыл, вторично прочитал и… по-новому понял. Его поразила мысль, высказанная вскользь Лассалем, что всякий рабочий, отдавшись борьбе за интересы своего класса, совершает этим высоконравственный акт, ибо служит делу общественного прогресса… Вот почему, решил Мышкин, публика в зале суда чувствовала симпатию к обвиняемым: от них, словно от солнца, шли яркие лучи необыкновенной моральной чистоты – они принесли себя в жертву общественному прогрессу.
Обрабатывая свои заметки из зала суда, Мышкин обратил внимание на одну деталь: нечаевцы намеревались освободить Чернышевского из тюрьмы. Привлекавшийся по делу нечаевцев Кунтушов собирал уже деньги для этой цели.
Образ Чернышевского навечно вошел в сознание Мышкина: это был первый революционер, который поразил его воображение, это был первый человек, который вселил в него тоску по свободе. Но может ли быть человек таким многогранным? Студенты, протестовавшие в 61-м году против произвола министра просвещения Путятина, считали своим вождем Чернышевского. Каракозов, стрелявший в 66-м году в Александра II, преклонялся перед Чернышевским. Нечаевцы – и те хотят освободить Чернышевского!
«Где истинный Чернышевский? – спрашивал себя Мышкин. – Не может он одновременно быть учителем Каракозова и нечаевцев! Разные они, и разные у них пути!»
Как зародились у Мышкина первые революционные мысли? На это можно ответить с уверенностью: они зародились под влиянием всего виденного, пережитого и прочитанного. То из одной книги, то из другой, то из одного спора, то из другого оседали отдельные мысли, фразы, и они давали мозгу пищу для размышлений.
После Крымской войны появилась масса книг, преимущественно переводных, по естествознанию. На этих книгах воспитывались шестидесятники с их верой в человеческий разум. Вера эта не ослабела и в семидесятых годах, но питалась уже из других источников. Семидесятники накинулись главным образом на социальные науки. В 1872 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиной критики Маркс произвел на молодежь большое впечатление. Другие, более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкому кругу – их, семидесятников, интересовало экономическое учение Маркса и Маркс как руководитель Интернационала. Далее этого их интерес не простирался: они проходили мимо и его философских и исторических взглядов. Молодежь продолжала оставаться на точке зрения утопического социализма и признавала своими учителями Чернышевского, а вслед за ним – Лаврова и Бакунина.
Мышкин, может быть, дольше, чем многие из его товарищей, задержался на Чернышевском. Возможно, читая его работы, перед глазами Мышкина стоял живой Чернышевский, стоял таким, каким он его видел в памятный майский день на эшафоте. Эти личные переживания сблизили, сроднили Мышкина не только с автором, но и с героями его романа: мозг Мышкина без какого-либо сопротивления принимал все доводы автора – так обычно безраздельно верят любимому человеку.
Мышкина увлекла фигура Рахметова: его физическая сила, волевой характер, его умение сочетать теорию с практикой, его высокие, благородные цели, его готовность отдать себя целиком делу революции.
«Что сделал бы я на его месте?» – спрашивал себя Мышкин.
Две-три фразы, мельком брошенные автором, как Рахметов «тянул лямку» с бурлаками – этот первый намек на близкое общение с народом, – возродили в душе Мышкина целый мир детских и юношеских воспоминаний, когда он сам на своей шкуре испытывал рабью долю народа.
И неужели он, часто рассуждал сам с собой Мышкин, ничего не может сделать для этого народа?
Нам только кажется, что деревья зазеленели вдруг, в одно утро, что именно прошумевший дождь вызвал к жизни листву.
Деревья не зеленеют вдруг – мы видим завершенное, но процесс свершения скрыт от наших глаз.
Нужна долгая и кропотливая работа корней, воды, солей, бактерий и солнца, чтобы дерево после зимней оголенности вновь убралось зеленью. Прошумевший дождь был только последним звеном в длинной творческой цепи.
Ипполит Никитич Мышкин давно искал пути к подвигу, весь творческий процесс был в нем самом уже завершен, но нужен был еще толчок, последний живительный дождь, чтобы тоненькие трубочки развернулись узорчатым листом.
И этим толчком, этим последним живительным дождем была для Мышкина встреча с мужественными и благородными юношами на процессе нечаевцев.
Но что? Что делать?
Лавров на этот вопрос отвечает: критически мыслящая личность, взвесив свои силы, должна решиться на борьбу с установившимися историческими формами общества. Какая цель этой борьбы по Лаврову? Уплатить долг народу за полученное образование, за привилегию носить глаженый воротничок!
На вопрос «что делать?» Бакунин отвечает более решительно: установить безвласгье!
Лавров и Бакунин, считал Мышкин, не видят того, что Чернышевский видел еще в начале шестидесятых годов: Россия пойдет по пути капиталистического развития, а ведь только это должно предопределить ответ на вопрос «что делать?».
Но… можно ли остановиться на этом? Что проповедовал бы сегодня Чернышевский, будь он на воле? Ведь не удовлетворился бы одним лишь утверждением, что Россия вступила на путь капиталистического развития! Он предложил бы новые методы борьбы применительно к новым условиям!
Какие методы? Какие? Те ли, о которых говорит Лассаль? Те ли, что предлагает Бакунин?
На какой путь встать ему, Мышкину? И как встать на этот путь, чтобы принести больше пользы делу, чем принесли Каракозов и Ишутин, Успенский и Прыжов?
Револьвер Каракозова Мышкин отверг решительно: новые общественные отношения не создаются выстрелами одиночек! Ему претил и лозунг Нечаева: «Все средства хороши». В этих словах Мышкину чудилось что-то безнравственное.
И Мышкин решил: революцию делает народ, а русский народ нуждается в просвещении, в хороших книгах, в таких книгах, которые рассказывали бы ему, кто накинул ярмо на его шею и как, какими действиями народ может освободиться от ярма. А когда народ это поймет, он сам поднимется против угнетателей.
Дать народу книги? А где их добыть? В обращении находятся одни листовки, брошюрки вроде «Чтой-то, братцы», а ими ограничиться нельзя, нужна массовая серьезная книга!
И Мышкин решил оборудовать типографию, чтобы в ней печатать серьезные книги.
А дальше? Как попадут его книги в руки народа?
Вспомнил Мышкин о Войнаральском.
После первых же слов Порфирий Иванович одобрил затею Мышкина. Они разработали подробный план распространения продукции мышкинской типографии.
Денег у Мышкина было много, но все же недостаточно, чтобы купить целую типографию.
Помог случай: некий Вильде, владелец типографии на Тверском бульваре, искал компаньона. Этим компаньоном и стал Ипполит Никитич. На воротах длинного приземистого двухэтажного дома по Тверскому бульвару, 24 появилась новая, писанная золотом вывеска:
ТИПОГРАФИЯ ВИЛЬДЕ И МЫШКИН
принимает заказы
на печатание книг,
каталогов, афиш, бланков
и визитных карточек.
Компаньоны поделили между собой обязанности: Мышкин распоряжается в книжном отделении, все остальное находится в ведении Вильде.
8
Два раза восставали поляки против царского самодержавия: в 30-м и 63-м годах, и оба восстания русские цари – Николай I и Александр II – жестоко подавили.
После обоих восстаний образовалась в Архангельске большая польская колония: тут были жертвы Николая I и Александра II. Одних поляков гнали в Архангельск непосредственно из Польши, других – из сибирских рудников и якутских поселений, третьих – из знойных степей Прикаспия, где бывшие повстанцы вели каторжную жизнь в солдатских мундирах.
В Архангельске было все для сносной жизни: возможность зарабатывать на пропитание, сочувствие населения, но не было главного, того, по чем истосковались мученики: не было песчаных холмов, окаймленных темно-синим венцом леса, не было деревень, укрытых в садах, не было статуй девы Марии на скрещениях дорог, не было воздуха родины. Работа, подневольная, мелкая, не давала ни радости, ни пищи для ума.
Еще труднее стало изгнанникам, когда подросли дети: они никогда не слышали мягкого рокота Вислы, не видели стрельчатой выси Мариацкого костела, они не поднимались при колокольном звоне к святыням Ясной Гуры.
По чем будет тосковать их сердце?
Вожаком польской колонии в Архангельске был пан Винценты Супинский – ширококостный, круто сбитый человек с красным крупным лицом и длинными сивыми усами. Ему досталось меньше многих: он был участником второго восстания, 63-го года. Однако пан Винценты импонировал товарищам по жестокой судьбе своим неистребимым оптимизмом. Казалось, что из всех красок пан Винценты видит только яркие, радостные. На каторге он воодушевлял своих соотечественников веселой песней; в Якутии, на поселении, он составил из поляков артель по выделке кож, и тем они неплохо кормились. В Архангельске он первый сумел поступить на государственную службу и ухитрился устроить – кого писарем, кого учителем – почти всех ссыльных поляков.
У пана Винценты Супинского был чудесный дар: нравиться людям и быть необходимым начальству. Одному он смешную историйку расскажет, другому умело сунет «барашка в бумажке», третьему «презентует» какую-нибудь безделушку, но с такой торжественностью, словно это не грошовая чепуха, а музейная редкость.
До изгнания из Польши был пан Винценты богатейшим помещиком – его поля, луга и лесные угодья тянулись от Закрочима до самого Модлина, но, потеряв все, он не жаловался на горькую судьбину, он как бы выбросил богатство из своего прошлого, не вспоминал о нем, и это тоже импонировало его собратьям по несчастью, особенно тем, которые и после четырех десятков лет изгнания все еще грезили своими «ланами и лясами».
Но в начале семидесятых годов споткнулась жизнь пана Винценты. В Архангельске появились новые ссыльные – русские, а двое из них зачастили в его дом из-за дочери, из-за единственной его дочери Ефрузины.
И было отчего беспокоиться. Пан Винценты только внешне примирился с изгнанием и грошовой жизнью. Он был достаточно умен, чтобы не воевать с ветряными мельницами, но недостаточно образован, чтобы разбираться в сложных исторических событиях. Пан Винценты ждал своего часа и верил, что этот час наступит. Два восстания удалось царям задушить, удастся ли им удушить и третье? А что вспыхнет третье восстание, был пан Винценты убежден.
И он готовил дочь к этому восстанию.
Все его мечты о свободной Польше, вся его жгучая надежда на возврат имений от Закрочима до Модлина, вся его тоска по утерянной жизни, все его сокровенные чаяния были связаны с судьбой Ефрузины.
Благословила его дева Мария дочерью! И в королевских дворцах редко рождаются такие! Сверкающее золото волос, темные, удивительно глубокого цвета зеленые глаза, в стройной фигуре какая-то затаенная сила, и эта тонкая рука, к которой можно прикоснуться не иначе, как смиренно, словно к ручке девы Марии. Ефрузина выступала легко и горделиво. К тому же умница, с мужественным сердцем. Юноши расцветают от ее улыбки, девушки ссорятся из-за места рядом с ней, даже старцы, приходя в дом к пану Супинскому, забывают о своих недугах.
Пан Винценты воспитывал свою дочь для третьего восстания: он внушал ей, что природа дала ей все, чтобы стать польской Жанной д’Арк.
Ефрузина поверила в свое высокое назначение, она готовилась к нему: много читала, много думала, даже сочиняла обращения к «своему народу».
И все рухнуло: «Жанна д’Арк» вместе с четырьмя своими подругами пошла работать в типографию… наборщицей.
Пана Винценты не хватил удар только потому, что это «несчастье» не стряслось вдруг, а свалилось на него после длительных споров. Правда, на людях пан Винценты держал себя с достоинством, не упрекал свою дочь, наоборот, защищал ее: «Раз Ефрузина это делает, значит так нужно!» Но наедине с дочерью он громы метал:
– Ты умна, ты красива, перед тобой открыты все пути в мир, в огромный мир, а ты сворачиваешь на тропинку, усеянную к тому еще колючками! И какое тебе дело, как живут рабочие в России? Мы с тобой тут не дома, а в неволе. Но бог смилуется над Польшей, он сорвет с нас оковы…
Ефрузина не спорила с отцом: она успокаивала его улыбкой, поцелуями и… продолжала работать в типографии.
И виной всему русские ссыльные. Берви-Флеровский – философ, писатель – сорокалетний младенец! Вместо того чтобы заниматься философией или стихи слагать, пишет он книги, за которые и выслали его к Белому морю. Там, в Москве, он написал книгу о «Положении рабочего класса в России». Казалось бы, человеку его возраста пора угомониться – ведь знает, что ссылка в Архангельск только цветочки, а он и здесь составил «Азбуку социальных наук» и читает ее молодым энтузиастам!
Чем этот Берви увлек его Ефрузину? Долговязый, со слезящимися глазами, с руками красными и узловатыми, как у крючника, а красавица Ефрузина без ума от него. Она забыла муки своих отцов, предала их мечты о свободном будущем – перешла к русским, в стан врагов.
Если бы ее прельстила блестящая жизнь – влюбилась бы в русского князя или просто в богатого русского помещика, – примирился бы с этим пан Винценты, но Ефрузина-работница – никак не укладывалось в его сознании.
Второй русский – Порфирий Иванович Войнаральский. Лицо одно из тех, на которое достаточно взглянуть, чтобы оно навсегда осталось в памяти. Широкий лоб, карие глаза, мягкие и вдумчивые, в которых часто вспыхивают искры сдержанного смеха. В Войнаральском было что-то такое, что внушало к нему доверие и уважение. А ведь лет ему было немного – едва 29.
И именно он, этот вежливый и остроумный Порфирий Иванович, тот самый, которому пан Суиинский нежно жал руку при каждой встрече, именно он лишил его дочери. Берви-Флеровский будоражил молодежь, будил что-то в них, а Порфирий Иванович Войнаральский – этот бывший мировой судья и богач – не будоражил и не будил, а в один из вечеров положил он пятьсот рублей на стол и сказал:
– Уезжайте, девушки, в Москву. Тут вы мохом обрастете. Я уже написал о вас одному хорошему человеку, господину Мышкину.
И девушки поехали в Москву – Ефрузина и четыре ее подруги: сестры Елена и Юлия Прушакевич, Лиза Ермолаева и Лариса Заруднева. Для охраны, а еще больше для благопристойности поехала вместе с ними тетушка Елены и Юлии, угловатая старая дева с плоской грудью и узкими бедрами; в ее движениях сквозило что-то решительное, мужское.
Надежная охрана!
9
В сентябрьское утро 1873 года, когда по Тверскому бульвару шумел ветер и звонницы Страстного монастыря отзывались мелодичным гудом, стояли в воротах дома № 24 пять девушек. Они были легко одеты: в круглых соломенных шляпках, в клетчатых юбках и тонких коротких пелеринках. Их подвела погода: когда они выходили из дома, сияло солнце.
На двери, обитой черной клеенкой, белела табличка: «Вход в типографию».
Девушки прислушивались: тишина, ни шума машин, ни шелеста человеческих голосов.
– Не рано ли мы пришли? – вслух подумала одна из девушек и, как бы наперекор своим мыслям, взялась за скобу и решительно распахнула дверь.
Остальные молча и настороженно последовали за ней.
Девушки сначала попали в полутемный коридор, а оттуда в небольшую светлую комнату, пустую, без мебели. Один только столик на толстых ножках стоял вдоль окна, а на нем, поверх синей бумаги, лежала верстатка; на стене висел большой треугольник; на подоконнике – две бутыли не то с чернилами, не то с краской.
Девушки переглянулись – в их взглядах недоумение, разочарование.
– А вывеска у этого господина Мышкина солидная, с золотом, – с издевкой сказала самая молодая из девушек – белокурая, с нежным цветом лица.
В коридоре послышались гулкие шаги, дверь распахнулась от толчка. Не вошел, а влетел грузный мужчина, с головой, курчавой, как у негра. Увидев девушек, он остановился и вежливо спросил: «Чем могу служить?», хотя по пятнам на его лице и злому взгляду можно было угадать безошибочно, что ему хочется ругаться.
– Мы наборщицы, – сказала высокая золотоволосая девушка. – Мы хотели предложить свои услуги.
– Вы? Наборщицы? Боже мой! Так вас сам Николай-угодник послал! Вы знаете, что такое понедельник? Нет, барышни, вы не знаете, что такое понедельник! Понедельник – это враг рабочего человека! Если он пьет во вторник, то в среду выходит на работу. А вот если рабочий человек пьет в воскресенье, то в понедельник у него ноги не ходят и голова не варит. А я вас спрашиваю: какой рабочий человек не пьет в воскресенье? Барышни! Что же мне делать? Хозяин требует работы, а какая может быть работа в понедельник, если все рабочие пили в воскресенье?
Этот монолог рассмешил и обрадовал девушек.
– Мы можем сейчас же приняться за работу.
– Где вы работали?
– В Архангельске.
– Где? В Архангельске? Это там, где белые медведи? Какие там типографии? Вы что: текстовики или акцидентщики?
– И текст набирали, и акцидентные работы выполняли.
– Все пять?
– Все.
Человек с курчавой головой устало опустился на табурет. Казалось, что он исчерпал себя длинным монологом. Наконец сказал:
– Наборщицы. Все пять. А зачем мне столько? Я вас спрашиваю, барышни, зачем мне столько? Ведь завтра все наши пьяницы явятся. Что прикажете: гнать их в шею? – Он поднялся и бодро закончил: – Одну из вас я оставлю!
– Нет, – решительно заявила золотоволосая, – или всех, или никого!
– Ультиматум! – рассмеялся курчавый, сделав ударение на втором «у».
– Нет, просьба: мы не хотим разлучаться, К тому же о нас знает господин Мышкин.
Девушки были красивые, вежливые – с такими приятно работать.
– Знаете что, барышни, пойдем к хозяину. Он у нас с головой, что-нибудь да придумает. Одну оставит, других где-нибудь пристроит.
Они поднялись на второй этаж. За столом сидел молодой человек, читал гранки.
– Ипполит Никитич, вот барышни из Архангельска!
Ипполит Никитич встал, стройный, крепкий. Под черными вьющимися волосами высокий белый лоб, тонкий нос. Бородка короткая, тщательно подстриженная. Отложной воротничок был подвязан ниточкой черного галстука.
– Наборщицы? – спросил он весело.
Он встретился с зелеными глазами золотоволосой девушки, в них светилось удивление и любопытство, глаза как-бы спрашивали: «А чем ты лучше других хозяйчиков?»
Мышкин видел, что перед ним барышни, решившие жить трудом, – таких было много в то время, но почему Войнаральский так горячо их рекомендует?
– Ипполит Никитич! – вмешался курчавый. – Одну мы оставим у себя, а остальных вы где-нибудь пристроите.
– Всех оставим у себя.
– Ипполит Никитич! Нам столько не нужно!
– Нужно, Николай Абрамович, – сказал, улыбаясь, Мышкин. – Больше книг будем печатать. – Он придвинул к столу стулья: – Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе, а вы, Николай Абрамович, занимайтесь, пожалуйста, своим делом.
Пан Винценты переоценивал внешние достоинства своей дочери: она не была «королевой», она не была той красавицей, что вызывает у встречных мужчин блеск в глазах; даже больше – белокурая Елена Прушакевич была красивее своей подруги.
Что же привлекало людей к Ефрузине? В первую очередь глаза. Они поминутно менялись: то они горячие, и из них струит не обещание счастья, а само счастье; то они как вода в роднике – холодные, строгие; то вдруг обретают фиалковый оттенок – шаловливые, зовущие к радости.
Ипполита Никитича и поразили глаза Ефрузины: они звали, укоряли, ласкали, но не поэтому он остался доволен первой беседой с девушками из Архангельска.
Вела беседу Ефрузина. Да, они дворянки. Хотят работать, зарабатывать, не зависеть от родителей. «Идейные соображения?» – «Нет, пожалуй, веяние времени». Читать? Да, они читали, но Архангельск глубокая провинция, хорошая книга редко туда попадает. «Что мы считаем хорошей книгой? Это дело вкуса. Лариса Заруднева, например, любит Тургенева, а вот Елена Прушакевич предпочитает статьи Елисеева». – «А вы?» – «Как бы вам на это ответить? Я люблю и Тургенева и Елисеева». – «А еще кого?» – «Это что, Ипполит Никитич, любопытство или вы всех своих наборщиков подвергаете такому экзамену?» – «Какой же это экзамен? Хочу выяснить, какую работу вам поручить». – «Любую, Ипполит Никитич, мы любую работу будем выполнять добросовестно».
Говорили о пустяках. Мышкин знал, кто эти девушки, знал, что привело их в Москву, но Ефрузина Супинская, самая серьезная в девичьей пятерке, ни словом, ни тоном не выдала истинной цели их приезда. Да, они хотят работать – вот в чем она убеждала Мышкина, а для кого и во имя чего, об этом даже намека не было в ее словах.
10
Усложнилась жизнь Ипполита Никитича. Типография оказалась первой ступенькой к той мечте, которая жила в нем много лет.
73-й и первая половина 74-го года были годами революционного половодья, когда народники, ломая все преграды, густыми потоками двинулись «в народ», то есть в деревню, к мужику, чтобы его «просветить», «готовить к всероссийскому восстанию». Пензенский кружок, с которым Мышкин был тесно связан, почти полностью разбрелся по деревням. Ближайшие друзья Войнаральского – бывший мировой судья Ковалик и бывшие офицеры Рогачев, Кравчинский, Шишко – уже отправились кто на Волгу, кто в Ярославскую губернию. На Волгу собирался и Порфирий Иванович. Члены трех московских кружков, с которыми Мышкин поддерживал постоянную связь, также разъехались кто куда. В типографию приезжали посланцы многих городов за книгами, за литературой…
Мышкин был подхвачен этим порывом, но в отличие от своих товарищей он не стремился «в народ», а все свои силы тратил на то, чтобы печатать больше и скорее. Он ездил по делам типографии в Пензу, Рязань, Смоленск и Калугу и, знакомясь с огромным кругом революционеров, присматриваясь к их деятельности, все больше и больше убеждался, что работа разрозненных кружков не даст ни скорых, ни обильных всходов. Каждый кружок действовал самостоятельно, лишь одно было у них общее: готовность принести себя в жертву во имя народного блага.
Мышкин считал себя членом социально-революционной партии, хотя такой партии тогда и не было, этим он хотел подчеркнуть, что назрела необходимость в создании партии.
Мышкин был недоволен также и тем, что ни в одном из кружков во всех городах, где он побывал, нет ни крестьян, ни рабочих, то есть нет тех людей, за чье благо кружки борются.
Усложнилась и личная жизнь Мышкина: он полюбил «девушку из Архангельска», Ефрузину Супинскую.
Несколько лет назад он также был влюблен. Первая юношеская любовь его подхватила, закружила, Под обаянием красивой девушки он тогда почти лишился воли. Даже на ум не приходило сомнение: а как ты, солдатский сын, будешь себя чувствовать, в чуждом мире? Эта мысль появилась потом, когда дверь в чужой мир захлопнулась. Но сейчас, когда Мышкин уже видел свой жизненный путь, все стало для него сложнее. Он спрашивал себя: имею ли я право на ее любовь? Свою дорогу я сам выбрал, все, что ждет меня впереди, – моя судьба, но честно ли увлечь на этот тернистый путь любимую девушку? Не честнее ли отстранить Фрузю и от тех небольших дел, которые она делает, оградить ее от опасностей, так щедро разбросанных на пути русского революционера? Не в ограждении ли дорогого существа, не в отказе ли от личного счастья должна проявиться любовь революционера?








