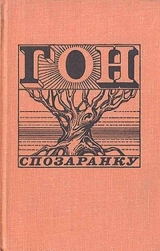
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Мать вдруг не выдержала.
– Ты слишком молода, чтобы иметь детей! – Произнеся эти слова, бедная женщина вконец растерялась. – Прости, Конни. То, что думаем мы, не так уж важно. – Она выглядела совсем жалко. – Как ты сама считаешь, девочка?
И Конни кивнула в знак согласия.
– Я думаю, вы с отцом правы, мама. Я…
– Что, дорогая?
– Я подумала, что все это не очень романтично, правда? Решать, что теперь делать. Какие уж тут слова о любви и другом… Да и ребенок словно бы не мой. Ведь то, что я его рожу, это еще ничего не означает. Ведь Чиг, Питер, я – мы твои дети совсем не потому, что ты родила нас, а потому, что ты нас вырастила. Ведь так, мама? Да?
Мать совсем не была готова к такому повороту.
– Да, Конни. Да. Именно так. – И хотя дочь соглашалась с ней, мать не покидало беспокойство. – Я знаю, когда-нибудь ты, может, и пожалеешь, что поступила так, но, клянусь тебе, девочка, это самый правильный выход. Клянусь…
– Я знаю, мама. Только я как-то еще не разобралась во всем… Я хочу сказать, что все так сложно и непонятно. Порой я все еще не верю…
– Я понимаю, дорогая. – Мать поднялась. Она казалась усталой и печальной. – Теперь одевайся и иди к отцу. А я позвоню кое-куда… разузнаю об этом агентстве. Тебе не хотелось бы съездить в Калифорнию?
Конни удивилась.
– Зачем?
– Как зачем? Чтобы рожать там, а не здесь. Ты могла бы пожить у дяди Генри. Разумеется, я тоже туда приеду… потом, когда ты будешь на последнем месяце.
Вот это для Конни было совсем уже неожиданностью. Разумеется, ей нельзя рожать в Нью-Йорке, если она собирается потом как-то наладить свою жизнь. Через месяц или два она уже не сможет появиться на улице.
Она мысленно улыбнулась, представив себе лица знакомых, которых она случайно встречает, их замешательство и попытки сделать вид, будто ничего с ней не произошло. Но забавная сценка тут же рассеялась, как дым. Конни вернулась к действительности. Теперь она совсем уже не знала, что ей ответить, и торопливо пробормотала: – Да, да, это будет хорошо, мама. Калифорния – это чудесно. – Она умолкла, вспомнив о дяде, которого видела всего один раз. – А согласится дядя Генри?
– Конечно. Он такой добрый.
– Хорошо, мама. – Она стояла и смотрела матери в глаза – теперь их лица были на одном уровне. И вдруг Конни бросилась ей на шею: – Спасибо, спасибо тебе, мама! Я никогда не устану повторять это.
Мать словно застыла.
– Ну полно, полно, детка. – Она потрепала Конни по спине.
* * *
Прошла неделя. Все было улажено и договорено. Дядя ждал Конни, которая должна была вылететь в Калифорнию в следующий вторник. Мать Конни переговорила с одним из ньюйоркских агентств, имевшим филиал в Лос-Анджелесе, – они возьмут ребенка, как только он появится на свет. И сегодня Конни вместе с матерью собралась в город купить все необходимое, в том числе и соответствующую одежду для Конни.
В эту неделю все складывалось как нельзя лучше. Напряженность первых дней постепенно исчезала, и Конни больше не ловила на себе печальных и сочувственных взглядов родителей. В доме чаще звучал смех.
Только Питер был все таким же мрачным. Он молчал и ничем не выдавал своего негодования, но Конни он решительно избегал. Несколько вечеров его не было дома, он возвращался на рассвете, нетвердой походкой пьяного поднимался по лестнице, тщетно стараясь не шуметь и не разбудить домашних. Конни гнала от себя мысль, что это все из-за нее, но чувство вины не давало покоя.
Торопясь к поджидавшей ее внизу матери, Конни, проходя мимо комнаты Питера, услышала какой-то шум. Она постучалась.
– Кто?
Конни приоткрыла дверь. Питер босиком стоял посреди комнаты. Руки его, наполовину всунутые в рукава, были подняты кверху, а голова закрыта свитером, который он неловко натягивал на себя.
– Я хотела только спросить, не нужно ли тебе чего-нибудь в городе.
Питер замер; он даже не попытался высвободить голову из свитера.
– Питер! Мы с мамой уходим, слышишь?
– Куда? – послышался из-под свитера приглушенный голос.
– В город за покупками, дурачок.
Наконец из свитера показалась голова брата.
– А я-то думал – на пикничок собрались. – В тоне его не было и намека на шутку.
Конни теперь жалела, что не прошла мимо.
– Небось сам знаешь, что городишь чепуху. Разве мне до пикников?
– Тогда к чему это притворство. – Он сел и с таким остервенением начал натягивать носки, словно испытывал к ним лютую ненависть.
– Я не притворяюсь. – Конни сделала шаг в комнату – в нос ударил запах застоявшегося табачного дыма и лосьона для бритья. – Просто я пытаюсь найти наилучший выход.
– Такого нет.
Конни растерянно умолкла.
– Неправда, есть! – не совсем уверенно сказала она наконец.
– Какой же? – Он завязал шнурки и выпрямился.
Конни опустила глаза на носки своих сандалет.
– Для ребенка лучше, если его будут воспитывать двое, отец и мать, а не одна только мать. К тому же это будут родители, которые хотят ребенка.
– А ты не хочешь, так?
До сих пор Конни как-то удавалось избегать этого вопроса.
– У меня ничего не получится.
– Ты в этом уже уверена? – Он продолжал смотреть на нее; лицо его было неподвижным и почти ничего не выражало.
– Да. – Она снова почувствовала гнетущую тревогу и страх, почти забытые за эту неделю. – Что тебе нужно от меня? – Но в ее голосе не было слез.
Он вскочил и, размахивая руками, вдруг закричал:
– Почему ты воображаешь, что всем от тебя что-то нужно?
– Ты словно бы злишься, что я спала с этим парнем.
– Ах вот что! Оказывается, ты еще глупее, чем я думал.
И тут Конни тоже закричала:
– Что ты цепляешься ко мне? Почему ты так груб со мной? Я ни о чем не жалею, слышишь? Ни о чем! – Она смотрела на него в упор и стояла так близко, что ощущала его дыхание на своем лице.
– Ты в этом тоже уверена?
– Черт бы тебя побрал, Питер! Будь ты проклят. Чтоб тебе пережить то, что переживаю я, и пусть к тебе так же кто-то относится, как ты ко мне!
– Не думаю, что мне так повезет, – вдруг сказал он тихо и улыбнулся. Эта улыбка совсем разъярила Копни, и она ударила Питера. Ее ладонь оставила на его щеке красное пятно. Оно вдруг расплылось и потускнело, ибо Копни почувствовала, что пелена слез застилает глаза. А Питер продолжал улыбаться какой-то уже совсем глупой улыбкой.
– Прости, Питер.
– Ты, кажется, собиралась в город за покупками, – пробормотал он и отвернулся.
Она медленно вышла из комнаты.
Мать, заметив заплаканные глаза Конни, поспешила к ней и обняла за плечи.
– Тебе нездоровится, детка?
– Нет, ничего. – Жесткая материя костюма, в который нарядилась мать, царапала плечо, но Конни еще теснее прильнула к матери.
– Ну что, что случилось, детка? – Мать говорила с ней, ласково растягивая слова, словно с обиженным ребенком.
– Ничего.
Но мать уже догадывалась. Она отпустила Конни и, подбежав к подножию лестницы, ведущей на верхний этаж, крикнула:
– Питер! Иди сейчас же сюда!
Конни услышала шаги брата. Питер послушно спустился в кухню, зная, зачем его зовут.
Едва он вошел, как мать накинулась на него:
– Я давно замечаю, что ты груб, резок и неприветлив с сестрой всю эту неделю. Я молчала, поскольку думала, что Копни все равно. Но теперь это перешло всякие границы. Конни нужны внимание, поддержка, чуткость, ласка, и мне стыдно за тебя, Питер. Что с тобой происходит? – Она умолкла, ожидая ответа.
Казалось, ее слова не произвели впечатления на Питера.
– Со мной? Со мной ничего не происходит.
– Ты хочешь сказать – это с нами что-то происходит? – Каждое слово только подливало масла в огонь.
– Послушай, мама, что всем вам до моего настроения? Забудем о нем. Я сожалею, что заставил Конни плакать. Это правда. Я очень ее люблю, может, не меньше вашего, только выражаю это по-другому. И не беспокойтесь больше. Я обещаю вам ни во что не вмешиваться.
– И это все, что ты мажешь сказать! – Мать была слишком рассержена на сына, чтобы на этом закончить разговор.
Но Конни видела глаза брата.
– Мама, довольно. Он уже извинился.
Мать повернулась.
– Хорошо, раз ты так считаешь. Но только, Питер, обещай не мешать нам. Ты понял?
– Да.
Питер повернулся и вышел.
– Я просто не узнаю его. Ведь он никогда не был злым мальчиком.
– Все обойдется, мама. Нам пора в город.
Конни не заметила, как они доехали до центра. Она раздумывала над тем, что сказал Питер. Нет, она не жалела, что была близка с этим парнем, но не могла понять, какое это имеет отношение к тому, что она сейчас делала. И она свежа подумала, что ее решение – единственное из всех возможных.
Они с матерью с удовольствием бродили та магазинам, и это напомнило ей август, когда она готовилась к отъезду в колледж. К концу дня Копни порядком устала и сказала матери, что хотела бы отдохнуть перед обедом.
Дома их уже ждал отец с подарком для Конни. Он купил ей тоненькое обручальное колечко.
– Это спасет тебя от лишних расспросов, когда приедешь в Калифорнию, – сказал он, Конни крепко сжала бархатную коробочку в руках, но не вынула кольцо и не примерила его на палец.
* * *
Час спустя, все так же крепко сжимая в руке коробочку, она медленно сошла вниз. Все это время она просидела у себя в комнате в сгустившейся темноте сумерек, испуганно прислушиваясь к тому, что творилось в ней и над чем она уже утратила всякий контроль. Кое-как взяв себя в руки, она наконец решилась сойти вниз.
Ее уже заждались. Мать стояла в дверях кухни. Конни молча прошла мимо.
– Тебе лучше, детка? – спросила мать, следуя за ней.
Конни не успела ответить, так как отец, с нетерпением дожидавшийся, когда можно будет приступить к еде, развернул салфетку и громко сказал:
– Набегались как следует по магазинам, а?
Конни остановилась у своего стула.
Питер, погруженный в чтение газеты, поднял голову и посмотрел на нее.
Конни села. Бархатную коробочку она положила рядом со столовым прибором. Питор зашуршал газетой, сложил ее и бросил на пол.
– Пожалуй, можно подавать? – промолвила мать и заторопилась к плите, где что-то булькало и шипело в кастрюлях. Вскоре дымящаяся еда стояла на столе в больших судках и мисках. Мать заняла свое место за столом.
– Купила что-нибудь хорошее, Конни? – Отец поливал рис соусом. Коричневая жидкость медленно стекала с горки риса.
– Ты разве не голодна, детка? – мать заботливо наклонилась к Конни.
Конни смотрела в свою пустую тарелку.
– Сейчас, мама. Прежде мне хотелось бы сказать…
– Разве ты не хочешь прежде съесть чего-нибудь, Конни? – Мать так стремительно прервала Конни, будто знала, о чем та хочет сказать, и намеревалась во что бы то ни стало помешать ей.
– Одну минутку, мама, – сказала Конни на этот раз более решительно. Она провела кончиками пальцев по бархатной крышке коробочки, чувствуя, как пружинит ворс.
Взгляд отца остановился на коробочке.
– Кольцо не подошло тебе?
– Я хочу вернуть его, папа. – Она посмотрела на отца долгим, серьезным взглядом.
– Оно тебе мало? – Отец положил вилку на тарелку.
Конни вздохнула. Это будет нелегко. Она еще не знала, зачем делает это, но иначе не могла.
– Я не примеряла его, папа.
Отец откинулся на спинку стула.
– Я не могу принять кольцо. Это нехорошо. – Она протянула к отцу руку. Он в недоумении посмотрел на нее.
– Почему, дорогая? – Мать была встревожена и заметно нервничала. – Это избавит тебя и дядю Генри от всяких расспросов в случае, если тебе придется где-нибудь бывать.
Конни покачала головой. Она видела перед собой кусок стола, пустую тарелку, ложки, вилки и маленькую, обтянутую бархатом коробочку. Сейчас они потребуют объяснений, а она сама еще не во всем разобралась.
– Я не поеду в Калифорнию.
Воцарилась полная тишина. Теперь Конни смотрела на Питера. Но она ничего не увидела на его замкнутом лице, кроме настороженности. Но что думает Питер, теперь уже не имело значения.
– Что случилось, Конни? – Мать видела ее взгляд, обращенный к Питеру. – Питер, я ведь просила тебя оставить Конни в покое!
– Я не видел ее после того, как она вернулась из города. – Питер тоже смотрел на Конни.
– Что здесь, черт возьми, происходит? – Отец наклонился вперед и положил руки на стол.
Не сводя глаз с Питера, Конни заговорила, но она совсем не собиралась отвечать на вопрос отца.
– Все вы были так добры ко мне. Даже ты, Питер. Я знаю, что сейчас огорчу вас, вы подумаете, что я неблагодарная…
– Не говори так, Конни. – В голосе матери уже не было ни тревоги, ни смятения – он был ровным и бесцветным.
– Что она собирается сказать? – Руки отца вцепились в край стола, и стол легонько задрожал, посуда на нем позвякивала.
– Я решила оставить ребенка.
– Нет, нет! – приглушенно воскликнула мать.
– Но почему, Конни? Мне казалось, мы все уже решили. – Ладонь отца потянулась и накрыла сжатую в кулак руку Конни, и Конни еще крепче сжала пальцы. Отец взял ее за руку.
– Я тоже думала, папа. Но не все просто решается, иногда…
Ей так хотелось, чтобы он ее понял.
Но если он и понимал, то Конни не прочла этого на его лице.
– Ты поступаешь неразумно, девочка. – Голос матери несколько потеплел, а глаза глядели печально.
– Я знаю, мама. Но разве разумно думать, что я смогу так просто оставить ребенка в Калифорнии, вернусь сюда, буду продолжать учиться в колледже и жить, словно ничего не произошло? Разве это возможно?
– Я не это хотела сказать. – Лицо матери снова стало каменным. – Что ты еще собираешься натворить? – Теперь в ее голосе были гнев и отчаяние.
– Не знаю, мама. Может, просто хочу спасти себя. Я сама не знаю. – Она лихорадочно искала нужные доводы.
– Спасти себя от чего, господи боже? – Мать решила пойти в наступление. – Девчонка девятнадцати лет с ребенком на руках, без мужа!.. И это ты называешь спасением? Я не понимаю тебя.
– Я сама себя не понимаю, мама. – И вдруг Конни нашла нужные слова: – Выслушай меня, мама. Я сама решила, что мне нравится этот парень. А теперь у меня будет ребенок, и даже если я никогда не выйду замуж, то все равно уже ничего не изменишь.
– Хорошо, пусть так. Пусть мне не нравится, что моя дочь запросто спит с парнями, запретить тебе это я не могу. Но ребенок? Ведь мы все обговорили?
Конни не ответила. Слова были где-то совсем рядом, но она не находила их.
– Чувство ответственности, – пришел ей на помощь Питер. – Если совершаешь какие-то поступки, надо уметь отвечать за них.
– Помолчал бы! Все это мудреная ерунда, которой вы нахватались в ваших школах. Что с нее толку? – с горечью набросилась на него мать.
– Это не ерунда, мама. – Питер даже не обиделся. – Конни сможет исправить свою ошибку, оставив ребенка. Раз она не жалеет о том, что полюбила, почему она должна отдавать ребенка?
– Ты твердишь об ответственности. Вот и уговорил бы ее отдать ребенка! Это и была бы ответственность и расплата за неразумный поступок.
Соус на тарелках застыл.
– Она не сможет сделать этого. Она не ты, не я, не отец. Она Конни. Конни – простая душа. Нет, не дура, отнюдь нет, а простодушная. Ты ведь сам это не раз говорил, отец.
Отец печально кивнул головой.
– Ну и что из этого? Ведь мы хотим ей помочь, хотим избавить от трудностей, которые ее ждут.
– Почему ты решил, отец, что ее ждут трудности? – Питер в недоумении развел руками. – Конни не строит каких-то особых планов на будущее. Когда-то она хотела стать медицинской сестрой, но это было лет десять назад. Я на ее месте, может, и добился бы своего. А если ей захотелось бы стать кем-нибудь, кто не должен иметь детей, например монахиней, я бы сказал: о'кэй, становись монахиней! Но Конни хочет остаться такой, какая она есть. А такие не отдают своих детей чужим людям.
– Какая ерунда! – Мать вдруг с раздражением дернула Питера за руку. – Если у нее нет сейчас планов, это не значит, что у нее их не будет завтра. А ты готов закрыть перед ней все пути.
Питер неожиданно рассмеялся.
– Разве можно остановить Конни, если она что-то задумала? Разве мы хотели, чтобы она уехала в этот колледж? Но она уехала. Если бы вдрут решила стать ученым-физиком, боюсь, она бы им стала. Ладно, может, ребенок и свяжет ее по рукам, но отдавать его – это все равно что потерять руку. Привыкнуть можно, но забыть нельзя. Как ты не понимаешь этого, мама?
– Не могу! – закричала мать, вскакивая. – Я ничего не понимаю. Все уже было решено, все улажено, пока ты не вмешался. Как ты можешь помогать родной сестре так губить свою жизнь? – Слезы потекли градом. Бросив на Конни взгляд, полный глубокой обиды, она выбежала из кухни.
– Мама! Я сама все решила, сама! – вскочила Конни.
Обескураженный отец бросился к двери. Его взгляд остановился сначала на сыне, потом на дочери, и он растерянно пробормотал:
– Ничего не понимаю. Все было улажено. Все были довольны и счастливы, а сейчас вы просто сошли о ума. – Глядя на Конни, он покачал головой. – Ты понимаешь, что ты делаешь? – И, повернувшись, вышел.
Конни тяжело опустилась на стул. Протянув руку, она открыла коробочку – золотой ободок тускло блеснул. Коннн была уверена, что поступает правильно. Только ей совсем не хотелось так огорчать родителей.
– Конни? – робко промолвил Питер. И Конни онемела, увидев его лицо. – Конни, ты… – Его глаза сияли. – Я горжусь тобой, сестренка.
Конни улыбнулась и покачала головой.
– Наверное, я самая настоящая дура. И все-таки спасибо тебе, Питер.
– Что ты собираешься делать? – Он кивком головы указал на дверь кухни. – Может, они не захотят…
– У меня будет ребенок. – Она вспомнила о старшем брате. – Может, Чиг согласится взять меня к себе.
– Я уверен, что согласится. Он куда лучше меня… Знаешь, эти две тысячи, пусть они будут твои… Ни о чем теперь не думай. – Какое-то мгновение он изучал ее лицо. – Ты не должна беспокоиться, Конни. Все всегда будет так, как ты решишь.
– Ты думаешь? – Конни отнюдь не разделяла этой уверенности.
– Будет, вот увидишь, – он улыбнулся. – Не беспокойся.
Она кивнула головой в знак согласия и захлопнула крышку бархатной коробочки.
Перевод Т. Шинкарь
Карсон Маккаллерс
ГУБКА

В комнате у нас я был единоличным хозяином. Губка спал со мной в одной кровати, но это никакой разницы не делало. Комната была моя, и я пользовался ею по своему усмотрению. Раз как-то, помню люк пропилил в полу. А в прошлом году, когда я в старшие классы перешел, взбрело мне в голову налепить на стенку портреты красавиц, которые я из журналов повырезывал, – одна аж без платья была. Мать меня особенно не притесняла: ей и с младшими забот хватало. А Губку все, что я ни сделаю, в восторг приводило.
Когда ко мне заходил кто из товарищей, достаточно мне было взглянуть на Губку, и он, чем бы ни занимался, тут же вставал и выматывался из комнаты, только улыбнется мне, бывало, чуть заметно. Своих ребят он никогда не приводил. Ему двенадцать – на четыре года меньше моего, – и мне никогда ему говорить не приходилось, что я не хочу, чтобы всякая мелкота в моих вещах рылась, – сам понимал.
Я как-то и думать забывал, что он не брат мне. Он мой двоюродный, но, сколько я себя помню, живет у нас. Дело в том, что его родители погибли в крушении, когда ему и года не было. Мне и моим младшим сестрам он всегда как родной брат был.
Прежде Губка всегда слушал меня с открытым ртом, каждому моему слову верил безоговорочно, будто впитывал все, что я говорю. Отсюда и прозвище его. Раз как-то, года два назад, я ему сказал, что, если прыгнуть с нашего гаража с зонтиком, зонт сработает как парашют, так что, если даже упадешь, больно не будет. Он попробовал и здорово расшиб себе коленку. Это всего лишь один пример. И самое смешное, что, сколько бы я его ни дурачил, он все равно продолжал мне верить. И не то чтобы он вообще глупый был. Просто это он так ко мне относился. Что бы я ни делал, он смотрит и на ус мотает.
Одно я усек – только от этого совестно как-то и в голове плохо укладывается, – если кто тобой очень уж восторгается, ты начинаешь того человека презирать и на него плюешь, а вот если кто тебя в грош не ставит, так он тебе лучше всех кажется. Шутка ли понять такое. Мэйбл Уотс – она у нас в выпускном классе учится – царицу Савскую из себя корчила и обращалась со мной свысока. И что же? Я из кожи лез, только бы она внимание на меня обратила. День и ночь только и думал, что о Мэйбл Уотс, прямо с ума сходил. С Губкой, когда он маленьким был и до самого того времени, как ему двенадцать стукнуло, я, думается мне, обращался ничуть не лучше, чем Мэйбл Уотс со мной.
Теперь, когда Губка так переменился, не сразу и вспомнишь, каким он прежде был. Вот уж никогда не думал, будто может что-то случиться, отчего оба мы вдруг совсем переменимся. Никогда бы не подумал – для того чтобы разобраться во всем этом, мне понадобится вспоминать, каким он прежде был, и сравнивать, и как-то концы с концами сводить. Знай я заранее, что так получится, может, я себя и не повел бы так.
Никогда я на него особенного внимания не обращал и не думал почти о нем, и, если прикинуть, сколько времени мы с ним в одной комнате бок о бок прожили, просто диву даешься, до чего же мало я о нем помню. Он часто сам с собой разговаривал – это, если думал, что никого поблизости нету, – про то, как он с гангстерами сражается пли ковбоем по ранчо скачет – всякую такую детскую дребедень. Запрется в ванной и сидит там битый час и иной раз так разорется, что его на весь дом слышно. Обычно он, однако, тихий как мышка был. По соседству мало было ребят, с которыми бы он дружбу водил, и на лице у него вечно было выражение мальчишки, который смотрит, как другие играют, а сам надеется – вдруг да и его позовут. Он покорно донашивал свитеры и куртки, из которых я вырос, хотя рукава ему бывали широки и руки высовывались из них худенькие и беленькие, вроде как у девчонки. Вот таким я его и помню – год от году подрастает, а в общем не меняется. Таков был Губка до самого того времени, несколько месяцев назад, когда вся эта канитель началась.
Мэйбл была ко всему, что случилось, до некоторой степени причастна, так что, пожалуй, с нее и следует начать. Пока я с ней не познакомился, я на девчонок много внимания не обращал. Прошлой осенью на общеобразовательных предметах мы с ней на одной парте сидели – вот тогда-то я ее впервые и заметил. Таких ярко-желтых волос, как у нее, я в жизни не видел, она их локонами завивала, смачивая какой-то клейкой жидкостью. Ногти у нее острые, наманикюренные и ярко-красным намазаны. На уроках я только и знал, что на Мэйбл пялился, кроме тех случаев, когда думал, что она может в мою сторону поглядеть, или если учитель меня вызывал. Во-первых, я просто глаз не мог оторвать от ее рук. Они у нее очень маленькие и белые, если, конечно, не считать этой красной краски, а когда она страницы перелистывает, так сначала обмусолит большой палец, мизинчик оттопырит и переворачивает медленно-медленно. Мэйбл описать невозможно. Все ребята по ней с ума сходят. Ну а меня она просто не замечала. Во-первых, она почти на два года меня старше. На переменках я всегда норовил пройти мимо нее по коридору как можно ближе, а она хоть бы улыбнулась когда мне.
Все, что оставалось, это сидеть и таращить на нее глаза на уроках, и иногда мне при этом начинало казаться, что у меня сердце колотится на весь класс, и тогда хотелось заорать или выскочить за дверь и бежать куда глаза глядят.
По ночам в постели я всякое про Мэйбл воображал. Часто от этого уснуть не мог до часу, до двух. Иногда Губка просыпался и спрашивал, чего это я угомониться не могу, и я тогда ему говорил, чтоб он заткнулся. Боюсь, что я частенько его обижал. Наверное, мне просто хотелось третировать кого-нибудь, вроде как Мэйбл третировала меня. И если Губка на меня обижался, это всегда у него на лице было написано. Я уж и не помню всех пакостей, которые успел ему наговорить, потому что, даже когда я их говорил, мысли мои были заняты Мэйбл.
Так тянулось почти три месяца, а потом она вроде бы начала менять тактику. На переменках стала со мной заговаривать и каждое утро списывала у меня домашнее задание. На большой перемене я раз даже потанцевал с ней в гимнастическом зале. А однажды набрался духу и зашел к ней домой с блоком сигарет. Я знал, что она покуривает в девчонческой уборной, а то и на улице. Ну и потом мне не хотелось тащить ей конфеты, потому что, по-моему, это очень уж избитый прием. Она встретила меня благосклонно, и я вообразил, что дела теперь пойдут у нас по-другому.
Вот с того-то вечера все и началось. Я вернулся поздно, и Губка уже спал. Меня прямо-таки распирало от счастья, и я никак не мог уснуть. Все лежал и думал о Мэйбл. А потом она мне приснилась, и я вроде бы поцеловал ее. Просыпаюсь вдруг, а кругом темень. Я не сразу очухался и сообразил, где я и что. Полежал тихонечко. В доме стояла тишина, и ночь была темная-темная.
– Пит!..
От звука Губкиного голоса я чуть не подскочил. Не отвечаю, лежу не шелохнусь.
– Ты меня как родного брата любишь, да, Пит?
Так это все странно было, мне даже показалось, будто это-то и есть сон, а прежде была явь.
– Ты меня всегда как родного любил, правда?
– Ну ясно, – говорю.
– После этого мне пришлось ненадолго встать. Было холодно, и я рад был вернуться в постель. Губка приткнулся к моей спине. Он был такой маленький и теплый, и я чувствовал его теплое дыхание у себя на плече.
– Как бы ты со мной ни обращался, я всегда знал, что ты меня любишь.
Я совсем проснулся, и мысли у меня в голове как-то странно мешались. Радостно было от того, что с Мэйбл будто на лад идет, но в то же время Губкин голос и слова его как-то меня трогали и заставляли думать о нем. По-моему, людей вообще лучше понимаешь, когда сам счастлив, а не когда тебя что-то гложет. Получалось так, будто до того времени я о Губке, собственно, и не думал никогда. Хорошего он от меня ничего не видел, это я теперь ясно понял. Однажды ночью, за несколько недель до этого случая, услышал я, что он ревет в темноте. Оказалось, что потерял чужое духовое ружье и боится признаться. Спрашивает, что ему делать. А я засыпал уж, и мне одного хотелось, чтобы он отстал. Он продолжал приставать, ну я взял да и брыкнул его как следует. Это только один случай, который мне пришел на память. И я подумал, что, в общем-то, мальчишка он очень одинокий, никого у него нет. Стыдно мне стало.
Что-то находит на тебя такое холодной темной ночью, от чего человек, лежащий под боком, особенно близким становится. И когда разговоришься с ним, кажется, будто только вы двое во всем городе без сна лежите.
– Ты отличный парень, Губка! – сказал я.
И вдруг мне показалось, что из всех, кого я знаю, я его и правда больше всех люблю: больше любого из своих приятелей, больше сестренок, в некотором смысле даже больше Мэйбл. И так хорошо мне на душе стало, вроде как когда в кино грустную музыку играют. Захотелось показать Губке, что, в общем-то, я его очень ценю, и загладить как-то свое прежнее дурное с ним обращение.
В ту ночь мы много с ним говорили. Речь у него была торопливая, казалось, все это он долго-долго копил, чтобы когда-нибудь высказать мне. Сообщил, что собирается построить себе байдарку и что соседские ребята не принимают его в свою футбольную команду, и уж не знаю, что там еще. Я тоже разговорился, и такое это было приятное чувство – сознавать, что каждое твое слово он чуть ли не на лету ловит. Я даже ему про Мэйбл немножко рассказал, только я так повернул, будто это она за мной бегает. Он расспрашивал про учение в старших классах и прочее, и голос у него был возбужденный, и он по-прежнему говорил быстро-быстро, будто слова у него за мыслью не поспевали. Я уж засыпать стал, а он так и продолжал говорить, и я все время ощущал у себя на плече его дыхание, теплое и близкое.
Последующие полмесяца я много виделся с Мэйбл. И она так себя держала, что можно было подумать, что я ей не совсем безразличен. От счастья я просто не знал, куда деваться.
Но про Губку я не забыл. У меня в ящике письменного стола скопилось много всякого барахла: боксерские перчатки, приключенческие книжонки, плохонькая рыболовная снасть. Все это я передал ему. Мы с ним еще пару раз поговорили, и у меня было ощущение, что я только теперь его по-настоящему узнал. Когда у него появилась царапина через всю щеку, я сразу же понял, что это он до моей новой бритвы добрался, но я и слова ему не сказал. У него и лицо совсем изменилось. Прежде он поглядывал робко, будто боялся, что его вот-вот по голове шарахнут. Это выражение ушло. Лицо его с широко открытыми глазами, ушами торчком и постоянно полуоткрытым ртом выражало теперь удивление и еще предвкушение чего-то очень хорошего.
Раз как-то я хотел показать его издали Мэйбл и сказать, что это мой братишка. В кино в тот день шла картина про убийство. Я заработал у отца доллар и дал Губке четвертак, чтобы он купил себе конфет или там не знаю чего. На остальные я пригласил в кино Мэйбл. Мы сидели в задних рядах, и вдруг я увидел, что входит Губка. Он как только отдал свой билет, так и впился глазами в экран и даже чуть не растянулся в проходе, споткнувшись. Я хотел было подпихнуть Мэйбл, да засомневался, стоит ли. Вид у Губки был немножко дурацкий – идет как пьяный, не отрывая глаз от экрана. Очки он протирал подолом рубахи, и гольфы у него упорно сползали вниз. Так он и шел, пока не добрался до передних рядов, где обычно вся ребятня сидит. Я так и не подпихнул Мэйбл. Но подумал, что приятно все-таки, что оба они попали на картину на деньги, которые я заработал.
Так, насколько я припоминаю, продолжалось месяц или полтора. Меня просто распирало от счастья, и я не мог ни заниматься толком, ни сосредоточить на чем-нибудь мозги. Мне хотелось быть со всеми в хороших отношениях. Иной раз мне просто необходимо было поговорить с кем-нибудь. И чаще всего говорил я с Губкой. Он был счастлив не хуже моего. Раз он сказал:
– Знаешь, Пит, я больше всего на свете радуюсь тому, что ты мне как брат.
А потом между мной и Мэйбл какая-то кошка пробежала. Я так и не усек, что именно случилось. Разве таких девчонок поймешь! Переменилась она ко мне. Сперва я даже мысли не допускал, старался думать, что все это мое воображение, и ничего больше. Она вроде бы больше не рада была меня видеть. Стала раскатывать с этим, как его, футболистом, у которого желтая машина. Машина была точно под цвет ее волосам. Она укатывала с ним после конца занятий, заливаясь хохотом и заглядывая ему в лицо. Я прямо не знал, что и делать, и день и ночь только о ней и думал. Когда мне все-таки удавалось ее куда-нибудь пригласить, она держалась надменно и смотрела мимо меня. Тут на меня нападал страх, что у меня что-то не так: то ли я слишком громко топаю, то ли ширинка у меня на штанах не в порядке, то ли прыщ на подбородке выскочил. Иногда в присутствии Мэйбл в меня словно бес какой-то вселялся – лицо становилось наглое, я ни с того ни с сего начинал называть взрослых просто по фамилии и вообще грубить. А ночами сам себе удивлялся, что это на меня накатило, и думал обо всем этом, пока от усталости у меня не начиналась бессонница.








