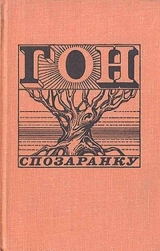
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Была. Она была дома.
– Ну так значит…
– Я ей сказал, что ты просто так позвонила. Ничего не сказал про твой приезд.
От жары у Элен в глазах все плыло. Отец открыл дверцу со своей стороны.
– Давай выйдем на минутку. Сойдем к реке, – сказал он.
Элен соскользнула с сиденья и вышла. Земля под ногами, казалось, утратила прочность. Отец шел и что-то говорил на ходу, и ей пришлось догонять его бегом. Он сказал:
– Мы приехали сюда семнадцать лет назад. Вас тогда шестеро было; да ты не помнишь. А потом Артур помер. И родителей матери ты не помнишь, и дом их, этот проклятый, хреновый дом, и как я работал на деда у них в лавке. Ты что, помнишь, как домой надо было через лавку ходить? Пол в грязных опилках, и старухи приходят за колбасой, от которой с души воротит, и за свиными ножками, и за коровьими мозгами или требухой и не знаю уж, что еще люди в их квартале жрали. Я б мог до конца дней блевать и все равно б не выблевался дочиста. Ты тогда только родилась. И родители твоей матери с нами хуже, чем со скотиной, обращались. Уж я-то точно был для них скотом. А когда они померли, дом пошел кому-то другому, кто-то другой его получил, и тогда мы решили, что все к лучшему и что мы поедем сюда и начнем жизнь заново. Ты этого не помнишь и ничего об этом не знаешь.
– Да что ты это, папа? – сказала Элен. Она взяла его под руку, и они вместе стали спускаться с заросшего травой откоса. – Как-то говоришь чудно. Выпил, что ли, по дороге на автобусную станцию? Ты раньше никогда этого не говорил. Я думала, что там не только мясом торговали, а бакалейный магазин был, как в…
– И вот мы приехали сюда, – громко перебил ее отец, – и купили этот окаянный дом с наполовину прогнившей крышей и завалившимся к чертовой матери колодцем… и эти гады в нашу сторону и плюнуть не хотели, им и в голову не приходило, что мы тоже люди. И Хендрики твои с ними. Не лучше остальных. Если мы в городе встречались, они на меня как на пустое место смотрели. Вот как! Смотрели сквозь меня, как сквозь стекло. Они меня не замечали. А все потому, что в этом доме прежде жили семьи каких-то батраков, явившихся сюда из какого-то южного захолустья. Приехали и уехали, снялись среди ночи, всем задолжав; вот они все и думали, что мы такие же. Я им говорю, что мы, мол, люди бедные, но мы не голытьба какая-нибудь. Я спрашиваю, разве я похож на батрака? Разве я говорю как южанин? Мы городские. Да разве кому было до того дело? Хоть ты к ним вплотную подойди и в рожу им ори, они все равно будто не слышат, даже когда сами разоряться начали. В тяжелое время я ночи напролет богу молился, чтобы они до копейки все потеряли, сукины дети, все до единого, а особенно швед этот с его хвалеными коровами… Я бога молил, чтобы он их до меня низвел, тогда б они смогли меня разглядеть и детей моих, которые не хуже ихних, да и я, может, из них самый работящий. Если работаешь так, что еще немного, и из тебя дух вон, значит, ты поработал на совесть, а сколько у тебя денег, это уж дело десятое, я б им так и сказал. Я хотел стать здесь своим, и пусть буду среди них последним из последних, только б они признали меня…
– Ты выпил, папа, – сказала Элен ласково.
– У меня было все продумано, как я им это скажу, – продолжал он. Теперь они стояли у самой реки. Рыболовы расчистили здесь маленькую площадку и навтыкали в высохший ил двурогие ветки, чтобы сушить на них свои шесты. Отец Элен пнул одну из этих веток ногой, а потом сделал нечто совсем уж неожиданное: Элен в жизни еще не видела, чтобы кто-нибудь так поступал, даже мальчишки, – он наступил на ветку ногой и растоптал ее.
– Разве можно так? – сказала Элен. – Зачем ты это сделал?
– И я все ждал и ждал своего часа: целых семнадцать лет. И никогда ни с кем об этом не говорил. Мы с твоей матерью разговоров много не разговаривали, сама небось знаешь. Она вся в отца пошла. Ты помнишь наш первый день здесь? Весна была, тепло, хорошо, а потом подул ветер, пока мы вещи таскали, и так его запах непохож был на городские запахи – боже ж ты мой! Мы будто в какой-то другой мир попали.
– Помню, – сказала Элен. Она смотрела на обмелевшую мутную реку. На той стороне какие-то птицы с дурацким видом нежились на солнце, расположившись на плоских белых камнях, словно вуалью подернутых сухим мхом.
– И вовсе ты ничего не помнишь, – зло сказал отец. – Ничегошеньки. Я тебя одну из всех их любил, за то, что ты не помнила. Это я все для тебя. Сперва для себя старался, для самого себя, только бы доказать этому стервецу, отцу ее, хоть он уже мертвый был, – потом тем другим стервецам доказывал, всем этим большим господам, соседям нашим, а уж потом только для тебя. Ты была меньшая. Я перед богом поклялся, что, когда ты вырастешь, так будешь жить в большом доме, где только и знают, что все подновляют да подкрашивают, и новая техника у тебя будет, и будешь ты разъезжать в новом дорогом автомобиле, а не в этом нашем корыте. Я поклялся, что умру, но добьюсь всего этого для тебя.
– Спасибо тебе, папа, – сказала Элен робко. – Только я никогда… я об этом ведь не знала, или бы… Мне всюду хорошо было. Мне и дома нравилось, и с мамой я лучше всех умела ладить. И Пол по мне был хорош; я ведь за него вышла не просто потому, что ты мне велел. То есть я не то говорю, ты мной никогда не помыкал. Я сама захотела за него замуж, потому что он меня любил. Я всегда была всем довольна, папа. И даже если бы он не был наследником магазина и всех их угодий и прочего, я все равно за него пошла бы. Не надо было тебе так убиваться на работе ради меня.
Несмотря на жару, ее вдруг пробрал озноб. По обе стороны от них высокая трава никла в сторону от прогалины, утрамбованной и прокаленной августовским солнцем. Эти сухие травы, глуша друг друга, отступали назад, туда, где начинался лозняк и деревья в пышной листве. Трава была пожухлая, с сероватым налетом, а лозы глянцевитые, густо-зеленые, словно высасывали жизнь из воды, над которой гнулись. Вдоль всего берега деревья и кустарники были чуть изогнуты, и у всех часть ствола снизу казалась неживой, белесоватой: очевидно, досюда достигал когда-то уровень воды. Река делала столько излучин, что далеко провожать ее взглядом было невозможно. Милю-другую, не больше. А затем глаза упирались в сплошную стену листвы. Зачем они здесь, она и отец? Элен в голову пришла сразу же испугавшая ее мысль – она не имела привычки рассуждать, – что им здесь не место, что здесь идет какая-то своя, замедленная и терпеливая жизнь, что здесь время не посчитается ни с ней, ни с тем, что лицо ее столь юно, а сердце щедро, а возьмет да пройдет мимо.
– Поехали домой, папа. Давай поедем домой, – сказала она.
Отец нагнулся и опустил руки в воду, потом, не вытирая, поднес их к лицу.
– Папа, смотри, грязь же, – сказала она. Откуда-то донеслось вдруг неистовое жужжание – шмели, наверно, или осы, Элен огляделась по сторонам, но ничего не увидела.
– А боженька все слушал и не сказал ни да, ни нет, – произнес отец. Он сидел на корточках у самой воды и теперь обернулся и, наморщив подбородок, посмотрел на Элен. Рубашка у него взмокла на спине. – Если я его правильно понял, то получается примерно так: мне не уйти от себя, и этим богатеям не уйти от себя, и самому богу тоже не уйти: каков ты есть, таков и есть, никуда не денешься. Так я понял и больше уж о боге не задумывался.
– А я о боге думаю, – сказала Элен. – Думаю, папа. Надо, чтоб люди о боге почаще вспоминали, тогда б у них войн не было и…
– Нет, я к богу давно потерял интерес, – сказал он с расстановкой. – Есть ли он там на небе, нет ли его, мне это без разницы. Ну градом пшеницу побило, ну засуха случилась, какого черта! Кто тут был виноват? Ни я, ни бог. Так что я его к этому не приплетал. Я знал, что в этом деле, кроме как на себя, полагаться не на кого. Потом, спустя время, мне полегче жить стало. Год от году все легче становилось. За ферму мы выплатили и за новую технику тоже. Тебя в школу в город учиться послали. И когда мы в церковь приходили, с нами иногда даже здоровались, потому что мы продержались здесь на десять лет дольше той шантрапы с юга. И Майк теперь неплохо на своей земле орудует, он себе новый автомобиль приобрел, да и мы с Биллом достаточный доход от нашей фермы имеем, так что дела наши не так уж плохи, я говорю, не так уж плохи. Но только разве я денег искал?
Он смотрел на нее в упор. Ей почудилось, что есть какая-то связь между выражением его лица и шмелиным жужжанием, оно завораживало ее, и она не могла пошевельнуться, не могла даже сделать попытку развеселить его.
– Нет, не денег я искал, – сказал он.
– Папа, почему мы не едем домой?
– А что именно, точно сказать не могу, – говорил он, продолжая сидеть на корточках, руками машинально трогая землю. – Я думал об этом вчера вечером, когда ты позвонила, и потом всю ночь, и по дороге в город сегодня думал, все пытался понять.
– Меня, кажется, в автобусе совсем закачало… Мне что-то нехорошо, – сказала Элен.
– Почему ты с тем парнем уехала?
– Что? А-а, – отозвалась она, покусывая сухую травинку. – Я с ним познакомилась у двоюродного брата Пола, знаешь, у того, что держит такой славный ресторанчик с залом для танцев…
– Почему ты с ним сбежала?
– Сама не знаю. Я ведь тебе в письме написала. Я писала тебе, папа. Он такой славный оказался, и я ему понравилась, до сих пор нравлюсь. Он так любит меня… И всегда он такой печальный и усталый, он мне напомнил… тебя, папа, не совсем, конечно, потому что он ведь не сильный, как ты, и никогда не смог бы работать, как ты. Ну и раз он меня так полюбил, не могла ж я не уехать с ним.
– Тогда зачем ты вернулась?
– Вернулась? – Элен попробовала было улыбнуться, глядя на воду, на медлительную, неприглядную воду, на эту реку, которая неизменно нагоняла тоску на всех, а для Элен была такой родной, такой с детства знакомой, что она, пожалуй, никогда не смогла бы привыкнуть жить в доме, вблизи которого не протекала бы река или хоть канал какой-нибудь, не струилась бы день и ночь вода: может, как раз этого ей и не хватало в городе. – Я вернулась потому… потому что…
Она раскрошила стебелек холодными пальцами, но слов не могла найти. Она следила, как сыплется на землю раскрошенная травинка. Слов не хватало, мозг опустел и остыл, слишком близко спустилась она к реке, по это нельзя было назвать ошибкой, как нельзя назвать ошибкой вечное движение воды: оно существует, и все тут.
Отец не спеша поднялся на ноги, и она увидела у него в руке нож, знакомый ей с самого детства. Глазами она уставилась на нож, а мозг пытался припомнить, где она видела этот нож в последний раз, кому он принадлежал: брату или отцу? Он подошел к ней и тронул за плечо, будто хотел разбудить, они посмотрели друг на друга: Элен, к этому времени напуганная до того, что уже не испытывала страха, а лишь любопытство, немое, холодное любопытство ребенка, и отец, строгий и молчаливый до той минуты, пока волна ненависти не исказила его лицо, превратив в хаос морщин, белых и красных пятен. Он не заносил нож, а воткнул его ей в грудь по самую рукоятку, так что побелевший кулак стукнулся о ее тело и сразу был залит кровью.
Позже он вымыл нож в грязной воде и спрятал его. Сел на корточки и стал смотреть на другой берег; потом у него заболели ноги, и он уселся на землю, в нескольких футах от трупа. Он просидел так не один час, словно ожидая, что его посетит какая-нибудь дельная мысль. А потом вода начала темнеть, медленно-медленно; потемнело и небо, только чуть позже, будто жило по другому, особому времени – вечно оно так, – и тогда ему волей-неволей пришлось задуматься над тем, что же делать дальше.
Перевод М. Мироновой
Джойс Кэрол Оутс
ТЫ
Ты спускаешься по трапу самолета, вся в белом, в твоих ушах раскачиваются серьги, похожие на миниатюрные крюки для подвешивания туш, взопревшие ноги с трудом ступают в тяжелых нелепых туфлях с квадратными носами, пряжками и наборным каблуком – в туфлях, которые стоили семьдесят или даже сто долларов, разве упомнишь, а тут еще эта слепящая яркость вокруг. Солнечный свет. Утро. А, черт, где же темные очки? Ты ненавидишь утро, в тебе подымается гнев, вскипая, точно прокисший суп, но ты улыбаешься утру, потому что к тебе идут, выкрикивая магическое слово – твое имя.
Западное побережье приветствует тебя.
– Мадлен, ненаглядная! Как ты хороша! Боже, как она хороша! – кричит какой-то мужчина.
Несколько репортеров щелкают аппаратами. Нет, это не короли фоторепортажа, те возле знаменитых убийц и звезд более крупной величины. Стоя одна под этим солнцем, ты невольно поворачиваешься к вспышкам камер и улыбаешься. Ты улыбаешься, несмотря на омерзительный вкус во рту. Как ты ненавидишь солнечный свет! Как ненавидишь утро! Как ненавидишь мужчину, который тебя обнимает, хлопочет вокруг тебя, – проходимец, ты видишь его насквозь! – и все-таки ты идешь с ним к зданию аэровокзала в этих своих тяжеленных модных туфлях, в белой юбке на восемь или, может быть, десять дюймов выше колен, идешь, подставив невыносимо яркому свету злую улыбку, а твой агент орет тебе чуть не в самое ухо, что тебе предстоит сегодня делать и с кем встретиться.
Ты, женщина, которой уже стукнуло сорок. Ты, неправдоподобное существо в белом, с вызывающей фигурой, с белыми, как кость, крашеными волосами, без единой морщины, без тени мысли на лице, с этой пустой, злой улыбкой, которой ты пытаешься подавить тошноту. Вы слишком много пили вчера вечером. Слишком громко шумели. Твой агент дышит тебе прямо в лицо – бр-р, до чего ты ненавидишь мужчин!
– А где же мой багаж? – вдруг говоришь ты, чтобы отделаться от него.
Какие все нерасторопные, еле движутся. Земля еле движется.
– Багаж! Багаж!
Некто мальчишеского вида – приятель твоего агента – хлопает в ладоши, куда-то бежит, суетится. Сейчас твой багаж доставят, не беспокойся. Твой багаж, дорогие белые чемоданы, кое-где поцарапанные. Их швыряют и волокут, точно вещи, не имеющие цены. Да они и в самом деле не имеют цены.
Что ты делаешь здесь, в Калифорнии?..
Ты садишься в такси. Твой агент кладет руку возле твоего атласного колена – наплевать, его прикосновение ничего не значит, ты откидываешься на спинку сиденья и глядишь в окно, стараясь не замечать его руки. До чего ты презираешь мужчин. Ты сама об этом сказала, и, к счастью, тебя тогда не услышал никто посторонний.
– Несравненная моя, ненаглядная, как ты хороша! Зачем ты напугала меня по телефону? Что ты там говорила – упадок сил, ты не выдержишь? Это ты-то, женщина, которая за всю свою жизнь ни разу не болела! – И он сжимает твою руку.
Твоя рука – это изящные стальные косточки, удивительно крепкие, и нежная, белая, благоухающая плоть, такая женственная, прелестная.
Мадлен Ранделл.
– Ну как тебе сценарий? Как роль?
Сценарий. Пятна на синей обложке. Страницы, которые ты листала в самолете, заставляя себя читать, заставляя себя учить роль… Ты ненавидишь ксерокопии.
Ты пожимаешь плечами.
– Но ведь эта женщина-врач – ты! Ты в новом воплощении! Это твоя роль. Она написана как будто для тебя.
Тебя вводят в холл мотеля. Запах хлорки и клопиной жидкости. Пушистые белые ковры на полу. Ты рассеянно киваешь кому-то, подошедшему к тебе с улыбкой: «Скажите, вы Мадлен Ранделл?» Ты стоишь у стеклянной стены на фоне пальм или чего-то там еще, выставив на всеобщее обозрение свой огромный, вызывающий, неправдоподобный бюст, свои безупречные ноги, ноги сорокалетней женщины, с атласной кожей, точеными лодыжками, в тяжелых модных туфлях, за которые ты заплатила двести долларов или больше, теперь и не вспомнить. Везут твой багаж. Чемоданы набиты платьями, и каждое стоит двести, или триста, или четыреста долларов, во всяком случае, за столько ты их покупала – сейчас они скомканы, смяты, погребены под грудами туфель и прочего барахла. Когда ты через несколько минут откроешь самый маленький чемодан, у тебя вырвется крик ярости: из флакона с полосканием для рта вытекла зеленовато-голубая жидкость!
– К чертовой матери! Все к чертовой матери! Я больше не могу, не могу, не могу!
Ты мечешься по комнате, громыхая туфлями. В зеркале отражаются твои белокурые волосы и злое лицо – лицо звезды средней величины. Ты так красива, у тебя столько денег, тебе все завидуют, а жидкость все-таки пролилась, и ты кричишь своему агенту и его мальчишеского вида приятелю, чтобы они не смели говорить тебе ни слова, чтобы они убирались и оставили тебя в покое, ты сейчас будешь звонить, ты сейчас возвращаешься в Нью-Йорк…
– Мэдди, ради бога! Мэдди, умоляю!
– Но моя дочь…
– Мэдди, ты убьешь всех! У меня дрожат руки, смотри!
Джерри показывает тебе свои дрожащие руки, и ты внимательно смотришь на них, желая удостовериться в истинности его горя. Да, он весь дрожит. У него неважно со здоровьем, он сейчас не тот, что был лет десять назад.
– С одной из моих дочерей случилось несчастье, – тупо говоришь ты.
И вдруг тебе приходит в голову, что ведь между вами разыгрывается очень важная сцена, сцена с большим накалом страстей. Люди с волнением смотрят на тебя. Ты словно играешь в пьесе. Не в телевизионной чуши, ради которой ты сюда прилетела (ты снимаешься в пяти эпизодах и получишь за это несколько тысяч долларов – несколько тысяч!), а в настоящей, серьезной пьесе вроде пьес Чехова или… вроде пьес Чехова, где люди рыдают, с мольбой протягивая друг к другу дрожащие руки.
Да, это сцена из жизни выдающегося человека, из твоей жизни.
– Ну хорошо, успокойся, – говоришь ты Джерри.
Ты ненавидишь мужчин за их слабости. Ты любишь их, потому что они так слабы. Ты берешь Джерри за руки. Ты на полголовы выше его, но в матери ему не годишься, ты недостаточно стара. Не можешь же ты быть матерью всем! Он улыбается тебе дрожащими губами, а пришедший с вами сюда молодой человек с восхищением глядит на вас. Ты понимаешь, что в этой роскошной комнате с зеркальными стенами ты самая роскошная, самая дорогая вещь: красивая женщина. Ты неправдоподобно, вызывающе красивая женщина, удивительно ль, что все глядят на тебя? Ты нужна людям. Ты так нужна людям, будь же с ними добра.
– У меня руки никогда не дрожат. Смотрите.
Ах, твои изумительные белые руки, унизанные бриллиантовыми перстнями, такие твердые после стольких лет.
– Я делаю сто наклонов в день, – говоришь ты Джерри. В дверь стучат, и молодой человек широким жестом ее распахивает. Входит девушка в халатике, со сложным сооружением из оранжевых крашеных локонов на голове. Не обращая на нее внимания, ты гордо продолжаешь: – Я каждый день делаю гимнастику. Каждый день! Не меньше часа. Я даже выжимаюсь. Я пробовала бегать трусцой у нас в парке, но псы приходили в такое возбуждение, что я это бросила и бегаю теперь дома, вот так, на месте.
Все с благоговением смотрят на тебя.
– Мадлен, – говорит Джерри, – это потрясающе! Но давай…
– Хочешь, я сейчас выжмусь двадцать пять раз?
– Мэдди…
Ты опускаешься на ковер. Сбрасываешь туфли. Ложишься на свой упругий втянутый живот, живот сорокалетней женщины, на свой огромный бюст и начинаешь выжиматься на руках – один, два, три раза!
– Это что, – тяжело дыша, говоришь ты. – Я могу выжиматься так хоть все утро.
– Невероятно! Мадлен, ты настоящая спортсменка, такая красавица и такая… такая спортсменка. Потрясающая женщина, правда? – восклицает Джерри.
Декорации быстро меняются, следующая сцена – в другой комнате: ты переодеваешься, чертыхаясь, дергаешь «молнию». Сейчас девушка в халатике начешет твои волосы и сбрызнет их липким пахучим лаком, тем сортом, который больше всего подходит для этих ветреных широт. Ногти на твоих руках платиновые. Ногти на твоих ногах платиновые. Твои выбритые ноги гладки, как мрамор, – безупречные ноги, ты никогда и не глядишь на них, ты и в зеркало почти не глядишься: твое лицо неподвластно увяданию. Но сейчас на нем очень странное выражение, я его уже видела однажды, когда ты сидела в каком-то ресторане: одержимое, застывшее, в твоих изумительных голубых глазах бешенство, они даже как будто слегка косят. О, эти твои приступы слепого бешенства.
Ты любишь разбивать вещи. Любишь их швырять. Раньше ты любила незаметно подставлять ножку официантам: важные, солидные господа, с которыми ты сидишь, беззаботно беседуют, и вдруг содержимое подноса летит на пол или к кому-нибудь из них на колени – ха-ха-ха, как ты смеялась! Как ты смеялась, когда горка зеленого горошка раскатывалась по всей скатерти, какие в эту минуту у всех делались смешные лица! Да, ты любишь подставлять ножку и разбивать, но убирать разбитое ты не любишь. Ты предоставляешь это другим. Твоя комната настоящий хлев. Ты никогда ничего не убираешь. Ты любишь разбивать, жечь – каким эффектным жестом ты поджигаешь в пепельнице или в корзине для бумаг пустяковые, никому не интересные письма, которые можно бы тихо и мирно выбросить, с каким значительным видом рвешь на мелкие клочки прочитанную телеграмму, а люди в тревоге смотрят на тебя, не смея спросить, что же случилось.
Тебя ведут по коридору к лифту, а я – я бреду по комнатам нашей нью-йоркской квартиры… тебя усаживают в такси, суетятся, восхищаются тобой – я в который уже раз снимаю телефонную трубку и набираю номер. Ты рассказываешь анекдот: «Плывет Тэд Кеннеди на своей яхте, а навстречу ему…» – да, ты, наша мать, рассказываешь анекдот, а я, твоя дочь Мэрион, не такая красивая, как моя сестра, но все-таки хорошенькая, с рыжевато-русыми волосами и такими же, как у тебя, голубыми глазами, девушка семнадцати лет, но менее юная, чем ты, – я слушаю, как на другом конце провода, в квартире Питера, звонит и звонит телефон.
Тебя подводят к столику, сажают. Подают меню. Ты швыряешь его: «Бокал сухого мартини». Где-то поет птица, упрятанная в клетку, запертая в этом кондиционированном склепе ресторана, она поет для тебя. Чьи-то глаза прикованно глядят на твою шею. Чьи-то руки подносят тебе пепельницу. Ты рассказываешь анекдот, который слышала неделю назад в Лондоне: «Католическая монахиня приехала в Конго, но в один прекрасный день всю миссию вырезали, в живых осталась только она, и… как там дальше?., да, и тамошний вождь говорит ей…» Ты громко и зло смеешься анекдоту, который рассказала, а я стою у окна и, глядя вниз, на Сентрал-Парк, снова набираю номер. В одиннадцати комнатах нашей квартиры пустота. Пустота, умноженная на пустоту. Без тебя, без твоих нетерпеливых шагов, без твоего медового, властного голоса здесь рай, но рай этот слишком пуст и неправдоподобен.
Я набираю другой номер, я нашла его в записной книжке. В трубке раздаются неумолимые, покорные гудки, точно я опять попала в ту же квартиру, что и раньше, и опять в ней звонит телефон, и нет надежды, что кто-нибудь мне ответит. Где друзья Миранды? Где все? За спиной у меня какой-то шум… нет, ничего – ни шороха, ни звука. А мне почудилось, что это ты пришла, мама, и, не найдя того, что искала, хлопнула по своей пленительной привычке дверью. Эта квартира, этот город полны твоим отсутствием, здесь мирно и уныло без тебя. Гудки все раздаются. Я тихо кладу трубку. Что же мне делать? Буду набирать другой номер. Буду звонить, звонить, звонить. Тебя нет, не слышны твои постоянные окрики: «Перестань морщить лоб! Что ты согнулась в три погибели? Вот как нужно ходить, смотри на меня – пусть все видят, что ты гордишься своим телом!» – поэтому я должна сейчас действовать, я должна думать. С двенадцатого этажа нашего дома я вижу купы деревьев в парке, узор дорожек и прудов, он мне знаком до тошноты, он часть нашей жизни. «Какой великолепный дом! Какой изумительный вид из ваших окон!» – восторгаются твои знакомые, и ты довольно улыбаешься, хотя зимой из этих допотопных окон невыносимо дует, хотя канализационная труба течет и потолки у нас в пятнах, а хозяин никак не делает ремонта, хотя мы с Мирандой всю жизнь дрогнем в своих комнатенках возле кухни – неважно, это твоя квартира, и больше ты нигде не можешь жить.
Ты и здесь не можешь жить, но это тоже неважно.
Я набираю еще какой-то номер из Мирандиной записной книжки, и на этот раз мне сразу отвечают.
– Алло? – говорит женский голос.
– Скажите, Миранда не у вас?
– Кто это говорит?
– Ее сестра, Мэрион.
– Какая Мэрион?
– Ее сестра Мэрион… У вас нет Миранды? Может быть, вы знаете, где она?
– Почему я должна знать, где она?
Голос у девушки бесцветный, тусклый, она, наверное, только что проснулась у себя в Ист-Вилледже – одна из новых приятельниц Миранды, жалкая, несчастная наркоманка.
– Значит, вы ее не видели?
– Господи, ну при чем тут я? Почему вы спрашиваете меня? Я ничего не знаю. И Миранду вашу я не знаю. Никто ее не знает… Она скрытная, не то что ваша мать, та в точности такая, какой кажется, и я восхищаюсь ею за это. А Миранда неискренняя, всем лжет…
– Когда вы ее в последний раз видели?
Молчание. Девушка зевает:
– Может быть, мы говорим о разных людях?
– Она сегодня ночью ушла из дому и…
– Нет, я ничего не помню.
И она вешает трубку – все, наш разговор оборвался. Как резко люди могут оборвать разговор.
Ты пьешь второй бокал мартини. Ты жадно ешь маслины. Кто-то целует твою руку, твою изумительную, женственную руку с длинными точеными пальцами. О, сколько не относящегося к тебе обожания в этих поцелуях! Как все они любят твои руки, твое лицо, твое невероятное тело, но любят абстрактно, не связывая все это с тобой, не любя тебя. Ты мажешь маслом булочку. Разделываешь лежащего перед тобой на тарелке омара и ешь его мясо, ешь, ешь… он похож на огромного красного таракана, мама! Но ты ешь его с большим аппетитом. Наслаждение глядеть, как ты ешь. Продюсер, тот самый молодящийся старичок с крашеными волосами и острыми глазками в кровяных прожилках – ему принесли фрукты и деревенский сыр, – с завистью смотрит на тебя: какие у тебя великолепные зубы, какие мускулы, какой отличный желудок! Ах, что за женщина эта Мадлен Ранделл, в точности такая, какой кажется!
Декорации снова меняются: ты сидишь перед зеркалом в свете ярких ламп. Кто-то в белом, как у медсестры, халате влюбленно втирает в твою кожу крем. Молоденькой маникюрше никогда не стать тем, чем стала ты, пожалей ее. Из зеркала тебе восхищенно улыбается кудрявый парикмахер, он невысок и коренаст, наверное, испанец. Ты чувствуешь на своем затылке его осторожное дыхание. Он влюбленно расчесывает твои волосы. Как ловко и энергично он работает, будто спортсмен, думаешь ты. Они все работают, как спортсмены, эти люди, они священнодействуют здесь. Много лет назад, когда ты еще была почти девочка, эти священнодействия над твоим телом опьяняли тебя. Они и сейчас опьяняют тебя, не спорь. Хлопоты и священнодействия вокруг тебя, репетиции и съемки, съемки и деньги, деньги и люди… люди, люди, люди – их лица кружатся, мелькают, надвигаются на тебя из толпы, узнают – да какое же нужно здоровье, какие силы, чтобы все это вынести, чудо, что ты не превратилась в мужчину, мама! Маленький парикмахер без умолку щебечет, точно это одна из обязанностей, за которые ему платят жалованье, а ты – ты привычно смотришь в зеркало, не отрывая глаз от своего отражения, от своего лица. Твое лицо – реальность. Еще большая реальность – твое тело. Неужели оно когда-нибудь перестанет существовать, превратится в прах, исчезнет? Нет, не думай об этом, ты не отдашь того, что тебе принадлежит, как принадлежит одна из твоих ненаглядных дочерей-близнецов, над которыми всегда сюсюкают твои знакомые, а ты в ответ улыбаешься довольной, фальшивой улыбкой, и кажется, что про себя ты в это время думаешь: «Как, у меня, оказывается, есть дочери? Вы говорите, близнецы? Когда же я родила их? Интересно, газеты об этом писали? И что же, я люблю их? Где они? Сколько им лет?»
Ты красавица, все остальные – уроды. Толстые, унылые уроды. Всмотрись в толпу на улице, в здании аэровокзала, в театральном зале! Все эти люди уродливы, их лица бесцветны или безобразны, удивительно ль, что они рвутся в модный театр на Бродвее, когда ты играешь в так называемых комедиях или «музыкальных» комедиях, что они смотрят тебя по телевизору, завороженные не твоими великолепными зубами и воздушным профилем, а мерно гудящей поверхностью экрана, который внушает им, что все хорошо, все правильно, они ведут себя, как положено нормальным, добропорядочным уродам, существам иной породы, чем ты и тебе подобные. Ты и тебе подобные…
Пришла женщина убирать нашу квартиру. Десять утра. Внизу по тротуару идут люди с собаками, направляясь в парк. Уже восемь часов, как вас с Мирандой здесь нет, вы ушли отсюда не вместе, а врозь, ушли, навсегда порвав друг с другом и со мной тоже, так, во всяком случае, сказала ты. Восемь часов, как Миранда крикнула, что выбросится из окна (подоконник, на который она вспрыгнула, вот-вот отвалится, ты не заметила?). Восемь часов, как за тобой захлопнулась дверь… А сейчас ты глядишь на себя в зеркало, и в тебе шевелится глухая утробная ярость, потому что ты ненавидишь, ты презираешь всех этих людей, которые хлопочут вокруг тебя, тебе невыносимы прикосновения чужих рук, но ты заставляешь себя сосредоточиться… Да, сосредоточиться на сценарии, куски из которого ты выучила по дороге, на роли, которую тебе предстоит играть, – эта женщина иного типа, чем ты, и, стало быть, гораздо менее ярка и значительна как личность, однако ты должна будешь вылепить новый характер, а это всегда увлекает. О диалоге, в котором ты принимала участие вчера, и позавчера, и все предыдущие дни, о банальной перебранке с оскорблениями и слезами ты сейчас не думаешь: тот диалог не из пьесы, его никто для тебя не писал, ты ни с кем не заключала контракт его вести, поэтому его можно без угрызений совести выкинуть из памяти.
Нынче ночью мы с Мирандой узнали, какой бешеный зверь живет в тебе. Мы услышали его, когда у тебя сорвался голос в неотрепетированной реплике. Слушай же:
– Я порвала с этим человеком! Я его выгнала! Не смей больше видеться с ним, иначе я порву и с тобой! Немедленно иди к врачу или вон из моего дома! Вон, вон! Убирайся к чертовой матери!
Ты злобно шагала по комнате, по этому своему «кабинету» с рядами нечитаных книг от пола до потолка и твоим роскошным безобразным портретом, этой рыночной мазней: розовые губы, розовое тело, познавшее объятия двух мужей и оставшееся целомудренным, как у античной богини. Ты шагала из угла в угол, злобно вдавливая в ворс ковра босые пятки.
– Мать с сестрой желают тебе добра, но ты нас не слушаешь, ты никого не слушаешь. Посмотри, на кого ты стала похожа: вся в морщинах, как старуха, а волосы, волосы… – Миранда выкрасила их в угольно-черный цвет, как у индианки, чтобы не быть похожей на меня. – Но я не уступлю, не надейся, ты меня знаешь – Мадлен Ранделл не испугается сплетен и пересудов, Мадлен Ранделл не испугается сопливой девчонки!








