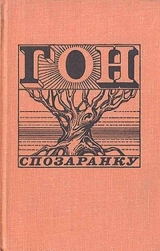
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Разрешите угостить вас, – обратился я к женщине.
Она посмотрела на меня, озадаченная, ожидающая подвоха, готовая в любой момент дать отпор.
– Серьезно, – сказал я и попытался улыбнуться. – Вас обеих.
– Мне пиво, – сказала та, что помоложе.
Меня трясло как в лихорадке. Я допил стакан одним махом.
– Что угодно. – И я повернулся к стойке.
– Детка, – спросила старшая, – что у тебя за история?
Перед нами поставили три пива.
– У меня нет истории, мамаша.
Перевод Р. Рыбкина
Теннесси Уильямс
МАМИН ДОМ С ЛЕПНЫМ ФАСАДОМ

М-p Джимми Крениинг приплелся в кухню выпить свой утренний кофе и вступил в слепяще-яркий полуденный зной в одних трусах, в которых он спал. За это лето он так похудел, что трусы едва держались на его узких бедрах и тощем животе. Бринду, цветную служанку, подменявшую в последнее время у Креннингов свою мать, которая елегла в постель, сперва смущало и оскорбляло, что он расхаживает перед ней в таком вот виде, словно она не девушка и вообще не человек, а собака какая. А была она хорошенькая застенчивая девушка, усвоившая правила хорошего тона лучше многих белых девушек города Мэкона штата Джорджия. Поначалу Бринда думала, что так беспардонно он ведет себя потому, что она цветная, и это оскорбляло ее. А теперь поняла, что м-р Джимми вел бы себя точно так же, окажись перед ним белая девушка или любой другой человек любого возраста, расы и воспитания: входя в кухню, он настолько не замечал присутствия других людей, что она диву давалась, как это он еще улыбается и вообще что-то говорит. М-р Джимми вел себя так из-за того, что творилось тут по ночам. Утром он вставал совсем очумелый и бродил с отсутствующим видом, словно единственный человек, уцелевший после авиационной катастрофы, в которой погибли все, кроме него. И когда Бринда поняла это, его поведение больше не оскорбляло ее, но ощущение неловкости осталось, и, чтобы не смотреть на него, она старательно отводила глаза в сторону. Но это было нелегко: он сидел на краешке кухонного стола в лучах слепящего полуденного солнца, потягивая кофе не из чашки, которую она для него поставила, а прямо из кофейника.
Бринда спросила м-ра Джимми, достаточно ли горяч для него кофе – она уже полчаса, как сняла его с огня, услышав что м-р Джимми встал с постели. Но в это утро он был до того рассеян, что решил, будто она толкует про погоду, и сказал:
– Господи, жутко; у меня просто яйца сейчас лопнут.
Мать учила Бринду не обращать внимания, когда он так говорит. Он ничего такого не хочет сказать, объясняла мать Бринде. Просто пижонит, когда так выражается. Или выпил лишнего. А чтоб перестал, лучше не обращать на это внимания. Вот ужо выберусь к Креннигам снова, так направлю мальчишку на путь истинный.
Мама Бринды все еще надеялась – или делала вид, что надеется – снова вести хозяйство у Креннингов, но Бринда знала, что мама лежит на смертном одре. Чудно: и ее маму, и мать м-ра Джимми в одно и то же лето свалил смертельный недуг, только мать м-ра Джимми разбил паралич, а ее собственная слегла от хронической болезни печени, которая сейчас перешла в такую стадию, что мама навряд ли вновь поднимется на ноги. Но ее положение все равно было лучше, чем у матери м-ра Джимми, которая без движения лежала у себя наверху, в своей огромной старинной, медной кровати, не в состоянии вымолвить ни слова, так что никто и не знал даже, в сознании она или нет. Это продолжалось уже три месяца, начиная с первой недели июня, и, хотя мама Бринды не знала о своем собственном конце, она знала, что старой миссис Креннинг пришел конец, и жалела ее, и каждый вечер спрашивала Бринду, не появлялось ли за день у миссис Креннинг каких признаков сознания. Иногда было совсем не о чем рассказывать, а иногда глаза миссис Креннинг казались не такими безжизненными, как всегда, и несколько раз она будто силилась что-то сказать. Бринда или ночная сиделка кормили ее с ложечки, и порой она сжимала зубы и не пропускала ложку, а в другие дни пропускала и успевала съесть половину того, что ей предназначалось, прежде чем начинала отказываться от пищи и кашица растекалась по ее запавшему землистому подбородку.
Еще Бринда готовила для м-ра Джимми ленч и обед, но он редко что-нибудь ел. Она говорила маме, что готовить на него – пустой перевод продуктов и времени, но мама все равно велела готовить и накрывать на стол, хоть он приходит, хоть нет, когда позвонит колокольчик к обеду. Теперь Бринда ограничивалась только холодными блюдами, вроде тонюсеньких сандвичей. Она заворачивала их в вощеную бумагу и ставила в холодильник. Холодильник был забит завтраками и обедами м-ра Джимми; его загромождали стоявшие одно на другом блюдечки и мисочки, а потом, придя утром, она вдруг находила его опустошенным – огромные запасы исчезали, словно ночью на холодильник совершила набег орава голодных гостей, а весь стол был заставлен тарелками и блюдами с остатками пищи, и Бринда знала – да, так оно и было, м-р Джимми пригласил к себе целую толпу, разграбившую холодильник и уничтожившую все съестные припасы м-ра Джимми, к которым сам он не прикоснулся. Но Бринда больше не рассказывала маме, что творилось у Креннингов, потому что однажды мама все-таки поднялась с постели и отправилась к Креннингам, чтобы наставить м-ра Джимми на путь истинный. Но к тому времени, как она добралась туда, она слишком ослабела и запыхалась, чтобы вести с ним разговоры. Она посмотрела на него, покачала головой и залилась слезами – вот и все, что она смогла сделать. Даже не смогла подняться по лестнице навестить миссис Креннинг, и м-ру Джимми пришлось проводить ее к своей машине и отвезти домой. В машине она пыхтела, словно старый пес, и только и смогла произнести:
– Ах, мистер Джимми, зачем вы так делаете?
В это утро Бринда довольно долго ждала во Дворе, пока м-р Джимми кончит свой утренний кофе. Иногда после кофе он, мигая и щурясь, выходил через затянутую сеткой дверь во двор и шел в «студию», маленькое, побеленное строение со стеклянной крышей, куда никто, кроме него, никогда не входил. В стенах этого дома не было ни одного окна, через которое можно было бы заглянуть туда, но однажды, уехав в город, он оставил дверь открытой, Бринда пошла затворить ее и увидела там жуткий разгром, словно в студии был заперт ураган или какой-нибудь демон; но в тот момент там стояла полная тишина – только жужжала муха, – а ураган, или демон, или еще кто там такой, сокрушив и перевернув вверх дном все, что находилось под огромным голубым глазом стеклянного окна в потолке, рухнул в изнеможении или умер. Сперва Бринда подумала пойти прибрать там, но было в этом беспорядке что-то такое, какая-то внушавшая ужас неестественность, что она только захлопнула дверь и вернулась к занятию, которое успокаивающе действовало на нее: к уборке постелей. Ей всегда было нужно застлать несколько постелей; исключение составляла кровать миссис Креннинг. Ее кровать стелила ночная сиделка, выбрасывавшая испачканные простыни в коридор – Бринде на стирку. С тех пор как Бринда сменила здесь маму, в доме перебывало пять сиделок, и все они ушли по одной и той же причине, жалуясь, что по ночам тут творятся несусветные дела, терпеть которые никак невозможно. Сейчас ночной сиделкой при миссис Креннинг работал мужчина, омерзительно вульгарный и грубый рыжий парень, с огромными, величиной с окорок ручищами, покрытыми густой порослью белых волос. Бринда была слишком шокирована этой переменой, чтобы рассказать о ней маме. До одиннадцати часов, пока не придет дневная сиделка, она боялась подниматься наверх. Однажды ей все-таки пришлось подняться наверх, чтобы разбудить м-ра Джимми, которому позвонили по междугородному из Нью-Йорка, и, когда она спускалась по лестнице, парень, служивший ночной сиделкой, присев на корточки, ухмыляясь и показывая ей язык, преградил ей дорогу.
– Разрешите, пожалуйста, пройти, – сказала она и попыталась прошмыгнуть мимо, но он вскочил ей вдогонку и одной рукой, похожей на оживший красный окорок, повалил ее, а другой грубо и нагло стал хватать ее за грудь и живот, так что она закричала и кричала до тех пор, пока м-р Джимми и его ночной гость нагишом не выскочили из комнаты, и парню пришлось отпустить ее, сделав вид, что он просто пошутил. Он называл м-ра Джимми «хмырь», а миссис Креннинг – «моя благоверная», и по всей комнате, где она лежала, разбрасывал конфетные обертки, пустые пивные бутылки и комиксы в ярких цветных обложках. С тех пор как он принял ночное дежурство, Бринда, принося по утрам миссис Креннинг яйца всмятку, вроде бы замечала в глазах парализованной женщины выражение, похожее на крик ужаса.
Но в то утро на крыльцо перед кухней вышел, мигая и щурясь, не м-р Джимми, а парень, служивший сиделкой.
– Эй, Белоснежка, – заорал он, – иди сюда! Тебя хмырь зовет!
Бринда вынесла во двор только что выстиранные простыни миссис Креннинг и нарочно как можно дольше развешивала на веревке тяжелые мокрые полотнища, чтобы парень ушел прежде, чем ей возвращаться в дом, но в то утро, когда он вышел на крыльцо позвать ее, он задержался на час позже обычного. Вернувшись в кухню, Бринда застала там м-ра Джимми, только он перешел с кофе на виски и с края стола на кухонный стул.
– Мисс Бринда, – сказал он, моргая и щурясь, словно она была полуденным солнцем, – этот сукин сын, что работает ночной сиделкой, говорит – мама только что умерла.
Стоя перед м-ром Джимми, Бринда непроизвольно, но искренне заплакала. Он мягко сжал ее руку в своей, и тогда, к своему ужасу и стыду, Бринда на шаг подвинулась к нему и обвила руками его голые плечи, словно заключив в объятие своих темных, голых, медвяного цвета рук заблудившееся дитя. Его голова упала к ней на плечо и какой-то миг так и лежала, покоясь… и, к еще большему своему ужасу, мисс Бринда почувствовала, как рука ее охватила его коротко стриженный затылок и крепче прижала его голову, словно хотела вдавить ее себе в плечо. Минуту-другую он терпел, ничего не говоря и не шевельнувшись, потом уперся руками в ее талию, легонько оттолкнул ее от себя и сказал:
– Пожалуйста, мисс Бринда, подите приберите там, а то за мамой придут…
Бринда постояла внизу, у лестницы, пока не удостоверилась, что работавший ночной сиделкой парень ушел, и тогда только поднялась наверх и вошла в комнату старой миссис Креннинг. С одного взгляда было ясно, что старая леди скончалась. У Бринды перехватило дух. Она забегала по комнате, быстро собирая липкие конфетные бумажки, пивные бутылки и измазанные шоколадом комиксы – весь тот мусор, среди которого миссис Креннинг, как всегда безмолвная, неспособная даже вскрикнуть, покинула этот мир. Потом Бринда побежала вниз, на кухню, и, отдавая там приказания м-ру Джимми, заметила, что накричала на него.
– Отправляйтесь наверх, м-р Джимми, примите холодный душ, побрейтесь и наденьте чистый белый костюм, м-р Джимми, потому что умерла ваша мама!
М-р Джимми что-то невнятно буркнул в знак согласия, протяжно вздохнул и отправился наверх, а Бринда стала звонить в похоронное бюро для белых, номер и имя владельца которого она, по совету мамы, написала карандашом на последней странице маленькой черной телефонной книжки м-ра Джимми. По стоявшему внизу аппарату ей было слышно, как наверху м-р Джимми тихим спокойным голосом сообщал кому-то по телефону о случившемся, и наконец в дверь позвонили, и в доме начали собираться друзья м-ра Джимми, по виду трезвые, с непривычно тихими на этот раз голосами. Бринда надела простую чистую белую шляпу и побежала к маме. Она знала, что мама непременно опять попытается встать с постели и приехать сюда, иначе и быть не могло. Она не ошиблась. Мама поплакала немного, а потом сказала:
– Помоги мне подняться, Бринда. Мне нужно пойти туда присмотреть, чтобы все было как надо.
В этот раз она выглядела гораздо крепче, хотя подняться ей стоило, пожалуй, больших усилий. Бринда взяла для мамы такси. Обняла за талию и почувствовала, как она похудела, кожа да кости, но до такси мама шла твердым медленным шагом и сидела там очень прямо. Когда они наконец добрались до большого, с облупившейся штукатуркой дома Креннингов, там уже битком набилось друзей м-ра Джимми, среди которых затерялись двое-трое пожилых людей, друзей, или бывших друзей, старой миссис Креннинг. Как и положено в такой ситуации, атмосфера в доме была подавленная, и гости хранили вид учтивого сочувствия, не стараясь ничего изобразить напоказ, но соблюдая освященное традицией почтение к смерти. Тут собралось немало молодых людей с местной авиабазы, но они тоже вели себя скромно, тихо разговаривали и держались с подобающей случаю сдержанностью. В руках у всех были бокалы, но никто не напивался, и, когда прибыли из похоронного бюро и на покрытых простыней носилках спустили миссис Креннинг вниз по лестнице и вынесли из дому, они хранили полное молчание, кроме одной девушки, которая, разрыдавшись, вдруг вскочила со своего места и, обхватив за плечи м-ра Джимми, с наслаждением предалась этой вспышке чувств.
Но, как только за людьми, уносившими останки его матери, захлопнулась дверь, с м-ра Джимми тотчас же слетел удрученный вид.
– О'кэй, убралась! А теперь я расскажу вам про мою маму! Тверда была, что мой кулак.
– Ах, Джимми, – взмолилась рыдавшая девушка.
Оттолкнув ее, он с такой силой ударил кулаком по журнальному столику, что его бокал, стоявший тут, свалился на пол.
– Тверже, чем мой кулак! И никогда меня никуда не пускала, ни разу за всю мою жизнь, ни разу! Тверда была, что мой кулак, все равно что мой чертов кулак на этом самом столе! Вот где правда. Но теперь убралась из этого дома и никогда не вернется. Дом теперь мой. Так вот, я принадлежал ей, принадлежал так же, как этот вот дом, и она была твердая, что мой кулак, и такая же прижимистая. Сидела на своих чертовых деньгах, точно старая клуша на стеклянных яйцах. Прижимистая была. И твердая. Что мой кулак. Я один-единственный раз и вырвался, только и было, что за всю жизнь только раз и вырвался от нее – один старый педераст прихватил меня с собой в Нью-Йорк. Там я ему надоел, и он велел мне убираться, идти на улицу, что я и сделал. Так-то, братцы!
Хотите, я вам кое-что скажу? Даже когда я вернулся сюда, у меня никогда не было собственного ключа, никогда не было своего собственного ключа от дома. Это только когда ее паралич разбил, у меня завелся собственный ключ!
После ужина она запирала дом и, если я куда пойду, дожидается тут, на этом самом стуле. А знаете, отчего у нее удар? Возвращаюсь я как-то ночью и вижу – сидит тут, дожидается, чтобы впустить меня в дом, когда я позвоню под дверью в ее дурацкий звонок. Только я не стал звонить. И не постучался. И не позвал. А просто вышиб эту чертову дверь. Вышиб дверь, а она как закричит, будто недорезанный поросенок. И когда я вошел, когда я вошел в дом через эту вот дверь, которую вышиб, она лежит на полу, на этом самом полу, в этой самой комнате, парализованная. С тех пор старуха не могла двигаться и не могла ничего сказать. Вот как ее разбил паралич. Ну а теперь глядите. Глядите, что это у меня в кармане? Видали? Вот они, эти чертовы ключики в мамин дом с лепным фасадом.
Он вытащил из кармана брюк громадную связку ключей на медном кольце, украшенном парой брелоков в виде красных игральных костей, и, позвякивая, поднял над головой.
Тут чей-то голос тихонько окликнул его:
– Мистер Джимми! – и он остановился.
Это была мама Бринды, она звала из полутемной соседней комнаты. Он чуть заметно кивнул, и его вспышка прекратилась так же внезапно, как и разразилась. Он подбросил ключи в воздух, поймал, сунул в карман и снова опустился на стул, все как будто одним движением, и в этот самый момент и, по счастью, ни минутой раньше, в дверях появился священник с женой и прежнее благочестие вновь воцарилось в гостиной, словно, поднявшись к потолку, оно просто висело там до тех нор, пока не кончилась вспышка Джимми, и тогда как ни в чем не бывало вновь опустилось вниз.
Бринда поражалась, откуда у мамы брались силы. Казалось, силы вернулись к старушке словно по волшебству, и она принялась за дело: нарезала в кухне огромное блюдо тоненьких сандвичей, сварила два кофейника кофе, перелила его в большой серебряный кофейник с ситечком, красиво накрыла в столовой, словно для званого ужина, – она знала, куда что положить, чтоб выглядело красивее; выложила и выставила все лучшее: лучшую скатерть, лучшее серебро, подсвечники с пятью рожками, даже набор полоскательниц и кружевные салфетки.
Однако м-р Джимми оставался в гостиной и все пил и пил почти до самого вечера, не обращая внимания на угощение, которое мама Бринды приготовила для тех, кто приходил выразить соболезнование. Только священник да несколько престарелых дам забрели в столовую и отведали ее угощения. Потом солнце село, и компания разошлась; удалился и м-р Джимми. Мама Бринды с сосредоточенным и строгим выражением лица, которое было чуточку темнее, чем у дочери, прилегла в подвале на койку, положив руку на бок, в том месте, где больно. Бринда посидела с ней немного, поговорили о том о сем в сгущавшихся сумерках, перескакивая с пятого на десятое, пока в маленьких окнах под потолком постепенно истаивал свет.
Разговор их совсем исчерпался, когда они услыхали, что м-р Джимми вернулся. Свет почти померк. Мама Бринды, казалось, дремала, но тут же открыла свои темные глаза, откашлялась и, обернувшись к Бринде, по-прежнему сидевшей рядом с ней, велела сходить за м-ром Джимми и привести его на минутку вниз, чтобы она могла перед уходом поговорить с ним.
Бринда передала ее просьбу м-ру Джимми, и тот ответил:
– Приведи маму, я отвезу вас домой.
Силы вновь оставили маму, и Бринде стоило большого труда подняться с ней по лестнице из подвала. Тяжело дыша, мама сидела у кухонного стола, пока м-р Джимми принимал наверху душ. Несколько раз, резко дернувшись, она падала вперед вниз головой, и Бринда ловила ее, чтобы она не свалилась. Но, когда м-р Джимми спустился вниз, мама снова собрала все силы и поднялась со стула. Они молча проехали через весь город в негритянский квартал, и чуть ли не в тот миг, когда м-р Джимми собирался уже останавливать машину у двери их дома, мама начала разговор. Она сказала:
– Во имя господне, м-р Джимми, что с вами стряслось? Что за жизнь такую вы сейчас ведете?
Он мягко ответил:
– Да, знаю. У меня не вышло в Нью-Йорке…
– И то правда, – сказала мама Бринды печально и убежденпо. – Связались с плохими людьми, вот и набрались дурного… И чего это вы забросили свое рисование?
Когда мама задала этот вопрос, Бринда испугалась. Вскоре после того, как она стала работать за маму у Креннингов, как-то утром, подавая м-ру Джимми кофе, она сказала:
– М-р Джимми, мама все спрашивает, занимаетесь ли вы после завтрака в студии, и, когда я говорю ей, что нет, очень расстраивается, и теперь я стала говорить, что да, только мне противно врать маме – по-моему, она всегда знает, когда я вру…
В то утро м-р Джимми единственный раз разозлился на Бринду, не просто разозлился – пришел в ярость. Схватил кофейник и запустил его в стену, и с тех пор в кухне, в том месте, где стеклянный кофейник ударился об стену, было коричневое пятно. Тогда он еще и выругался, а потом уронил голову и обхватил ее трясущимися руками.
Поэтому после маминого смелого вопроса Бринда ожидала чего-то ужасного, но м-р Джимми только проехал через перекресток на красный свет.
– Вы проехали на красный сигнал, – сказала мама Бринды.
– Да, разве? Ну ничего…
Путь от Креннингов до их дома был немалый, и через несколько кварталов после того, как м-р Джимми проехал на красный свет, он снова притормозил машину, и разговор возобновился.
– Кто знает, когда я сам не знаю? – сказал м-р Джимми.
– Ну так вот, – сказала мама Бринды, – если даже бросить работу, все равно нельзя ничего не делать, совсем ничего, надо же что-то делать, правда?
– Да я делаю, – сказал м-р Джимми.
– И что вы делаете?
– Ну я вечером, примерно в такое вот время, выезжаю к авиабазе. Проеду мимо, чуть подальше, и поверну назад, а на обратном пути, по дороге в город, то и дело попадаются молодые пилоты, выставляют руку – просят подвезти. И я выбираю, которого прихватить, и везу его в город. Мы приходим домой, пьем, рассказываем о себе и пьем и, может, через какое-то время становимся ну вроде друзьями, а может, и не становимся. Вот, видите, что я теперь делаю…
Приближаясь к дому, он поехал совсем медленно и, глубоко потянув в себя воздух, остановил машину прямо перед дорожкой, ведущей к веранде, и выпустил руль. И запрокинул голову назад, словно у него была перебита шея.
Мама Бринды тоже вздохнула, и голова ее не только запрокинулась назад, на подушку сиденья, но и перекатилась немножко набок. Они напоминали двух людей с перебитыми шеями, и Бринда просто сидела и с неразумным терпением собаки ждала, когда они оживут снова.
Потом наконец м-р Джимми опять вздохнул, долго втягивая воздух, вышел, пошатываясь, из машины и обогнул ее, чтобы, словно для двух белых леди, открыть им дверцу.
Он не только помог маме Бринды выйти из машины, но и, крепко держа ее, повел по дорожке к дому. Она, наверное, упала бы без него, Но Бринда чувствовала, что тут не просто физическая помощь одного человека другому. И когда они поднялись по ступенькам, м-р Джимми опять не ушел от них. Он вновь потянул в себя воздух, громко, как и два раза до этого. Последовала долгая, исполненная сомнений и колебаний пауза, которая показалась Бринде неловкой и тревожной, но ни мама, ни м-р Джимми никакой неловкости не испытывали. Словно для них это было привычным делом, и они все время знали, что так и будет. Они стояли на верхних ступеньках лестницы, которая вела на веранду, и было непонятно, собираются они расстаться или еще побыть вместе.
Они напоминали людей, которые сначала поссорились, а теперь помирились, но не потому, что пришли к согласию, а потому, что оба поняли какую-то грустную неизбежную истину, и это сблизило их, даже если они и расстроены оттого, что примирение невозможно.
– М-р Джимми, – сказала мама Бринды, – присядьте. Посидите с нами немножко.
И он послушал ее. На веранде стояло два стула-качалки. Бринда села на ступеньки. М-р Джимми качался, а мама Бринды сидела спокойно.
Немного погодя мама Бринды сказала:
– М-р Джимми, что вы собираетесь теперь делать?
– Я не строю никаких планов, просто живу да живу…
– И как долго вы собираетесь так жить?
– А сколько удастся. Пока что-нибудь не вынудит меня остановиться, я полагаю.
Как будто внутренне взвешивая, сколько времени может на это понадобиться, мама Бринды кивнула и погрузилась в молчание. Молчание длилось так долго, что она могла бы найти решение этой задачи, потом она встала.
Я умираю, – сказала она с таким спокойствием, словно сообщала о том, что сейчас войдет в темный дом. М-р Джимми встал, будто это поднялась белая леди, и сетку, которой была затянута дверь, перед ней подержал пока она отпирала замок.
Бринда двинулась было за ней, но мама преградила ей путь.
– А ты ступай к Креннингам, ступай сегодня назад и прибери там весь беспорядок в доме, и вы двое оставайтесь там вместе и смотрите друг за другом. И ты, Бринда, не допускай, чтобы белые парни привязывались к тебе, а как услышишь, что они идут, ступай вниз, в подвал, запрись на ключ и оставайся там до света, если только тебя не позовет м-р Джимми, а если позовет, тогда иди к нему и узнай, что ему нужно.
Потом она обернулась к м-ру Джимми и сказала:
– Я думала, что у белых, таких, как вы, есть хоть какой-то шанс в этом мире!
Потом она закрыла и заперла дверь. Бринда поверить не могла, что мама оставила ее на улице, но это было так. Бринда так и осталась бы там, бессмысленно поджидая у запертой двери, но м-р Джимми нежно взял ее за руку и повел к машине. Он открыл для нее заднюю дверцу, словно она была белой леди. Она села в машину, и, возвращаясь домой, м-р Джимми все время безмятежно ехал на красный свет, будто дальтоник. Он ехал домой быстро, прямой дорогой, и, когда они подъехали к дому Креннингов, Бринда заметила внизу, в нижнем холле, мягкий свет, и, казалось, свет этот говорил то, чего никто, измочалив так много слов, так и не смог выразить за весь день: у бога, как и у всех людей, две руки: одна – чтоб карать, другая – чтоб утешать и лелеять.
Перевод М. Кореневой








