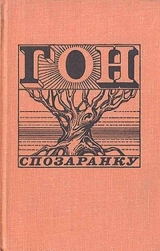
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
И ты от злости заплакала. Да, мама, ты не остановишься ни перед чем, не пожалеешь никого, мы всегда это чувствовали, а сегодня воочию убедились. Я смотрела на тебя, на прозрачные, как вода, слезы, льющиеся по твоему лицу, смотрела на Миранду – ее лицо было безобразно, слезы точно протравливали в ее коже канавки – и снова на тебя, на мою сестру, опять на тебя, слушала вашу брань, и у меня было ощущение, что все мы, сами того не подозревая, играем сцену из какой-то пьесы, которую кто-то выбрал за нас, и отказаться от наших ролей нам нельзя. И я неожиданно сказала:
– Не решайте ничего сейчас. Подождите до утра.
Вы обе повернулись ко мне.
– Большая у нее задержка? Сколько дней? Месяц?! – кричала ты. – Но ведь риск с каждой неделей растет! Ты совершенно не знаешь жизни, витаешь в облаках!
– Почему ты решила, что я буду делать аборт? – спросила Миранда.
– Вы послушайте ее! Вы поглядите на нее, на эту уродину, на эти ее идиотские патлы – индианка, настоящая индианка, тебе место в вигваме, а не в моей квартире!
Если бы не Мирандины поднятые колени – она откинулась на кушетке, словно желая защитить себя, – ты бы, наверное, бросилась на нее, вцепилась в эти ненавистные длинные волосы и стала их выдирать.
– Я не уродина. Я была уродина, но сейчас я больше не уродина. Я не похожа на тебя и всех прочих в этой семье. Нет, я не уродина, – спокойно сказала Миранда.
Миранда, моя сестра, родившаяся со мной в один день, подруга, с которой я играла все мое детство, – такая же, как я, хрупкая девочка с нежным, прозрачным личиком, но мало тогда похожая на меня, – сейчас с ненавистью меня отталкивала, потому что мне, как и ей, жизнь дала ты. Впрочем, ко мне она не чувствовала ненависти, зла или гнева. Ты отняла у нас весь наш гнев. Отняла силу жизни, оставив лишь худое, как у школьниц, тело, тонкие голенастые ноги, плоскую грудь. Да, мы хорошенькие, но наша миловидность так заурядна. Мы на сцене, но где-то на заднем плане, а в центре ее – ты, все прожекторы направлены на тебя, на твои рассекающие воздух руки, на твою ослепительную улыбку, на твои изумительные голубые глаза, которые, кажется, вот-вот начнут косить…
Однажды, когда ты в окружении своих экстравагантных друзей входила днем в какой-то ресторан в центре, только что вышедший оттуда мужчина сказал своему спутнику, я ясно слышала: «О господи, ты погляди на нее! Неужто это все настоящее?» Ты в это время весила на десять фунтов больше положенного и вся вываливалась из узкого красного платья, волосы были уложены в высочайшую пирамиду по тогдашней моде, колени чуть не прорывали обтягивающую юбку, ноги были втиснуты в крошечные остроносые туфельки на тонюсеньких шпильках.
– О-ой, – простонал другой, но это был не стон отвращения, а просто естественный вырвавшийся звук.
– О-ой, так ведь это Мадлен Ранделл… Мадлен Ранделл, ты знаешь.
Мадлен Ранделл. Мы знаем.
Ты метнула в сторону этих мужчин взгляд, исполненный торжествующей гордости и омерзения, – лицо у тебя было таким белым от грима, что напоминало дорожный знак-отражатель на шоссе, обведенные фиолетовым контуром губы покрыты красной, как кровь, помадой, – мгновенно оценила их и отшвырнула прочь, царственная, недосягаемая для обыкновенных мужчин, удостаивающая их лишь своим презрением да своим примитивным, смехотворным кокетством. Ты так примитивна и смехотворна, мама, по-моему, люди должны смеяться при виде тебя. Почему они не смеются? Вот и эти мужчины испуганно глядели на тебя, а ты и твои весело смеющиеся друзья впорхнули в ресторан. Я тогда подумала, что ты, наверное, сошла с ума: появляться на улице в таком платье, смотреть на людей таким взглядом, кривить губы в такой оскорбительной усмешке, дразнить их своим телом!
Ты всегда дразнила нас, мама.
Ты листаешь сценарий, роняя на страницы пепел от сигареты… кто-то поправляет на тебе платье… По полу тянутся толстые резиновые кабели. Вокруг тебя камеры, которые ты никогда не снисходишь заметить. Твоя грудь делается влажной от пота. Тебя охватывает необычайное волнение. Сейчас ты перевоплотишься.
Здесь, в Нью-Йорке, я по-прежнему Мэрион Ранделл, одна из твоих дочерей-близнецов, – ты, там, в Голливуде, уже не моя мать, ты совсем другая женщина, врач – так тебе, кажется, положено по сценарию? Боже мой, до чего это смешно! Ты – врач! Ты одна спасешь целый мексиканский город от чумы! Итак, ты не Мадлен. Мадлен больше не существует, существует кто-то другой, и стать этим другим существом, этой нелепой врачихой помогают тебе те, кто на тебя смотрит, кто тобой восхищается, обожает тебя и завидует тебе: твои зрители дают тебе силу самоуничтожиться, перестать быть собой. Ты возрождаешься в новом обличье. Тебя наполняет волнение, радость, обо всем прочем ты забыла, в твоих жилах течет кровь другого человека! Критики и не знают, какая ты великолепная актриса.
– Ваша мать пародия. Как такая пародия может существовать? – сказала однажды нам с Мирандой наша школьная подруга.
– У вашей матери нет таланта. Ваша мать – преступница, – сказал нам кто-то из твоих бывших любовников на шумном сборище в нашей квартире – кажется, это был швед, с которым ты сошлась после пластического хирурга Нильса и перед Питером.
– У вашей матери редкостный комический дар, только он заметен, когда она играет серьезные роли, – сказала нам твоя приятельница-актриса, разоткровенничавшись под действием наркотиков или вина, а может быть, и того и другого вместе.
– Ваша мать не женщина, – сказал отец.
Но все они не понимали, как не понимают и, вероятно, никогда не поймут театральные критики, что ты обладаешь поразительным талантом выворачивать себя наизнанку, неважно, кто ты – женщина или не женщина. А я это всегда понимала. И Миранда тоже. Этот талант и есть разгадка твоего профессионального успеха: сейчас, когда в твоей жизни, может быть, уже разразилась катастрофа, ты спряталась от нее в другого человека.
Я, запыхавшись, вбегаю к Питеру в кабинет. Питер сегодня почти в форме; загар его словно бы вылинял и похож на неровно положенный грим, улыбка вымученная, по он ничего, нет, нет, он вполне ничего.
– Миранда? Нет, я ее не видел. Я ее уже две недели не видел, – говорит он. – Что-нибудь случилось?
– Она сегодня ночью ушла из дому. Мамы тоже нет, она в Голливуде… у них произошла ужасная ссора, такой еще никогда не было… я подумала, может быть, она у тебя.
Питер молчит. Он сильно взволнован. За его спиной тревожно гудит кондиционер, точно волнение Питера передалось и ему.
– Но ведь мы с твоей сестрой… ты же знаешь, мы расстались…
– Она тебе не звонила?
– Нет.
– Что же делать? Где ее искать?
– Из-за чего они поссорились? Из-за меня?
– Да, из-за тебя тоже, но была еще причина… еще одна причина… ты, наверное, знаешь.
Мы снова молчим. Питер медленно идет по кабинету. Натыкается на угол письменного стола.
– Нет, я ничего не знаю… О чем ты говоришь? – спрашивает он.
– Она не хочет идти к врачу. Не хочет делать анализы.
– Какие анализы?
– Ты знаешь какие.
Я дрожу от волнения и стыда. В этой сцене признания я сейчас дублерша Миранды.
– Она… беременна? – шепотом спрашивает Питер.
– Она не хочет пойти к врачу провериться.
Он ошеломленно смотрит на меня. Что ему делать? Но думает он, наверное, о тебе, мама, не о Миранде, а о тебе: Мадлен будет мстить, – он боится твоего гнева! Из всех любовников, какие у тебя были, Питер был самый умный, и никто никогда не узнает, почему ты прогнала его, мама. Ты сделала это в Аспене утром, за завтраком. Безо всякой причины, просто так. И он, как Нильс и Тони Хант, потеряв, но продолжая любить тебя, кинулся к нам с Мирандой. Твои отвергнутые любовники всегда цепляются за нас, ухаживают сначала за Мирандой, потом за мной или наоборот, как получится.
– Она уверена, что беременна? – спрашивает Питер.
– Она не хочет об этом говорить. Мне кажется, ей все равно. А вот маме не все равно.
– С ума сойти…
Обоим нам ужасно неловко. Сколько-то времени назад Питер пришел ко мне, взял за руки и сказал, что любит меня и хочет на мне жениться. Мне тогда было шестнадцать лет, я еще училась в школе. Через неделю он уже звонил Миранде. Полгода они всюду бывали вместе, скрывая от тебя свою циничную тайну, тайну то ли в шутку, то ли всерьез, хотя ты, конечно, знала, что он и она… Неужели ты в самом деле не знала? Не может быть, кто-нибудь рассказал тебе о них! Но в один прекрасный день ты узнала или сделала вид, что узнала, и удивилась или сделала вид, что удивилась: как, двое близких тебе людей, живущих в твоей тени, вдруг бросили тебе вызов, – в какую ярость это тебя привело!
– Значит, ты не знаешь, где она?
– Боюсь, что нет. Она очень расстроилась?
– Очень. Наверное, надо сообщить в полицию.
– А Мадлен в Голливуде?
– Она в понедельник вернется.
– Может быть, Миранда просто хочет нас испугать, ты не думаешь?
– Испугать? Чем испугать?
Питера охватывает сильное волнение. Загар его темнеет.
– Я… я понял, что она… угрожала самоубийством…
– Да…
Мы в растерянности смотрим друг на друга. Гудит кондиционер. Голова кружится, меня захлестывает дурнота. И вдруг мелькает мысль: «Какие мужчины слабые, ничтожные».
– Она тебе это тоже говорила? Что убьет себя? – спрашиваю его я.
– Да, говорила раза два, но не серьезно, она была просто возбуждена тогда…
– Что именно она говорила?
– Я не помню.
– Неужели… неужели она действительно об этом говорила? Что именно она сказала?
– Мэрион, я не помню. Когда вернется Мадлен?
– В понедельник.
– Она тебе уже звонила?
– Нет.
– Когда она улетела? Сегодня утром?
– Да.
– Как ты думаешь, может быть… ты мне дашь ее телефон?
Он все еще любит тебя, мама! Боже мой! Ты выгнала его, забыла, что он существует на свете, а он, этот умный сорокадвухлетний мужчина, этот мягкий, порядочный и серьезный человек, который проводит половину своей жизни в Коннектикуте, где у него жена и трое детей, который сделал ребенка твоей дочери, он любит тебя, он все еще любит тебя! Мужчины и в самом деле ничтожные, теперь я это знаю, их можно только презирать и жалеть, эту толпу, способную лишь пресмыкаться перед такой женщиной, как ты…
– Я не могу дать тебе ее телефон. Ты же знаешь.
Мы смотрим друг на друга. Нам мучительно стыдно.
– Прости, – говорит он, – по что я могу сделать? Я люблю Миранду, ты знаешь, я готов сделать все для нее, для твоей мамы и для тебя, поверь мне, но что я могу? Друзей ее я не знаю. Люди, с которыми она сейчас проводит время, все эти извращенцы и наркоманы, смеялись надо мной, я не мог с ними сблизиться. Они не приняли меня, а она предпочла их.
Я оглядываю комнату… где моя сумочка? Мне пора идти. Нет, я без сумочки, наверное, она дома, я выбежала без нее. И все-таки я продолжаю оглядывать пол, светлый песочный ковер, смотрю под стульями… что я потеряла, что мне нужно найти?
– Куда ты сейчас?
– У меня в два урок музыки…
– Но что ты все-таки думаешь делать? Относительно Миранды…
– Не знаю.
– Будешь звонить в полицию?
– Не знаю.
– Может быть, подождать? До завтра?
– Хорошо, Питер. Я подожду.
Он идет со мной к двери. По ту сторону этой двери сидит его секретарша, когда мы выйдем в ее комнату, все между нами должно быть по-другому. Он это понимает, и сейчас, перед дверью, в последнюю минуту, берет меня за руки – отец, возлюбленный, бывший любовник?
– Мэрион, прошу тебя, будь осторожна. У тебя такой потерянный вид. Все будет хорошо, я уверен.
– Твоя жена ничего не узнает, Питер, – говорю я.
Мои слова не оскорбляют его. Я думала, он оскорбится, но он не оскорбился. Он медленно, важно наклоняет голову. Слегка пристыженно. Что ж, ему ведь сорок два года, а Миранде семнадцать.
– Как только что-нибудь узнаешь, звони мне, – говорит он.
Казалось бы, все, на этом Питер кончился, но ничего подобного, он появится опять. Я-то знаю. Люди входят друг к другу в жизнь и мучают друг друга, расходятся и снова возвращаются; люди, родившиеся в одной семье, никуда не могут от нее уйти. Они впиваются друг в друга мертвой хваткой, терзают и когтят. Семья. Отец. Мать. Сестры-близнецы. Семья – это самая большая тайна, большая, чем любовь и смерть. Я не видела своего отца шесть лет, но я каждый день о нем думаю, и он думает о нас с Мирандой каждый день. Он живет в Миннеаполисе, а мы в Нью-Йорке. Мы никогда не жили с ним под одной крышей. Но все равно мы чувствуем, что он рядом, даже когда не думаем о нем, и никуда нам друг от друга не скрыться. Дочери, отцы. Отец значил для тебя не больше всех остальных, мама, – случайный знакомый, вдруг почему-то ставший мужем и через четыре месяца брошенный. Ты восхищалась его воспитанием и выдержкой, – потом ты со своими друзьями смеялась над его воспитанием и выдержкой. Он стал для вас посмешищем. Над всеми, кого ты любила, ты потом во всеуслышание глумилась, мама, и обращала их в посмешище. Ты обладаешь удивительной способностью обращать в посмешище все и вся.
Но ведь больше всех осмеяния заслуживаешь ты, мама. Мы пытались не принимать тебя всерьез. Мечтали во сне и наяву убежать от тебя, хлопнуть дверью и навсегда порвать с тобой… Нет, мы не уйдем от тебя, и ты не уйдешь от нас, все останется как было. Мы с Мирандой, ненавидя друг друга, чувствуем, что связаны такой нерасторжимой связью, будто нас все еще омывает один и тот же теплый ток крови в твоей утробе и наши сердца, наши члены едва начинают медленно, нехотя отделиться друг от друга… крошечная искра жизни, зародыш, два зародыша, два головастика, две рыбы, два млекопитающих, две дочери – дочери Мадлен Ранделл…
Начинается съемка. Никогда еще ты не испытывала такого подъема, это твой звездный час. Каким прекрасным кажется тебе мир! А я бреду по Плазе мимо фонтана – одна из двух сестер-близнецов, девушка, выбежавшая из дому без сумочки. У меня еще целый час. Фонтан привлекает мое внимание, я начинаю его рассматривать. Вот маленькие отверстия, из которых бьет вода. Влезть бы в воду и смыть с себя эти мысли, весь этот ужас. Если бы я могла перевоплотиться в кого-то, как это делаешь ты, мама, или одурманиться наркотиками, как Миранда, мне не пришлось бы держать столько всего в памяти. Вода серебрится на солнце – странный у него сегодня свет, словно бы маслянистый, это оттого, что воздух так грязен. Кажется, в небе вот-вот встанет радуга… Я гляжу на воду, и мне приходит в голову мысль, в которой нельзя никому признаться. Но я признаюсь, потому что хочу, чтобы ты знала все:
Если Миранда убьет себя, у тебя останется только одна дочь – я.
Ты говоришь, говоришь, говоришь. Люди в изумлении смотрят на тебя. Их изумляют твоя энергия, твое гладкое лицо, твой не знающий усталости голос. Тебя снимут в телевизионном фильме, который ты даже не станешь смотреть. Мы с Мирандой раньше смотрели все твои выступления, смотрели, леденея от ужаса, что вот сейчас ты опозоришься. Но ты так по-настоящему и не опозорилась. Ни разу. Мы ходили в театр на один из самых твоих нашумевших спектаклей – двенадцатилетние сестры-двойняшки в шубках и шапочках из леопардового меха, ты в середине, мы по бокам, так нас и сфотографировали для «Харперс базар». Да, ты имела в этой пьесе огромный успех: «Трое за чашкой чаю», там действовали экспансивная любовница шпиона-миллионера, араб-авантюрист, русский дипломат и так далее. Нам запомнилось только, как ты расхаживала вдоль рампы, демонстрируя всем зрителям от первого ряда до последнего свое тело, при виде которого все обыкновенные люди начинают стыдиться себя. Нас с Мирандой было в ту пору трудно отличить друг от друга: у обоих одинаковое тело, одинаковый вес…
Идет урок музыки, я сижу, болезненно сжавшись, за роялем, а у тебя в телестудии продолжается съемка. Как профессионально ты ведешь свою роль! Все в тебе профессионально, все на продажу. Ты почти не ошибаешься. Я, спотыкаясь на каждой ноте, играю Моцарта. Я столько времени разучивала эту фантазию, она так свободно и легко получается у меня дома, но здесь, под взглядом моего старого учителя-венгра, эмигранта с ярким прошлым, я без конца мажу, пальцы у меня холодные, чужие, вещь погибла. Глубоко же во мне сидит ненависть к успеху! Я вечная дочь. Миранда тоже неудачница. Сколько лет она занималась живописью, и все напрасно. Я училась играть на скрипке, и тоже все напрасно. Обе мы занимались в балетной студии. Обе мы брали уроки актерского мастерства. Сейчас я снова вернулась к фортепьяно, а Миранда, до того как с ней случилось это несчастье, баловалась в Гринвич-Виллидж обжигом керамики и ювелирным ремеслом – все-таки занятие. Нам нужно поступать в университет, но ведь это отсрочит приход нашей «славы» на четыре года. Я все еще мечтаю увидеть когда-нибудь афиши, возвещающие о моем первом сольном концерте, о моем скромном, но блистательном дебюте… но сейчас, в этой душной, затхлой квартире без кондиционеров, я сажаю одну ошибку за другой, я забываю пятьсот раз игранную вещь. Ноты не слова, которые ты с такой легкостью запоминаешь, мама. Я ничего не могу запомнить. Ноты не подчиняются мне, как тебе подчиняются слова, по которым ты скользишь, точно богиня по волнам.
– Стоп. Начните еще раз отсюда.
Я останавливаюсь. Начинаю еще раз.
– Это очень… как это… суетливо – у вас есть такое слово «суетливо», да? Будто мышка бегает… это неправильно, это очень нервно слушать.
– Урок кончается. Я свободна, а времени всего три часа дня. Джонни еще не ушла, убирает квартиру. Я оставила ей твой бархатный костюм отнести в чистку, ты о нем забыла. Я бреду домой. Вот ресторан, в который ты тогда входила… стройка… удары пневматического молота отдаются у меня в мозгу… какое мучение весь этот шум, эти люди… В витрине антикварного магазина я вижу свое отражение: бледное, нежное лицо, нежное, как тело живущего в раковине моллюска. Бр-р, какие омерзительные существа живут иногда в раковинах! Я должна позвонить тебе, мама, вызвать тебя домой. Должна позвонить в полицию. Разыскать людей, с которыми в последнее время бывала Миранда… но даже если я и слышала их имена когда-то, сейчас мне их не вспомнить, и, значит, сделать я ничего не могу. Я беспомощна.
Из дорогого ресторана несутся запахи – чеснок, бараний жир. Я сегодня забыла поесть, после китайского рагу, которым мы вчера ужинали (его принесли в прорвавшемся пакете), у меня не было во рту ни крошки. Матери наших подруг всегда старались накормить нас, их пугала наша плоская грудь и худые ноги. Матери наших подруг всегда-всегда старались накормить и их, своих дочерей. Наверное, это естественно, чтобы матери хотелось накормить своих дочерей. Но в нашем доме почти никогда ничего не готовят. Тебе некогда. В нашей огромной безобразной кухне, по которой беспрепятственно гуляют сквозняки, можно найти лишь вчерашнюю кашу из концентратов, прокисшее молоко, подгоревшие гренки, – мы соскребаем с них черноту прямо в раковину. При всех твоих миллионах мы никогда не могли купить приличного тостера. Тебе некогда подумать о новом холодильнике, о новой плите, мы живем в нашем продуваемом ветрами аристократическом жилище среди старого, безобразного хлама, и это дает нам право обмениваться горестно-сочувственными репликам с женами миллионеров, с которыми мы встречаемся в судорожно дергающемся лифте, жаловаться на владельца дома, качать головой. Бедные жители Нью-Йорка, жертвы вечных домовладельцев, мы так беспомощны в наших норковых и леопардовых манто, мы придавлены прокопченным небом, оглушены воем сирен… «Больше я нигде не могу жить», – всегда говорила ты о нашей квартире своим звучным, властным голосом. Никто тебе не возражал.
Я бреду домой. До дому пятнадцать кварталов. День очень жаркий, душный. Меня подташнивает от плывущих по улице запахов еды, бензина. Возле входа в парк продают с лотка бутерброды с горячими сосисками. Жареные кукурузные зерна. Мороженое в шоколаде. При виде орехов, которыми мороженое посыпано сверху, меня охватывает острый приступ голода и тошноты, и я с гневом думаю: «Почему ты меня не кормишь? Почему ты уехала, не покормив меня?» И вдруг вспоминаю то утро в Аспене, завтрак в просторном, полном воздуха и солнечного света ресторане высоко в горах. С нами Питер, мы прилетели сюда вчетвером на субботу и воскресенье покататься на лыжах. В то утро я узнала, что ты представляешь собой как женщина, мама. Перед тобой стояло яйцо всмятку, ты доставала желток кусочком поджаренного хлеба и одновременно разделывалась с Питером. Заранее ты решила расстаться с ним или тебя осенило только сейчас? Не знаю, ты вышвырнула его вон, и все. А мы-то с Мирандой надеялись, что Питер станет твоим следующим мужем, твоим последним мужем, мужем навсегда. Мы его обожали. И вдруг:
– Я, пожалуй, не буду кататься на лыжах. Я займусь кроссвордами. Мне сегодня не хочется выходить. Возьми с собой девочек, Питер, и ради бога не висни на мне… не выношу, когда ко мне прикасаются. – В твоих глазах сверкнуло так поразившее нас бешенство, и ты начала шептать Питеру, не обращая на нас внимания: – Я не выношу тебя! Все, конец, уходи! Не прерывай меня, возвращайся домой! Возвращайся к жене. Я сегодня буду решать кроссворды. Мне нужно привести свои мысли в порядок. Я не могу сейчас с тобой разговаривать, мне некогда, через десять минут я должна звонить… Ладно, я скажу тебе все! Я с тобой ничего не чувствую. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты меня не удовлетворяешь. Я старалась, но ничего не вышло, полное фиаско, давай все это забудем… и вообще, если хочешь знать правду, мужчины меня мало интересуют, это моя тайна, мое фиаско, о котором никто не знает… Почему женщины влюбляются в мужчин, не понимаю. Наверное, это прививается культурой. Детерминизм культуры. Я читала, что культура и наследственность – основные детерминанты женщин. Но я ничего не могу поделать – я с мужчинами почти ничего не чувствую. И никогда не чувствовала. Может быть, я прилагаю недостаточно усилий, может быть, женщина должна вся на этом сосредоточиться – не знаю, лично мне некогда. У меня слишком много других забот. Может быть, женщины, которым больше нечего делать, и способны лежать в объятиях мужчин часами и забывать обо всем на свете, а я актриса, я посвятила себя сцене, мое время расписано по минутам, у меня другие заботы, и я не собираюсь ни у кого просить прощения, что я такая, а не иная…
Ты сказала все это однажды утром, за завтраком.
Твой трудовой день кончился. Он был нелегкий, этот день. Тебя ждет ванна, потом коктейли, потом обед. Декорации меняются, меняется музыкальное сопровождение. Ты стоишь босиком в своем номере. На тебе плотно обтягивающее желтое шелковое платье. Ты на несколько минут осталась одна. Ты включаешь телевизор – здесь, в нашей квартире, я тоже включаю телевизор, и обе мы, слегка волнуясь, ждем передачи новостей. Реклама, которую смотришь ты, демонстрирует автомобиль новой марки – «скорпион», он мчится, бешено кренясь, по песчаным дюнам, за рулем сидит очаровательная блондинка с длинными развевающимися волосами; реклама, которую смотрю я, демонстрирует шампунь, девушка моет им волосы, и ее покрытая сверкающей мыльной пеной голова делается похожей на зловещую голову Медузы. Мы ждем, когда начнется передача новостей. В Южной Калифорнии небольшое землетрясение. У нас, в Нью-Йорке, беспорядки на улицах Гарлема. Начало работу внеочередное заседание сессии ООН. У губернатора одного из штатов на Среднем Западе похитили трехлетнюю дочь. И вдруг ты в испуге выключаешь телевизор. Чего ты испугалась?.. Я, точно загипнотизированная, смотрю снятую сегодня хронику: после аварии в энергосети из метро выводят оцепеневших от пережитого ужаса людей. На их лицах печать мудрости: они постигли страх, им приоткрылась тайна города, в котором они живут.
В этом городе смерть Миранды будет не так трудно пережить.
Ты, как Медуза, гипнотизировала нас. Ты ходила по комнатам этой квартиры обнаженная, обнаженная учила роль, мыла свои неправдоподобные, обесцвеченные перекисью волосы, звонила по телефону. Разве дочерям положено видеть свою мать обнаженной? Мы с Мирандой, пугаясь и стыдясь, всегда от тебя отворачивались. Нет, мы не хотели стать такими, как ты. Зачем нам было смотреть на тебя? Ты ничего не могла рассказать нам о нас самих. Когда ты вышла к нам однажды с замотанным вокруг головы полотенцем, в мокрой грязной рубашке и со сбритыми бровями и Миранда при виде тебя заплакала, я поняла, что мы ничему не сможем у тебя научиться… «Она извращенка! Извращенка!» – закричала Миранда.
В твоем номере звонит телефон – нужные тебе люди. Здесь тоже звонит телефон – спрашивают тебя, допытываются, где ты, сожалеют. «Она будет в понедельник», – говорю я. Ты готова к выходу – бюст втиснут туда, где ему положено быть, в ушах тяжелые хрустальные подвески, на веки положены бирюзовые тени, два ряда искусственных золотых ресниц на верхних веках, один на нижних – словно лучи звезд, такие металлические на вид, божественно ненастоящие. Губы обведены алым контуром, но покрыты слоем бледно-персиковой, почти бронзовой помады, блестящей и бархатистой. Изумительно. Твое лицо кажется лицом мертвой, но смерть тебе идет. Ты стоишь у двери, и в эту минуту звонит телефон, но ты выходишь из комнаты, болтая о чем-то с людьми, которые пришли за тобой, тебе не хочется возвращаться и брать трубку. Здесь тоже звонит телефон – я снимаю трубку и сразу догадываюсь, что это о Миранде – почтительное молчание, заминка, по-профессиональному осторожный вопрос: «Это квартира Мадлен Ранделл?»
Тебе никак не удается пристегнуть ремни. Ты выпила слишком много джина. Самолет кренится в развороте, и ты с надеждой думаешь о смерти – рев падения, удар, фотографии в газетах… напрасные мечты, полет проходит идеально, пассажирам ничего не грозит. Самолет благополучно приземляется. Ты с трудом поднимаешься, точно огромный обвисший шар, из которого выпустили почти весь воздух. Ты плакала? На твоем залитом слезами лице не видно следов горя, но ведь ты сейчас не в роли скорбящей матери, ты – скорбящая мать, и лицедействовать нет нужды.
Я встречаю тебя. Одна. Мэрион, девочка со страдальчески нахмуренным лбом, странно бесплотная, словно отражение в зеркале, сестра без своей единственной сестры. Меня со всех сторон толкают. В аэропорту царит нервозность. Неужели людям кажется, что на них упадет самолет? Газетные заголовки сообщают сенсационные новости: на жизнь президента совершено покушение, в Тихом океане произошла серия загадочных ядерных взрывов… Заголовки, заголовки, заголовки во всех киосках, они сбивают нас с толку, вселяют тревогу; мы кружим толпой по огромному, как город, аэровокзалу, ожидая, когда нас отправят куда-то или когда прибудут те, кого мы встречаем, мы сами не знаем, чего мы хотим, и всех нас гложет тревога. Но твой самолет благополучно приземляется. Люди с облегчением вздыхают. Что, неужели была опасность? Неужели она есть всегда? Самолет подруливает к площадке и останавливается… подводят трап… Я еще оглушена вчерашним визитом в больницу к Миранде, но где-то в глубине шевелится прежнее волнение, я с замиранием думаю: «Узнают ли ее? Поцелует она меня или нет? Поймут ли, что я ее дочь?»
Дверь открывается, выходят первые пассажиры. Я устремляюсь вперед, напряженно всматриваясь. Я должна видеть все. Где же ты? Первые трое пассажиров мужчины, за ними маленькая девочка с матерью. Еще одна женщина, не ты. За ней… за ней появляешься ты. Да, это ты, Мадлен Ранделл. Но тебя трудно узнать, ты совсем не похожа… ты стоишь у двери, точно боясь ступить за нее…
Твои плечи согнуты. Ты глядишь на нас, на толпу тех, кто встречает. Я машу тебе, но ты меня не замечаешь. Наверное, солнечный свет ослепил тебя, ты щуришься без темных очков… Я издали вижу боль на твоем лице. Оно слишком бледно, это лицо. Слишком много на нем косметики. Твои белокурые волосы в беспорядке, прическа смята. Твое тело – это тело пожилой женщины, сейчас я это вижу. Все в толпе это видят. Ты медлишь еще минуту и наконец ступаешь на трап… ты спускаешься по ступенькам, держась за перила, точно боишься упасть. Если ты упадешь, тебя поймают равнодушные руки стоящего внизу человека в форме, который не узнаёт тебя. Никто не узнаёт тебя.
Я бегу к тебе сквозь толпу. Сейчас я возьму тебя за руку. Вдруг чья-то спина заслоняет тебя, я бросаюсь в сторону, но тебя уже не видно… где же ты? Тебя нигде нет! Какая-то блондинка торопливо идет к воротам, но эта блондинка не ты. Это какая-то незнакомая женщина со светлыми волосами и бледным приятным лицом – это не твое лицо! Это не ты, не ты! Я жадно смотрю на нее, мне трудно расстаться с ней. И все-таки это не ты, кто-то другой встречает ее, целует в напудренную щеку, берет под руку…
Вот теперь у выхода показалась ты. Сомнения нет, это ты. Ты стоишь в дверях самолета, будто в рамке кадра, на тебе серый костюм, приличествующий встревоженной, но не убитой горем матери, очень короткая юбка, огромные солнечные очки. На голове у тебя что-то серебристо-серое, похожее на тюрбан. Да, это действительно Мадлен Ранделл. Не такой я ожидала тебя увидеть… Не знаю, смотришь ты на меня или нет, но направляешься ты прямо ко мне, ты идешь очень быстро, в руках у тебя белый чемоданчик, и люди при виде тебя расступаются, смутно узнавая, восхищаясь, досадуя на твое выражение взволнованной, трагически-значительной скорби. Скорбь на твоем лице – будто огонь маяка, будто свет рекламы, она слишком ярка для наших глаз. Она покажется слишком яркой и в больничной палате, где лежит бессловесная, одурманенная огромным количеством таблеток Миранда… Сейчас ты подойдешь ко мне, осталось несколько шагов, и в эту последнюю минуту я закрываю лицо руками и плачу. Нет, ты слишком сильна для меня, твое лицо слишком ярко!
Ты отводишь мою руку своей сильной рукой без перчатки. «Мэрион!» – говоришь ты. Это приказ, которого немыслимо ослушаться. Ты вернулась.
Перевод Ю. Жуковой








