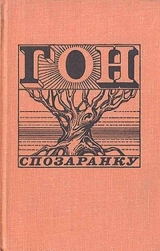
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Джойс Кэрол Оутс
У РЕКИ

Элен подумала: «Влюблена я снова, что ли, как-то по-новому влюблена? Может, оттого меня и принесло сюда?»
Она сидела в зале ожидания автобусной компании «Йеллоу Лайнс». Она знала большое старое помещение с его грязным кафельным полом, с сиротливой телефонной будкой в углу, автоматом с леденцами, автоматом с сигаретами, автоматом с воздушной кукурузой. Хотя она отсутствовала четыре месяца, ничто не изменилось здесь, даже пожилая кассирша с крашеными рыжими волосами за тем же самым прилавком, продававшая тут билеты, сколько Элен себя помнила. Много лет назад, еще до своего замужества, Элен приезжала иногда в город с подружками, в машине отца какой-нибудь из них: нагулявшись вдоволь по городу, они обычно шли на станцию посмотреть на приезжих. Им не терпелось увидеть, кто сойдет с автобуса, но мало кто из пассажиров оставался в Орискани – они бывали здесь лишь проездом и выходили только затем, чтобы размяться и чего-нибудь выпить, и по их лицам видно было, что они не слишком-то высокого мнения о городе; не слишком высокого мнения были они и о деревенских девочках, толпившихся в пестрых платьицах вблизи автобусной остановки и в своем простодушии застенчиво улыбавшихся незнакомым людям. Их учили быть вежливыми, улыбаться первыми, а то ведь никогда не известно, на кого напорешься. Итак, Элен снова была в Орискани, только на этот раз она сама приехала сюда на автобусе. Ехала от самого города Дерби одна, совершенно одна, и теперь дожидалась отца, который должен забрать ее домой, чтобы она могла вернуться к прежней жизни и угомониться.
Было жарко. Всюду ползали сонные мухи. Какая-то женщина с хилым ребенком на руках непрестанно от них отмахивалась. Старуха, продававшая билеты, неотрывно смотрела на Элен, будто не в силах отвести от нее глаз, будто знала все сплетни, ходившие о ней в округе, и хотела, чтобы Элен о том знала. У Элен выступил на лбу пот, и она вскочила с места, чтобы уйти от старухиного сверлящего взгляда. Она направилась к автомату с леденцами, но на конфеты даже не взглянула: она посмотрелась в зеркало. Собственное отражение всегда ее утешало. Чем бы ни была занята ее голова, а сейчас она очень беспокоилась по одному поводу, – это ничуть не отражалось на ее внешности, не касалось ее гладкой нежной кожи с едва намечающимися веснушками на носу и на лбу, прохладной безгрешной зелени ее глаз, она была самая обыкновенная деревенская девчонка, и любой горожанин, даже не зная ее, определил бы это с первого взгляда, вот, мол, одна из тех милых, приветливых девчушек, которые вечно напевают что-то про себя и смотрят на вас широко раскрытыми глазами, будто ждут от вас чего-то хорошего. Ее светло-каштановые, слегка вьющиеся волосы были небрежно зачесаны назад за уши. Сейчас согласно моде они коротко острижены, в школе они у нее были длинные. Она внимательно всматривалась в свои глаза. Собственно, о чем тут беспокоиться? Где-то через час она снова будет дома.
Не у мужа, конечно, а у родителей. И из зеркала на нее смотрело лицо, которое совсем не изменилось. Ей уже исполнилось двадцать два – многовато, на ее взгляд, но выглядела она совершенно так же, как в день свадьбы пять лет тому назад.
Но тут же она подумала, что глупо сопоставлять прежнюю Элен и теперешнюю. Вернулась к выстроенным в ряд скамейкам и уселась на свое место. Пусть пялится старуха, ей все равно. Какой-то матрос в несвежей белой форме курил и поглядывал на нее, правда, без большого интереса; у него и без нее было о ком вспоминать. Элен раскрыла сумочку, пустыми глазами заглянула в нее и снова закрыла. Человек, с которым она прожила в городе последние четыре месяца, сказал ей как-то, что это глупо – нет, не так он сказал, а завернул другое словечко, что-то вроде «инфантильно» – проводить параллели между ребенком, которым она когда-то была, и замужней женщиной, какой стала теперь, матерью, прелюбодейкой, и от пришедшего на память слова «прелюбодейка» уголки ее губ приподнялись кверху в несколько озадаченной улыбке, улыбке горделивой и недоуменной, как у больного, которому наконец объявили, что он неизлечим. Потому что болезней так много, а выход из жизни всего лишь один, только одна смерть, и так много путей к ней. Похоже на двери, сонно думала Элен. Идешь по коридору громадного богатого дома, как в кино: хрустальные канделябры, мраморные полы… идеальный газон… – а вдоль коридора все двери, двери; выбрала не ту дверь, и все – пожалуйста, входи. Ее разморило, разбирал сон. Если ей не хотелось думать – это когда он слишком уж приставал к ней, чтобы она вышла за него замуж, развелась бы с мужем и вышла за него, непременно только за него, – на нее нападала такая сонливость, что не было сил слушать. Если ее не интересовало то, что ей говорили, мозг тотчас отказывался воспринимать слова и затуманивал их до неузнаваемости, вроде как во сие, когда не можешь что-то толком расслышать или когда слушаешь сквозь какую-нибудь плотную субстанцию, как через воду, например. Можно ни единого слова не слышать, если не хочется.
Итак, она позвонила накануне вечером и сказала отцу, что автобус придет в 3.15, а теперь уже полчетвертого; где же он? Говорил он по телефону медленно и официально, так мог говорить совершенно посторонний человек. Элен никогда не любила телефоны, потому что не видно ни улыбок, ни жестов, и разговаривать так ей быстро надоедало. Слушая отца, она впервые с тех пор, как сбежала и бросила их всех – мужа, малютку дочь, свою семью, семью мужа, приходского священника, унылую, будто выгоревшую на солнце, землю, – вдруг испытала чувство, что ничего этого нет, что, может, она просто умерла и только воображает, что сбежала от них. Все тут смотрели на город с недоверием: слишком уж он был велик. А Элен всю жизнь хотелось в город, потому что она ничего не боялась, она взяла да уехала, а теперь вот возвращается; и тем не менее ощущение было странное: все казалось нереальным, призрачным, будто она и вправду умерла и возвращалась в образе, который только внешне был похож на нее… От таких мыслей ей стало скучно, и она закинула одну голую ногу на другую. Матрос раздавил папиросу в грязной жестяной пепельнице, и глаза их встретились. Элен так и подмывало улыбнуться. Вот в том-то и была ее беда – она слишком хорошо понимала мужчин. Понимала их взгляды и их жесты: например, этот матросик глубокомысленно тер сейчас подбородок, будто был плохо выбрит, на самом же деле ему просто было приятно ощущение собственной кожи. Она понимала мужчин слишком хорошо, никогда не задумываясь, почему собственно. Сестра, четырьмя годами старше ее, совсем не такая. А для Элен что стократ один мужчина, что по разу сотня – все едино. Конечно, это плохо, так ее учили, и она верила, что раз учили, значит, так оно и есть; но в чем разница, понять никак не могла. Матрос смотрел на нее не отрываясь, но она отвела взгляд, полуприкрыв глаза. У нее не было на него времени. Отец должен был уже появиться, будет здесь через несколько минут, так что времени не было; через час она будет дома. Когда мысли ее обратились к отцу, неприглядная автобусная станция, пропитанная запахом застоявшегося табачного дыма и расплесканной фруктовой воды, словно отступила куда-то – она вспомнила его голос накануне вечером, вспомнила, как на душе у нее стало хорошо и тепло, когда она услышала этот голос и почувствовала, что отдает себя в надежные руки. В детстве ей случалось испытывать на себе тяжесть его корявых рук, и она это покорно сносила, зная, что эти самые руки всю жизнь берегут ее от беды. И ведь вечно она попадала в истории, иногда такие, над которыми по прошествии времени можно порой посмеяться, а порой и нет; отчасти из-за этого она и вышла за Пола, а до Пола были другие – так, мальчишки, которые в счет не шли, бездельники, интересовавшиеся исключительно своими машинами. Однажды она вызвала отца, позвонив ему из придорожного трактира милях в шестидесяти от дома; ей тогда было пятнадцать, она и ее лучшая подруга Энни влипли в историю с молодыми людьми, с которыми познакомились на каком-то пикнике. Вот где страху-то было, подумала Элен, теперь-то она с ними справилась бы. Слишком она была щедра. Это еще отец всегда говорил. Да и мать тоже. Одалживала деньги сослуживицам по телефонной станции; одалживала подругам платья, выбегала из дому, когда какой-нибудь шалопай подкатывал к калитке и начинал гудеть, не удосуживаясь вылезти из машины и постучать в дверь, как следовало бы. Ей нравилось делать людям приятное, что ж тут плохого? Или, может быть, ей просто от лени было что так, что эдак? У нее разболелась голова.
И всегда мысли ее, быстрые и непорочные, бежали в одну сторону, а тело гнуло свое. Горячее, нетерпеливое, оно никак не желало угомониться. Боялась ли она того, что прочтет на лице отца? Она отогнала эту мысль: вот еще глупости. Уж если нужно думать о чем-то, так лучше о том слякотном весеннем дне, когда они всей семьей перекочевали сюда, в старый дом на ферме, которую отец купил «за бесценок». В то время дорога, пролегавшая мимо дома, была узеньким проселком, не более… Теперь ее расширили, черное покрытие в жару безбожно воняло, начинало першить в горле и рябить в глазах до того, что они подергивались влагой. Да, насчет этого большого дома… Ничто в нем, разумеется, не изменилось. О своем доме, о том, где жила с мужем, она пока не думала, чтобы окончательно не запутаться. Может, она туда вернется, а может, и нет. О муже она не думала: захочет вернуться, и вернется – он-то ее примет. Когда она пыталась уяснить себе, что привело ее назад, мысль о муже, который был куда моложе, находчивей и веселей, чем только что оставленный ею человек, даже не приходила ей в голову; дело было и не в дочери, а в чем-то имевшем отношение к родительскому дому и тому мглистому, теплому дню, когда они семнадцать лет назад въехали в этот дом. И вот как-то утром, когда тот человек ушел на работу, она вдруг вспомнила дом и просидела за столом чуть ли не час, не убирая посуду от завтрака, глядя на недопитый кофе, который он оставил в своей чашке, словно робкое напоминание о себе – человеке, воспоминание о котором начало уже бледнеть. Тогда-то она и поняла, что город не для нее. Не то чтобы, они разлюбила того человека: она никогда не переставала любить любого, кто нуждался в ней, а как раз он нуждался в ней больше, чем кто бы то ни было, – нет, тут нечто совсем другое, чего понять она не могла. Нет, дело было не в муже, не в ребенке, даже не в реке, протекавшей внизу, под горой, видной сквозь деревья, которые, обнажаясь зимой, становились такими торжественными и загадочными. Все это она любила, не перестала любить из-за того, что ее угораздило так полюбить этого человека… нет, что-то совсем другое заставило ее выскочить из-за стола и броситься в соседнюю комнату, рыться в ящиках письменного стола, в стенном шкафу, словно она что-то искала. В тот вечер, только он пришел, она заявила, что едет домой. Ему было сорок с чем-то, точно она не знала, и полюбила она его за виноватый и застенчивый вид, за исходивший от него запашок неудачи, к которому примешивался запашок алкоголя, – он никак не мог бросить нить, хоть и «урезал» с ее помощью. И почему так часто встречаются мужчины, которые чего-то боятся? Зачем они так много думают? Он, кажется, был где-то бухгалтером или что-то в этом роде – разве это такая уж нервная работа? Он был недурен собой. Но не это привлекло к нему Элен. А то, как при первой встрече он уставился на нее, как пропустил сквозь пальцы редеющие волосы, давая ей понять этим жестом, что она ему нравится, что, будь он помоложе, он тотчас признался бы ей в этом. То было четыре месяца назад. Элен вдруг вспомнился недоумевающий взгляд его пристальных, умных глаз, да еще слезы, навернувшиеся на них, когда она пошла звонить отцу.
Теперь, вернувшись в Орискани, она выкинет его из головы.
Через несколько минут появился отец. Неужели это правда он? Сердце у нее бешено застучало. Когда она бледнела, кожа становилась пятнистой, принимала нездоровый оттенок, словно от крапивницы… Она этого терпеть не могла. Хотя отец и увидел ее сразу, хотя автобусная станция к этому времени почти опустела, он стоял в нерешительности, пока она не вскочила с места и не подбежала к нему. «Папа, – крикнула она, – я так тебе рада!» Будто время повернуло вспять, и он, покончив с делами в городе, просто зашел за ней, а Элен четырнадцать или пятнадцать лет, и она дожидалась его, чтобы ехать вместе с ним домой.
– Я возьму чемодан, – сказал он. Матрос, потеряв к ней всякий интерес, углубился в журнал. Элен с беспокойством наблюдала за отцом. Что это с ним? Он наклонился за чемоданом, но разогнулся чуть медленней, чем можно было бы ожидать. Самую чуточку. С чего бы это? Элен взяла бумажную салфетку, уже перепачканную губной помадой, и провела ею по лбу.
По дороге домой он вел машину как-то странно, будто ему было больно держать нагретый солнцем руль.
– Что, не барахлит больше машина? – спросила Элен.
– Да нет, ничего, – ответил он. Город уже почти остался позади. Знакомых лиц встречалось мало.
– Ты что это все смотришь по сторонам? – спросил отец. Голос у него был приятный, глаза сосредоточенно устремлены на дорогу. Казалось, никуда больше смотреть он не решается.
– Да просто так смотрю, – сказала Элен. – Как Дейви?
В ожидании ответа – отец всегда отвечал на вопросы не спеша – Элен суетливо расправляла под собой юбку. Дейви был сынишка сестры. Уж не заболел ли? Она забыла спросить про него накануне вечером.
– С Дейви ничего не случилось, а, папа? – спросила она.
– Да нет, ничего.
– А я думала, может, и мама приедет, – сказала Элен.
– Нет.
– Не захотела? Небось сердится на меня?
В прошлом, когда мать бывала недовольна ею, Элен всегда находила в отце союзника, ей достаточно было встретиться с отцом глазами. Но сейчас он смотрел на дорогу не отрываясь. Они ехали мимо нового здания школы – консолидированной средней школы, в которой Элен проучилась один год. Никто толком не знал, что значит «консолидированная», да никого, собственно, это и не интересовало. При взгляде на темно-красный кирпич Элен нахмурилась, и ей ни с того ни с сего пришло на ум слово «прелюбодейка», значение которого она тоже долго не понимала. Слово из библии. Оно докучало как комар ночью или как пятно на платье, которое хочется незаметно прикрыть, положив, будто невзначай, на него руку. Почему-то знакомый запах их старого автомобиля, дребезжащий козырек над ветровым стеклом, старый плед цвета хаки, которым всегда покрывали сиденье, не успокоили ее, не убаюкали, не оттеснили это слово.
Ей не хотелось спать, но она сказала, что хочется.
– Понятно, хочется. А ты бы, дочка, села поудобней да постаралась уснуть, – посоветовал отец.
Он взглянул на нее. И сразу же от сердца отлегло. Все стало просто и ясно. Она передвинулась и положила голову ему на плечо.
– Ехали мы больно уж долго. Ненавижу автобус, – сказала она. – А раньше, помню, любила.
– Можешь спать хоть до самого дома.
– Сердится мама?
– Нет.
Плечо его оказалось не таким удобным, как хотелось бы, но она закрыла глаза, стараясь уснуть. Ей вспомнился апрельский день, когда они приехали сюда, как поселились в доме, до этого неведомом, в собственном доме, где будут жить одни, своей семьей, но в том доме были, как потом выяснилось, свои недостатки, приводившие отца Элен в ярость. Она не помнила города и их квартиру, но была уже достаточно велика, чтобы оценить прелесть деревенской жизни и понять большие надежды, возлагаемые родителями на эту жизнь, и постигшее их затем горькое разочарование. Семья была большая: шестеро детей; Артур умер позже, десяти лет от роду; и не успели они разместиться толком, как дом оказался уже тесным и неопрятным. И еще она вспомнила, как испугалась чего-то и отец подхватил ее на руки в самый разгар суеты и, не спрашивая, почему она плачет – мать всегда добивалась, чтобы она сказала, будто для слез обязательно должна быть причина, – стал качать ее и утешать, ласкать своей огрубевшей рукой. Она до сих пор помнила, каким красивым казался ей дом, надутые, как паруса, занавески на окнах: их мать распаковала и повесила в первую очередь; помнила упоительный весенний воздух, уже перегревшийся, пропитанный запахами тучной земли; Идеи – реку, протекающую неподалеку от дома; листву, солнце, ветер; помнила осевшее крыльцо, заваленное картонками, узлами, мебелью из прежнего жилья. В том городском старом и темном доме умерли дедушка с бабушкой – родители матери, и Элен совсем забыла бы их, если бы отец время от времени не вызывал их тени, с ненавистью поминая тестя из-за какой-то давнишней мелочной, путаной распри, в которой он якобы должен был одержать верх. Старик тот умер, и дом, непонятно почему, достался банку, и тогда отец перевез их всех сюда в деревню. Новый мир. Новая жизнь. Ферма. И четверо сыновей-помощников, и обещавшая добрые урожаи земля.
Отец резко крутанул руль.
– Кролик дорогу перебежал, – объяснил он. У него всегда был этот странный, извиняющийся тон, что бы он ни делал, пусть даже это был великодушный поступок. Он терпеть не мог убивать живое, даже хорьков и ястребов. Элен захотелось положить ладонь на его правую, тяжелую, заскорузлую руку, которую никогда уже не отмыть добела. Но она только сказала, чуть пошевельнувшись, словно он ее разбудил:
– Чего ж тогда мама не захотела приехать?
Машина, замедлив ход, описывала широкую дугу. Элен не глядя знала этот поворот. Дорога давала здесь изгиб между двумя пшеничными полями, принадлежащими одному из старейших тут семейств, богатеям, которые разъезжали в разбитых «пикапах» и одевались не лучше своих батраков, а сами лопались от денег. И держали они их не в одном банке, а сразу в нескольких.
– Да, денежная публика…
Эти слова произнес отец давным-давно, проезжая мимо чьего-то пастбища. Элен эти безобразные рыжие коровы ничего не говорили, но отцу говорили многое. И вот, после того как отец произнес эти слова – они возвращались из церкви и поехали немного покататься, – у матери вдруг испортилось настроение, она стала резкой и придирчивой, и поездка была испорчена. Это случилось давным-давно. Отец Элен был тогда еще молод, весь его вид говорил, что ему не терпится испробовать свои силы; казалось, могучие, мускулистые руки и плечи только и ждали работы. «Денежная публика», – сказал он, и поездка вмиг была начисто испорчена, будто самый воздух стал не тот, потому что как раз в это мгновение переменилось направление ветра, и он дул теперь не с лугов, а с реки, которая в августе и сентябре нередко застаивалась. Сделав усилие, Элен вспомнила-таки, как перед тем думала о матери. И что это у нее в последнее время все только прошлое на уме! Это в двадцать-то два года (не старуха ведь еще) и как раз, когда она новую жизнь начать собирается. Вот приедет домой, искупается, перестирает все, что есть в чемодане, передохнет, прогуляется вдоль реки, как в детстве, пуская по воде камешки, посидит за круглым кухонным столом, покрытым старой клеенкой, выслушает их наставления («Пора тебе за ум взяться – ведь не маленькая» – так говорила мать в прошлый раз), а потом уж решит, что делать. Решит насчет мужа и ребенка, вот и думать будет больше не о чем.
– Так почему же мама не приехала?
– Потому что я не захотел, – ответил он.
Элен непроизвольно сглотнула. Худым и жестким было плечо, к которому она прижималась щекой. Прежние ли это мускулы, или те стаяли, как таяла их земля, ежегодно вымываемая рекой, так что ферма, которую отец Элен когда-то приобрел, постепенно превращалась в насмешку над ним же? Или это были уже другие – твердые и литые, как сталь, напряженные до предела, потому что ему столько лет приходилось сдерживать себя и не давать волю кулакам?
– Это почему?
Он не ответил. Она зажмурилась, и перед ней замелькали какие-то сумасшедшие, жутковатые образы: взрывающиеся звезды, призрачные фигуры, как в кино – в городе она то и дело бегала в кино, зачастую на первый сеанс в одиннадцать утра, и вовсе не от скуки бегала, не от нечего делать, а просто потому, что любила кино. В двадцать минут шестого на лестнице раздавались шаги, он шел, чуть морщась от странной, необъяснимой боли в груди; а Элен, к тому времени вернувшаяся из центра, уже ждала его нарядная, с блестящими волосами и, как у ребенка, свежим и разрумянившимся лицом, не оттого, что ей льстил его взгляд, а потому, что знала, что может хотя бы на время утишить его боль. Так отчего же она ушла от него, если он нуждался в ней больше, чем кто-либо?
– Папа, что-нибудь случилось? – спросила она, словно воспоминание о незримой боли того, другого, человека каким-то образом относилось и к ее отцу.
Он нерешительно потянулся к ней и тронул за руку. Это удивило ее. И сразу же исчезли киновидения – красивые люди, в которых ей хотелось верить, равно как и в бога и в святых, населяющих киноэкранное небо, – и она открыла глаза. Солнце светило ярко. Все лето напролет оно светило слишком ярко. Мозг ее заработал быстро и беспокойно, будто возбуждаемый покалыванием крошечных иголочек. Но, когда она попробовала понять, откуда эти иголочки взялись, никакого объяснения не нашлось. Скоро она будет дома. Скоро сможет отдохнуть. А завтра можно будет повидаться с Полом. Можно сделать вид, будто ничего не произошло и все осталось по-прежнему. Пол всегда так любил ее и всегда понимал, знал, что она собой представляет.
– Может, мама заболела? – вдруг спросила Элен.
– Нет, – ответил отец. Он выпустил ее пальцы и снова обеими руками взялся за руль. Опять поворот. Если бы она потрудилась взглянуть, то немного в стороне увидела бы реку, вывернувшуюся откуда-то им навстречу, обмелевшую в это время года, местами покрытую тонким слоем зеленовато-коричневой пены. Но она не потрудилась взглянуть.
– Семнадцать лет назад мы сюда приехали, – сказал отец. Он откашлялся, как человек, не привыкший разводить рацеи: – Ты и не помнишь.
– А вот и неправда, – сказала Элен. – Очень даже хорошо помню.
– Ничего ты не помнишь. Ты еще совсем маленькая была.
– Да помню я, папа. Помню, как вы большой ковер в дом вносили, ты и Эдди. А я еще реветь начала. А ты меня на руки взял. Я уже большущая была, а рева… А мама пришла и загнала меня в дом, чтобы я тебе не мешала.
– Не помнишь ты этого, – сказал отец. Он вел машину нервно, то нажимая на газ, то отпуская педаль, будто что-то надумав, тут же передумывал. Что это с ним? Элен пришла в голову неприятная мысль: стареет отец, скоро совсем стариком станет.
А когда она пугалась темноты, лежа наверху в их старом доме, в спальне, которую делила с сестрой, надо было всего-то представить себе его. У него была привычка сидеть за ужином так неподвижно, так тихо, что, казалось, ничем его не стронешь, ничем не испугаешь. Так что в детстве, да и теперь во взрослом состоянии ей всегда становилось легче, когда она вспоминала лицо своего отца: его светлые, озадаченные зеленые глаза, которые в зависимости от освещения могли быть то простодушными, то хитренькими, и морщины вокруг рта, с каждым годом врезающиеся все глубже, и угловатые, широкие скулы, в начале лета обожженные солнцем, затем солнцем же прокаленные и выдубленные, и наконец, по зиме, снова бледнеющие. Солнце никак не могло достаточно глубоко прокрасить его кожу, которая была почти так же светла, как у Элен. В воскресной школе ее и других детей учили – когда страшно, вспомни Христа. Но Христос, отштампованный на закладочках для библии и на календарях, был мало похож на охранителя. Он скорее сошел бы за двоюродного брата, которого ты даже и любишь, хоть редко с ним видишься, но который так погружен в свои заботы и раздумья, что от него трудно ждать помощи, не то что от отца. Когда отец с ребятами возвращались с поля в пропотевших насквозь рубахах, с лицами распаренными и измочаленными жарой, все равно каждый видел, что у него крепкое тело, прочно пригнанное к костям, которое никогда не состарится, никогда не умрет. Ребята – ее старшие братья – достаточно хорошо к ней относились, поскольку она была меньшой в семье, и сестра всегда за ней смотрела, да и мать ее тоже любила – впрочем, любила ли вообще кого-нибудь ее мать, воспитанная родителями, которые говорили лишь по-немецки и которым было не до того, чтобы учить ее нежностям? Как бы то ни было, чуть что, бежала она все-таки к отцу. Она и мужчин-то начала понимать, поняв его. Она научилась читать в выражении его лица то, от чего лица других мужчин стали для нее открытой книгой: она сразу понимала, тупы они или остры умом, начинают ли раздражаться или довольны, только до времени не хотят это выказывать. Может, потому она и вернулась домой? Эта мысль удивила ее, она даже выпрямилась, не понимая: как это так – может, потому она и вернулась домой?
– Папа, – сказала она, – как я тебе уже говорила по телефону, я не понимаю, почему я так поступила. Не понимаю, почему уехала. Это ничего, да? То есть я хочу сказать, мне самой стыдно. И больше не будем об этом, ладно? Ты говорил с Полом?
– С Полом? Это еще зачем?
– Что зачем?
– Ты ж о нем до сих пор и не вспомнила, чего ж сейчас-то?
– То есть как это? Он же все-таки мне муж. Разговаривал ты с ним?
– Он к нам каждый вечер целых две недели приходил, три даже. – Элен никак не могла понять, с чего это он так разболтался. – А потом от случая к случаю, но приходил постоянно. Нет, я не сказал ему, что ты приезжаешь.
– Но почему? – Элен натянуто засмеялась. – Ты разве его не любишь?
– Ты же знаешь, что я его люблю. Знаешь ведь. Но если бы я ему сказал, за тобой приехал бы он, а не я.
– Почему же, раз я просила, чтобы ты…
– Я не хотел говорить ему. И мать твоя тоже не знает.
– Как? Ты и ей не сказал? – Элен посмотрела на него сбоку. Лицо его будто окаменело и даже под загаром было бледно, казалось, внутри у него что-то съеживается, исчезает, и, кроме голоса, там ничего не осталось. – Ты хочешь сказать, что даже маме не сказал? Она не знает, что я еду?
– Нет.
Беспокойное покалывание в мозгу вдруг возобновилось. Элен потерла лоб.
– Папа, – начала она ласково, – почему ты никому не сказал? Ты что, стесняешься меня, да?
Они ехали медленно. Дорога повторяла изгибы реки, широкой, мелководной, петляющей, про которую братья говорили, что уже нет никакого смысла ловить в ней рыбу. Неожиданно перед ними возник один из ее рукавов под названием Илистая протока. Сплошной ил и водоросли, кишащие лягушками и стрекозами. Они переехали на другую сторону по шаткому деревянному мосту, закряхтевшему под их тяжестью.
– Папа, – сказала Элен осторожно, – ты ведь сказал, что не сердишься, по телефону-то. И я тебе, помнишь, письмо написала, чтоб все объяснить. Я б и побольше написала, только ты ведь знаешь, я не мастерица писать, даже Энни ни разу не написала с тех пор, как она отсюда уехала. Я все время о тебе помнила и обо всем тут, и о маме… И о дочке я тоже думала, и о Поле. Но Пол и сам не пропадет. Он умный. Правда, умный. Я раз была с ним у нас в магазине, и он завел там спор с продавцами и всех их за пояс заткнул, это он не от отца набрался, хотя у них вся семья умная, верно?
– Это Хендрики-то? Еще бы. Без ума денег не наживешь.
– Да, уж что-что, а деньги у них есть. Полу из-за денег беспокоиться не приходилось. В таких домах, как у его родителей, ничего никогда не теряется и не ломается, знаешь. Не то что у нас, когда мы все маленькие были. Оно, между прочим, тоже свою роль сыграло: когда старик построил нам дом, я так рада была поначалу, просто ужас как рада, а потом будто что-то от них и к нам с домом перешло. Все начищай да по местам раскладывай, будто без этого уж и нельзя, а ведь с ребенком так устаешь… Правда, его мать всегда хороша со мной была. Нет, я на них не жалуюсь. Я всех их правда люблю.
– Богатеи всегда со всеми хороши, – сказал отец. – Что им стоит.
– Ну, папа, – сказала Элен, дотронувшись до его плеча. – Что это ты говоришь. Ты всегда был самым хорошим из всех, кого я знала; правду тебе говорю. Лучше всех. Фермеры, у которых много земли, вроде как у отца Пола, и эти, ну которые тракторами торгуют, – у них тоже не все гладко идет, это я тебе точно говорю. Тебе просто слышать не приходилось; или вот когда ребенок ихний захворал полиомиелитом, ну знаешь, на большой ферме, за порогами, у этих, у Макгвайеров; ты думаешь, каково им было? Им тоже приходится туго, как и всем, туго.
И тут отец сделал нечто странное: они находились всего милях в семи-восьми от дома, вблизи не было ни одного жилья, а он вдруг взял да остановил машину.
– Хочу передохнуть малость, – сказал он, а сам продолжал сидеть, уставившись в ветровое стекло, будто продолжая править машиной.
– Что случилось?
– Вот как солнцем крышу нажарило…
Элен взялась за ворот платья и оттянула его от влажной шеи. Разве прежде отец обращал когда-нибудь внимание на жару? Она вспомнила, как носила ему воду на самое дальнее поле, до того еще, как он забросил ту часть пашни; как он, бывало, брал у нее из рук кувшин и прикладывал его к губам, и тогда Элен, милой маленькой Элен, стоявшей среди пыльных стеблей кукурузы, начинало казаться, будто вода вливается в ее всемогущего отца и оживляет его, словно это не воду принесла она ему, а свою сокровенную кровь. И он выпячивал грудь, и его обожженные солнцем руки, высовывающиеся из закатанных рукавов, поигрывали мускулами, а глаза, которые больше не заливал пот, теперь уже не смотрели устало… Видение обрадовало ее, по и смутило: что было общего у того человека с тем, что сидит рядом с ней? Она посмотрела на отца внимательно и увидела, что нос у него странно побелел и весь испещрен тончайшими красными жилками, будто прочерченными булавкой; отметила, что волосы поредели и плохо подстрижены, они топорщились надо лбом, как будто он в нетерпении слишком часто заглаживал их назад, пропуская сквозь пальцы. Когда Эдди, старший из братьев, который давно уехал от них невесть куда, пихнул однажды отца в грудь с такой силой, что тот повалился на обеденный стол, удивление и бледность точно так же залили отцовское лицо, и бледнеть оно начало с кончика носа.
– Я думала, что, может… что, если б мы сейчас приехали домой, я б маме с ужином помогла, – сказала Элен. Она тронула отца за плечо, словно желая разбудить его. – Вон какая жара. Она б, наверно, рада была.
– Она ж не знает, что ты едешь.
– Да я… я ведь все равно могла б помочь. – Она попыталась улыбнуться, выискивая в его лице тень чего-то: он и в прошлом часто бывал суров, но если она достаточно долго не отставала от него, то все равно не выдерживал в конце концов и улыбался. – А разве мама не слышала, как ты по телефону разговаривал? Разве ее не было дома?








