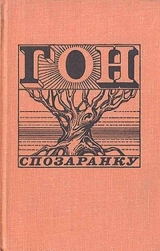
Текст книги "Гон спозаранку"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Соавторы: Джон Эрнст Стейнбек,Джойс Кэрол Оутс,Уильям Катберт Фолкнер,Джек Керуак,Теннесси Уильямс,Джеймс Болдуин,Фланнери О'Коннор,Карсон Маккаллерс,Джесс Стюарт
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Джек Керуак
ДОРОГА В МЕХИКО-СИТИ
Прямо перед нами неясно вырисовывались горы, сплошь зеленые. Одолев этот подъем, мы окажемся на огромном центральном плато, а там уж дорога поведет нас прямо в Мехико. В мгновение ока взлетели мы на высоту 5 тысяч футов над уровнем моря и понеслись по окутанным туманом горным перевалам, откуда открывался вид на дымящиеся желтые ручейки, далеко-далеко внизу под ногами. Это была знаменитая Монтесума. Что-то загадочное появилось в облике встречавшихся на дороге индейцев. Они ведь совсем особенный, ни на кого не похожий народ, эти горные индейцы, внешний мир которых ограничивается панамериканским шоссе: низенькие, приземистые, темные, со скверными зубами… Многие несли на спине невероятных размеров поклажу. На крутых склонах бездонных горных ущелий, заросших буйной тропической растительностью, мы видели возделанные клочки земли. По склонам карабкались вверх и спускались вниз индейцы – они работали на своих крошечных полях. Дин вед машину со скоростью не выше пяти миль в час: ему хотелось разглядеть все.
Ой-ой-ой! Вот уж чего никак не ожидал увидеть!..
На вершине самой высокой горы, не уступавшей Рокки-Маунт, мы увидели заросли бананов. Дин вышел из машины, чтобы показать их нам, и стоял, потирая живот. Мы остановились на горном уступе. Крытая соломой лачужка прилепилась к нему. Она, казалось, повисла над пропастью, которая и была миром. Солнце набросило золотистую дымку на все вокруг и скрыло от нас Монтесуму.
Во дворе перед лачугой стояла крошечная трехлетняя индианочка и, засунув палец в рот, наблюдала за нами большими карими глазами.
– Она, наверно, никогда еще не видела стоящей машины, – прошептал Дип. – Здравствуй, девочка! Как поживаешь? Мы тебе нравимся?
Девочка застеснялась, отвернулась и надула губы. Мы заговорили между собой, и она принялась разглядывать нас, положив палец в рот.
– Как жаль, что у меня нет ничего, чтобы подарить ей! Только подумать – родиться на этом уступе и всегда жить здесь. Уступ, и больше ничего – здесь вся их жизнь. Отец ее, наверное, ползает, обвязавшись веревкой, на дне ущелья за ананасами или рубит над этой бездной ветки на топливо, склонившись под углом в восемьдесят градусов. Она никогда не уедет отсюда, никогда не узнает, что есть какой-то другой мир. Здесь ее родина. Воображаю, какой у них должен быть дикий вождь! Наверное, если отойти на несколько миль подальше от дороги, вон за тот утес, можно встретить еще более диких и загадочных людей. Конечно! Ведь панамериканское шоссе принесло все же какую-то цивилизацию этому придорожному народу. Обратите внимание на капли пота у нее на лбу! – указал нам Дин со страдальческой гримасой. – Маслянистые… И они уже никогда не высохнут, потому что здесь жарко круглый год, и она не знает, что можно иметь сухой лоб. С влажным лбом она родилась и с ним умрет…
Капли пота на лобике девочки не стекали вниз, а стояли, словно застывшие, тускло поблескивая, как хорошее оливковое масло.
– Как все это должно действовать на их души! Как они должны отличаться от нас во всем – в своих заботах, взглядах, желаниях…
Дин поехал дальше. На лице у него застыл благоговейный ужас, рот приоткрылся, он ехал со скоростью десять миль в час, пристально вглядываясь в каждого встречного. Мы взбирались все выше и выше.
Чем выше, тем прохладнее становился воздух. Индианки, попадавшиеся нам на дороге, с головой кутались в одеяла. Они отчаянно махали. Мы остановились узнать, в чем дело. Они хотели продать нам горный хрусталь. Огромными карими невинными глазами смотрели они нам в глаза, и так взволнован и чист был их взгляд, что ни одной грешной мысли не шевельнулось у нас по отношению к ним. К тому же они были очень юны – некоторым было лет по одиннадцать, только на вид им можно было дать все тридцать.
– Смотрите на эти глаза! – шептал Дин.
Они напоминали глаза пречистой девы, когда она была ребенком, – нежные и всепрощающие. И смотрели они на нас прямо-прямо, не отрываясь, а мы протирали свои бегающие голубые глаза и снова встречали их взгляд – проникающий в самую душу, печальный и гипнотизирующий.
Но, заговорив, они вдруг становились суетливыми, назойливыми и даже глупыми.
– Они только недавно научились торговать горным хрусталем. Ведь шоссе провели лишь лет десять назад, до тех пор весь народ, наверное, пребывал в молчании.
Девочки с причитаниями обступили машину. Одна из них, дитя особенно эмоциональное, вцепилась в потную руку Дина и лепетала что-то по-индейски.
– Да, да, милая! – говорил Дин нежно, почти грустно.
Он вылез из машины и начал рыться в прикрученном сзади обшарпанном чемодане – все в том же старом, видавшем виды американском чемодане, – и вытащил оттуда наручные часы. Он показал их девочке. От радости она завсхлипывала. Остальные в изумлении столпились вокруг. Тогда Дин стал рассматривать камушки, лежавшие на ладони девочки, ища «самый красивый, самый прозрачный, самый маленький хрусталик, который она сама нашла в горах для меня…».
Он выбрал кристалл величиной не больше ягоды и, держа за ремешок болтающиеся часы, передал ей. Их рты округлились, как рты поющих в хоре детей. Счастливица схватила часы и прижала их к лохмотьям, прикрывающим грудь. Они дотрагивались до Дина и благодарили его. Он стоял среди них, повернув к небу обветренное лицо, как будто ожидая, что ему сейчас откроется путь восхождения на последнюю, самую главную высоту, а им, наверное, казалось, что он пророк, сошедший к ним.
Он опять сел в машину. Девочки страшно огорчились, увидев, что мы уезжаем. И долго, пока мы ехали по прямой дороге, они бежали за нами и махали нам. Потом мы завернули и навсегда потеряли их из виду, а они все продолжали бежать.
– У меня сердце разрывается! – кричал Дин и бил себя кулаком в грудь. – Сколько еще времени будут они доказывать свою признательность и восхищение? Чем же это кончится? Неужели они побежали бы до самого Мехико-сити, если бы мы ехали достаточно медленно?
– Да! – ответил я.
Мы добрались до головокружительных высот Сьерра Мадре Ориенталь. Закутанные в легкую дымку верхушки банановых деревьев золотисто поблескивали. Густой туман жался к каменным стенам ущелья. Монтесума тоненькой золотой ниточкой вилась по зеленому ковру джунглей.
Мимо проносились таинственные городки, расположившиеся на перекрестках дорог здесь, на крыше вселенной, и закутанные в одеяла индейцы смотрели на нас из-под полей шляп и reboros. Дремучая, темная, первобытная жизнь. Ястребиными глазами наблюдали они за Дином, торжественным и не вполне нормальным, крепко сжимавшим беснующийся руль. Все они протягивали к нам руки. Они спустились из далеких селений, чтобы протянуть руку за тем, что, по их мнению, могла дать им цивилизация, и никогда не помышляли, что им могут предложить лишь глубокое уныние и множество жалких разбитых иллюзий. Они не знали, что существует бомба, которая в один миг может уничтожить и превратить в груду развалин все наши мосты и дороги, что настанет день, когда мы будем так же бедны, как они сами, и совершенно так же будем протягивать руки. Наш разбитый «форд», старый «форд» тридцатых годов, времен расцвета Америки, прогромыхал мимо них и скрылся в облаке пыли.
Мы достигли подъема к последнему плато. Солнце стало червонным, воздух был пронзительно синим, а невероятные пространства раскаленных песков пустыни, кое-где прорезанных речками, перемежались вдруг ветхозаветной сенью развесистых деревьев. Дин спал. Машину вел Стэн. Появились пастухи, одетые в длинные развевающиеся одежды, похожие на хламиды древних, женщины, несущие пучки золотистого льна, группы мужчин. Сверкал и переливался песок пустыни. В тени огромных деревьев сидели и беседовали пастухи; резвились на солнце овцы, вздымая пыль…
Конец пути неотвратимо близился. Бескрайние поля простирались теперь по обе стороны. Чудесный ветер насквозь продувал попадавшиеся навстречу купы громадных деревьев и пролетал над крышами старых католических миссий, оранжево-розовых в лучах заходящего солнца. Облака были плотные, громадные и розовые.
– Мехико-сити на закате!
Мы одолели их, эти тысячу девятьсот миль, отделявших освещенные послеобеденным солнцем задворки Дэнвера от сих необозримых ветхозаветных пространств, и теперь приближались к концу своего пути.
Миновав недлинный горный проход, мы внезапно очутились на вершине горы; оттуда как на ладони был виден Мехико-сити, раскинувшийся в кратере вулкана внизу. Были видны дымки, подымавшиеся из труб, и ранние вечерние огоньки. Резко повернув, мы стремглав понеслись вниз мимо бульвара Инсургентов, прямо в сердце города. На просторных, унылого вида площадках ребятишки в пыли играли в футбол. Шоферы такси на ходу спрашивали, не интересуемся ли мы девушками? Нет, в данный момент девушками мы не интересовались. Потянулись бесконечные ряды трущоб. В темнеющих аллеях виднелись одинокие фигуры. Надвигалась ночь. И вдруг мы услышали грохот и гул города, и оказалось, что мы уже несемся мимо набитых народом кафе, театров, ярко горящих фонарей.
Отчаянно вопили мальчишки – продавцы газет. Слонялись босые механики, помахивая гаечными ключами и тряпками. Босые индейцы-шоферы, как одержимые, проскакивали у нас под самым радиатором, объезжали вокруг, отчаянно гудели. Движение было сумасшедшее. Шум стоял невообразимый. Глушителей на своих машинах мексиканцы не признают. Веселые гудки не замолкали ни на секунду.
– Эй-эй! – орал Дин. – Берегись!
Он врезался в гущу машин, готов был гоняться наперегонки с каждым автомобилем и вообще вел себя как индеец-шофер. Потом выбрался на аллею, окружающую бульвар Реформа, и начал носиться по ней, а со всех восьми сходящихся улиц на нас летели машины во всех направлениях: справа, слева, прямо в лоб… И Дин вопил и прыгал на сиденье от восторга.
– Вот это красота! Я о таком движении всю жизнь мечтал… Все несется…
Вихрем промчалась карета «Скорой помощи». Американские кареты «Скорой помощи» с завывающими сиренами лавируют между другими машинами, но феллахские индейцы гонят свои знаменитые великолепные кареты «Скорой помощи» по улицам города со скоростью восемьдесят миль в час, и вам остается только уворачиваться от них, как умеете, а они несутся вперед, не обращая ни на кого внимания и не замедляя хода. Мы видели, как одна из них влетела на расшатанных колесах в гущу автомобилей и грузовиков, разлетающихся перед ней во все стороны, и скрылась из виду. Все шоферы были индейцы. Пешеходы, не исключая старушек, бегом бежали за автобусами, которые никогда не останавливались. Молодые дельцы-мексиканцы на пари догоняли автобусы и ловко заскакивали в них на ходу. Шоферы автобусов в рубахах без воротников, босые, взъерошенные, издевались над всеми. Их едва было видно: они сидели на низких сиденьях, скрытые огромными баранками. Над головами у них блестели иконки. Освещение в автобусах было тусклое, зеленоватое. Лица сидевших на деревянных скамейках казались темными.
В деловой части Мехико-сити по главной улице бродили тысячи хиппи в обвисших соломенных шляпах и длинных пиджаках, надетых прямо на голое тело. Некоторые продавали распятия и сигары, другие молились, стоя на коленях, в древних часовнях, затесавшихся среди балаганов, где выступали мексиканские комедианты.
Попадались улицы, мощенные булыжником, с открытыми выгребными ямами, низенькие двери вели в крошечные бары, прилепившиеся к домикам. Чтобы добыть себе виски, приходилось перепрыгивать через ров, а на дне этого рва лежало древнее озеро.
Выйдя из бара, приходилось прижиматься спиной к стене дома и осторожно, бочком пробираться назад к улице. В кофе добавлялись ром и мускатный орех. Громкие звуки мамбо наступали со всех сторон. Сотни проституток стояли вдоль темных узких улиц, поблескивая на нас из темноты скорбными глазами. Мы бродили по улицам как одержимые, как лунатики. Мы ели замечательные бифштексы по сорок восемь центов штука в кафетерии, выложенном удивительным кафелем, а тут же играли несколько поколений музыкантов и пели странствующие певцы-гитаристы и какие-то старики в углах непрестанно дудели в трубы. По кислому запаху узнавали забегаловки, где за два цента можно получить большой стакан кактусового сока. Ничто не останавливалось. Улицы продолжали жить полной жизнью всю ночь. Спали нищие, завернувшись в сорванные с заборов афиши. Другие нищие целыми семьями сидели всю ночь на тротуарах, наигрывая на флейточках и пересмеиваясь. Торчали босые ноги, горели тусклые свечи, весь Мехико-сити был огромным табором богемы.
На углах старухи отрезали кусочки от вареных коровьих голов, заворачивали в тортиллы, смазанные острым соусом, и на обрывках газеты продавали желающим. Это был великолепный, буйный, детски наивный, не знающий запретов феллахский город-финиш, который мы знали, что найдем в конце своего пути…
А потом у меня сделался сильный жар. Я потерял сознание и начал бредить. Дизентерия. Выныривая изредка из темного водоворота, в котором кружились мои мысли, я понимал, что лежу больной на крыше вселенной, восемь тысяч миль над уровнем моря, и еще я понимал, что в своей бренной атомистической земной оболочке я прожил целую жизнь, и не одну, и что перевидел уже все земные сны.
Перевод В. К. Ефановой
Фланнери О'Коннор
ПРАЗДНИК В ПАРТРИДЖЕ

Кэлхун поставил свою пузатенькую машину, не доезжая дома тетушек, и вылез, опасливо озираясь по сторонам, словно побаивался, что буйное цветение азалий окажется для него губительным. У старых дам вместо скромного газона были густо, тремя террасами, посажены красные и белые азалии; они поднимались от тротуара и подступали к самым стенам их внушительного деревянного дома. Обе тетушки ждали его на веранде, одна сидела, другая стояла.
– А вот и наш малышка! – пропела тетушка Бесси так, чтобы расслышала сестра, которая находилась в двух шагах, но была глуховата. На звук ее голоса оглянулась девушка у соседнего дома, которая, положив ногу на ногу, читала под деревом. Она пристально посмотрела на Кэлхуна, потом очкастое лицо ее снова склонилось над книгой, но Кэлхун заметил на нем усмешку. Хмурясь, он проследовал на веранду, чтобы поскорей покончить с церемонией приветствий. Тетушки, должно быть, расценят его добровольный приезд в Партридж на праздник азалий как знак того, что он исправляется.
Квадратными челюстями старые дамы напоминали Джорджа Вашингтона с его вставными деревянными зубами. Они носили черные костюмы с широкими кружевными жабо, тусклые седые волосы были собраны на затылке. Кэлхун, дав каждой из них себя обнять, устало опустился на качалку и глуповато улыбнулся. Он приехал только потому, что его воображение поразил Синглтон, но тётушке Бесси сказал по телефону, что хочет поглядеть на праздник.
Тетушка Мэтти, та, что была глуховата, прокричала:
– То-то твой прадед бы порадовался, что тебя наш праздник привлекает! Это ведь была его затея.
– Ну а что вы скажете о добавочном развлечении, которое было тут у вас недавно? – завопил он в ответ.
За десять дней до начала праздника человек по фамилии Синглтон предстал перед потешным судом на площади у муниципалитета за то, что не купил значок праздника азалий. Во время суда ему набили на ноги колодки, а по вынесении приговора заточили в «тюрьму» вместе с козлом, осужденным ранее за такой же проступок. «Тюрьмой» служила уличная уборная, позаимствованная для этого случая. Десять дней спустя Синглтон с бесшумным пистолетом проник боковым входом в муниципалитет и застрелил пятерых видных чиновников и по ошибке одного из посетителей. Ни в чем не повинный человек этот получил пулю, предназначавшуюся мэру, который в ту минуту наклонился, чтобы подтянуть язык башмака.
– Досадный случай, – сказала тетушка Мэтти. – Это портит праздничное настроение.
Кэлхун услышал, как девушка захлопнула книгу. Она приблизилась к живой изгороди и, на мгновение повернув к ним маленькое свирепое лицо на вытянутой вперед шее, направилась обратно к дому.
– Непохоже, что портит! – прокричал Кэлхун. – Я видел, когда ехал по городу – полно народу, и флаги все подняты. Мертвых Партридж похоронит, а выгоды своей не упустит.
На середине этой фразы дверь за девушкой с шумом закрылась.
Тетушка Бесси ушла в дом, но вскоре возвратилась с небольшой кожаной шкатулкой.
– Очень ты похож на нашего отца, – сказала она и придвинула свое кресло поближе к внучатому племяннику.
Кэлхун нехотя поднял крышку шкатулки – при этом на колени ему посыпалась ржавая пыль – и вынул миниатюру с изображением прадеда. Ему демонстрировали эту реликвию всякий раз, как он приезжал. Старик – круглолицый, лысый, совершенно заурядного вида – сидел, уперев руки в набалдашник черной трости. Лицо его выражало наивность и решительность. «Отменный торгаш», – подумал Кэлхун и передернулся.
– Интересно, что сказал бы сей почтенный муж о сегодняшнем Партридже? – проговорил он с кривой усмешкой. – Застрелено шесть граждан, а праздник в разгаре.
– Отец был человеком передовым, – заметила тетушка Бесси. – Партридж не знал, пожалуй, столь дальновидного коммерсанта. Он мог оказаться среди тех видных людей, которые были убиты, или обуздал бы маньяка.
«Долго я этого не выдержу», – подумал Кэлхун. В газете были напечатаны фотографии Синглтона и его шести жертв. Привлекало внимание только лицо Синглтона, широкоскулое, но худое и сумрачное. Один глаз казался круглее другого, и в этом более круглом глазу Кэлхун прочел хладнокровие человека, который знает, что ему предстоят страдания, и готов выстрадать право быть самим собой. Сметливость и презрение притаились в другом глазу: но, в общем, это было измученное лицо человека, доведенного до безумия окружающим его безумием. На остальных шести лицах отпечатался тот же штамп, что и на физиономии его прадеда.
– С годами ты станешь еще больше похож на нашего батюшку, – предрекла тетушка Мэтти. – Вот и румянец у тебя такой же, да и выражение лица почти то же.
– Совершенно ничего общего, – сказал он холодно.
– Ну просто кровь с молоком, – захохотала тетушка Бесси. – Уже животик появляется. – И она ткнула его кулаком в живот. – Сколько годочков нашему малышу?
– Двадцать три, – пробурчал он, думая о том, что долго ведь так не может продолжаться, ну, немного помучают, да и отстанут.
– А девушка у тебя есть? – спросила тетушка Мэтти.
– Нет, – ответил он устало. – Надо полагать, – продолжал он о своем, – что Синглтона считают здесь просто сумасшедшим.
– Да, – сказала тетушка Бесси. – Со странностями. Он всегда не хотел жить по правилам. Он не такой, как все мы.
– О, это страшный порок, – заметил Кэлхун.
У самого Кэлхуна глаза, правда, не разные, зато лицо такое же широкое, как у Синглтона, а главное, между ними, несомненно, есть духовное сходство.
– Раз он ненормальный, то не отвечает за свои поступки, – заметила тетушка Бесси.
Глаза у Кэлхуна загорелись. Он подался вперед, пронзая старую даму прищуренным взглядом.
– А кто же тогда истинный виновник?
– У нашего батюшки к тридцати годам на голове был один пушок, как у новорожденного, – сказала она. – А ты бы лучше, пока не поздно, подыскал себе девушку. Ха, ха! Чем ты намерен сейчас заняться?
Он вынул из кармана трубку и кисет. Их ни о чем нельзя спрашивать всерьез. Обе они добропорядочные протестантки, но у них порочное воображение.
– Собираюсь писать, – заявил он и принялся набивать трубку.
– Что ж, – сказала тетушка Бесси, – превосходно. Может, из тебя выйдет вторая Маргарет Митчелл.
– Надеюсь, ты воздашь нам должное! – прокричала тетушка Мэтти. – Не то что другие!
– Уж непременно воздам, – сказал он мрачно. – Я начал всту…
Он замолчал, сунул в рот трубку и откинулся назад. Просто смешно говорить все это им. Вынув трубку, он закончил:
– Ну, не стоит вдаваться в подробности. Вам, женщинам, это неинтересно.
Тетушка Бесси многозначительно склонила голову.
– Кэлхун, – сказала она, – нам не хотелось бы в тебе разочаровываться.
Они так разглядывали его, словно их вдруг осенило: а ведь ручная змейка, с которой они играли, может быть и ядовитая!
– И познайте истину, – произнес он, уничтожая их взглядом, – и истина сделает вас свободными.
По-видимому, то, что он цитирует священное писание, успокоило их.
– До чего же он мил с этой трубочкой в зубах, – заметила тетушка Мэтти.
– Ты бы, дорогой, все-таки лучше подыскал бы себе девушку, – сказала тетушка Бесси.
Через несколько минут он сбежал от них, отнес наверх свой чемодан и снова спустился, готовый отправиться в город, чтобы взяться за работу: он намеревался расспросить местных жителей о Синглтоне. Он надеялся написать такое, что оправдает безумца. И надеялся, написав это, смягчить собственную вину, ибо раздвоенность преследовала его, как тень, казавшаяся еще темнее рядом с цельностью Синглтона.
Ведь ежегодно три летних месяца он жил у своих родителей, вместе с ними торгуя кондиционерами, лодками, холодильниками для того, чтобы получить возможность остальные девять существовать естественно, взращивая свое истинное «я» бунтаря, художника, мистика. На это время он поселялся на другом конце города в неотапливаемом доме без лифта вместе с двумя парнями, которые тоже ничего не делали. Но чувство вины за летние месяцы преследовало его всю зиму: в сущности, он мог бы прожить и без того коммерческого разгула, которому предавался летом.
Когда он заявил родителям, что презирает их идеалы, они понимающе переглянулись, – судя по тому, что им приходилось читать, это было естественно, – и отец предложил ему небольшую сумму на квартиру. Он отказался, чтобы сохранить независимость, но в глубине души знал: дело не в независимости, просто ему нравится торговать. Перед покупателями на него находило вдохновение; лицо его начинало светиться, пот катился градом, и все сложности мгновенно исчезали. Он был во власти этого влечения, неодолимого, как влечение к спиртному пли к женщине; торговля так чертовски здорово ему удавалась, что фирма даже наградила его грамотой за особые заслуги. Он заключил слово «заслуги» в кавычки и использовал грамоту как мишень для игры в перышки.
Стоило ему увидеть в газете фотографию Синглтона, как этот образ вспыхнул в его воображении мрачной и укоряющей звездой освобождения. Наутро он предупредил тетушек о своем приезде и прибыл в Партридж, проделав сто пятьдесят миль за какие-нибудь четыре часа.
Тетушка Бесси остановила его, когда он выходил из дому:
– Возвращайся к шести, ягненочек, тебя будет ждать приятный сюрприз.
– Рисовый пудинг? – спросил он. Готовили они чудовищно.
– Намного приятнее! – сказала тетушка Бесси, закатывая глаза.
Он поспешно спустился с веранды.
Из соседнего дома снова вышла девушка с книжкой. Наверное, они знакомы. В детстве, когда он приезжал к тетушкам в гости, те неизменно притаскивали к нему поиграть кого-нибудь из соседских недотеп: то жирную идиотку в скаутской форме, то подслеповатого мальчишку, декламировавшего библейские тексты, а как-то привели почти квадратную девицу, которая подбила ему глаз и удалилась. Слава богу, он теперь уже взрослый, и они не посмеют развлекать его. Девушка из соседнего дома не взглянула на него, и он не стал с вей заговаривать.
Выйдя на улицу, он снова поразился буйному цветению азалий. Казалось, волны их разноцветным приливом неслись по газонам, вздымаясь у белых фасадов розово-малиновыми гребешками, гребешками белыми, с каким-то еще таинственным лиловатым оттенком, крутыми желто-красными гребешками. От этого изобилия красок у него перехватило дух. Мох свисал со старых деревьев. Дома, старомодные, построенные еще до гражданской войны, были на редкость живописны. Об этих местах некогда сказал его прадед, и слова эти остались девизом города: «Мы сеем красоту, а пожинаем деньги».
Тетушки жили в пяти кварталах от деловой части города. Кэлхун шел быстрым шагом, и вскоре перед ним открылась торговая площадь, в центре которой было обшарпанное здание муниципалитета. Солнце беспощадно жгло крыши машин, стоящих везде, где только можно. Флаги – государственные, штата и конфедерации – на каждом углу развевались на фонарях. Вокруг мельтешили люди. На тенистой улице, где жили его тетушки и где азалии были особенно хороши, он не встретил почти никого – все были здесь: глазели на жалкие витрины, вяло и почтительно проходили в здание муниципалитета, туда, где пролилась кровь.
Интересно, подумает ли хоть один из них, что он здесь по той же причине, что и все они? Ему не терпелось, подобно Сократу, прямо на улице затеять спор о том, кто истинный виновник шести смертей, но, оглядевшись, ои решил, что вряд ли кого-нибудь тут может заинтересовать подобная тема. Потом он забрел в аптеку. В ней было темно и неприятно пахло ванилью.
Он сел на высокий табурет у стойки и заказал лимонный напиток. У парня, который его обслуживал, были холеные рыжие бачки и на рубахе – значок праздника азалий, тот самый, который отказался купить Синглтон. Кэлхун сразу это приметил.
– Я вижу, вы отдали дань этому богу? – сказал он.
Парень, видимо, не понял, о чем речь.
– Я про значок, – сказал Кэлхун. – Значок.
Парень взглянул на значок, потом снова на Кэлхуна.
Он поставил напиток на стойку, но продолжал смотреть на Кэлхуна, словно бы подметил в посетителе какое-то забавное уродство.
– Ну как вам праздник? – спросил Кэлхун.
– Вообще все это? – переспросил парень.
– Эти славные торжества, хотя бы вот шесть смертей, – продолжал Кэлхун.
– Да, сэр, – согласился парень. – Шесть человек недрогнувшей рукой. И четверых из них я знал лично.
– Ну тогда, значит, вы тоже отчасти знаменитость, – сказал Кэлхун.
И вдруг он явственно ощутил, как притихла улица. Он повернулся к двери и увидел проезжавший мимо катафалк, за которым гуськом медленно шли машины.
– У этого отдельные похороны, – почтительно объяснил парень. – Тех пятерых, в которых тот целил, хоронили вчера. Всех разом. А этот не поспел помереть.
– Их руки обагрены кровью безвинных и виновных, – сказал Кэлхун, сверкая глазами.
– Кого это «их»? – спросил парень. – Все это один человек наделал. Его фамилия Синглтон, он чокнутый.
– Синглтон был лишь орудием, – сказал Кэлхун. – Виноват Партридж. – Он залпом выпил напиток и поставил стакан.
Парень смотрел на него как на сумасшедшего.
– Партридж никого застрелить не может, – проговорил он сердито.
Кэлхун положил на стойку десять центов и вышел. Последняя машина завернула за угол. Толпа как будто поредела. Видно, при появлении катафалка люди разбежались. Какой-то старик высунулся из соседней скобяной лавки и упорно глазел на угол, за которым скрылась процессия. Кэлхуну не терпелось поговорить. Он нерешительно подошел.
– Насколько я понимаю, это были последние похороны, – сказал он.
Старик приложил ладонь к уху.
– Похороны ни в чем не повинного человека! – прокричал Кэлхун и мотнул головой туда, где скрылся катафалк.
Старик оглушительно высморкался. Выражение лица у него было не слишком любезное.
– Единственная пуля, которая угодила куда следует, – сказал он дребезжащим голосом. – Этот Биллер просто пьяница и барахло, он и тогда был пьян.
Кэлхун нахмурился.
– Зато уж остальные пятеро – герои как на подбор, – проговорил он ехидно.
– Да, прекрасные люди, – сказал старик. – Погибли, исполняя свой долг. Мы им и похороны закатили как героям – всем пятерым – общие пышные похороны. Биллеровы-то родственнички побежали в похоронное бюро – мол, и Биллера к ним, да только тут уж мы все вмешались и не дали. Иначе это был бы позор.
«Боже правый!» – подумал Кэлхун.
– Одно доброе дело сделал Синглтон – избавил нас от Биллера, – продолжал старик. – Теперь бы еще кто-нибудь избавил нас от Синглтона. Живет себе, не тужит в Квинси, спит-ест задаром, а мы с вами за это налоги платим. Пристрелить бы его тогда на месте!
Это было так чудовищно, что Кэлхун онемел.
– А если уж решили держать его там, пускай платит за харч и квартиру, – сказал старик.
Кэлхун смерил его презрительным взглядом, повернулся и пошел. Он пересек улицу и направился к скверу перед муниципалитетом; он шел, не разбирая дороги, – лишь бы подальше от этого старого дурака, и чем скорее, тем лучше. Под деревьями стояли скамейки. Кэлхун отыскал свободную скамейку и сел. У входа в муниципалитет какие-то зеваки наслаждались видом «тюрьмы», где Синглтон был заточен вместе с козлом. Кэлхуна пронзило чувство дружеского сострадания. Ему вдруг показалось, будто его самого бросают в уборную: щелкает висячий замок, снаружи беснуется ревущая толпа, и он с ненавистью разглядывает ее сквозь прогнившие доски уборной. Козел издает неприличный звук; вот воплощение общества, к которому он прикован!
– А тут шестерых дядей убили, – послышался какой-то странный голос.
Он вздрогнул.
Маленькая белая девочка, сунув в рот бутылку кока-колы, сидела на песке у его ног и следила за ним с независимым видом. Глаза у нее были такие же зеленые, как бутылка. Она была босая, волосы белесые, прямые. Бутылка с цоканьем выскочила изо рта, и девочка сказала:
– Это сделал гадкий дядя.
Кэлхун как-то сник – так бывает, когда сталкиваешься с детской непосредственностью.
– Нет, – сказал он, – не гадкий.
Девочка сунула язык в бутылку, потом беззвучно вытащила его, продолжая смотреть на Кэлхуна.
– Люди его обидели, – объяснил он. – Они были плохие, злые. Что бы ты сделала с теми, кто тебя обидел?
– Постреляла бы всех.
– Вот и он то же самое сделал, – сумрачно сказал Кэлхун.
Она по-прежнему сидела на песке, не спуская с него глаз. Казалось, сам Партридж смотрит на него ее бездумным взглядом.
– Вы травили его и довели до безумия, – сказал Кэлхун. – Он не хотел покупать значок. Разве это преступление? Он жил здесь как посторонний, и вы не могли этого вынести. Одно из основных прав человека, – продолжал он, глядя в прозрачные глаза девочки, – это право не подражать дуракам. Право быть не как все. Господи, да просто право быть самим собой!
Не спуская с него глаз, она закинула ногу на ногу.
– Он гадкий, гадкий, гадкий! – повторила она.
Кэлхун встал и, глядя прямо перед собой, пошел прочь. Гнев застлал ему глаза туманом. Было трудно различить, что творится вокруг. Две школьницы в ярких юбках и курточках метнулись ему под ноги, визжа:
– Купите билет на конкурс красоты! Вы увидите сегодня вечером, кого Партридж изберет королевой азалий!
Он отпрянул в сторону, но их хихиканье сопровождало его до самого муниципалитета и дальше. Наконец он остановился в нерешительности; перед ним была парикмахерская, видимо пустая и прохладная. Помедлив, он вошел.
Клиентов не было, парикмахер поднял голову из-за газеты. Кэлхун попросил постричь его и блаженно опустился в кресло.








