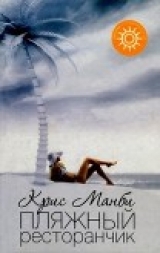
Текст книги "Пляжный ресторанчик"
Автор книги: Крис Мэнби
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Жду вас, мои птенчики! Все уже заказано!
Все это время Эрик сидел обхватив руками голову и слабо постанывал.
– Это всего лишь обед, – сказала я. – Осталось продержаться совсем немного. Подбросишь меня до Лос-Анджелеса, позвонишь маме, скажешь, что я улетела в Лондон, а потом – свобода! Встречайся с кем хочешь! Ну, с кем ты там обычно встречаешься…
Эрик согласно закивал головой.
– Но в данный момент, – напомнила я ему, – тебе придется вести себя как мужчине, который только что сделал предложение любимой женщине. А это, между прочим, если ты не в курсе, значит, что ты вполне можешь отнести к машине мои вещи. Тогда мы сможем сбежать отсюда сразу после кофе.
К сожалению, в намерения Эльспет не входило отпустить «птенчиков» на волю с пакетом бутербродов и парой воздушных поцелуев вдогонку. Я надеялась, что мы элегантно пообедаем втроем. Увы…
Когда мы с Эриком появились на открытой террасе, нас встретили звуки нестройного хора родственников и друзей семьи Нордоффов. Дурными голосами они запели «Вот идет невеста».
Я успела заметить, что семейный хор выступал в обновленном составе: присоединившийся к клану Нордоффов муж Бобби подпевал наравне со всеми. Нам сообщили, что новобрачные сделали большое одолжение, отложив на день свадебное путешествие ради того, чтобы поздравить нас с Эриком с таким важным событием в жизни.
– Очень мило с вашей стороны, но право же, не стоило беспокоиться, – ответила я за себя и за «жениха». Эрик молчал как пень.
– Девочка, неужели ты думаешь, что я упущу возможность отметить помолвку своего единственного сына? – всплеснув руками, возразила мне Эльспет Нордофф, окончательно похоронив мои надежды смыться из Санта-Барбары с минимальными потерями и как можно скорее.
Нас с Эриком посадили по обе руки от его матери. Справа от Эрика восседала тетя Кэтрин, меня же засунули между «будущей свекровью» и тетей Мадлен. В общем, за столом сидела вся очаровательная семейка. Включая зловредных кузин. Мне почему-то не понравилось, что доктор Скотт Уолкер оказался зажат между ними.
– Мне не терпится познакомиться с тобой получше, – сказала мне Эльспет.
Она была настроена решительно и, судя по всему, давно готовилась к этому допросу. Причем список вопросов был составлен так, что я едва не решила, что меня нанимают в секретари, а не оценивают в качестве будущей невестки. Семья, образование, политические взгляды… Вредные привычки, аллергии, генетические мутации? Ладно, шучу, про мутации меня не спрашивали.
Тем не менее к тому времени, как подали копченого лосося (сама я терпеть не могу копченую рыбу, но Эльспет заказала ее для всех), я уже ответила на такое количество вопросов, что в любой телевикторине мне полагался бы главный приз. Вопросы сыпались на меня один за другим, только успевай отвечать. Утешало одно: Эльспет ни разу не нахмурилась и не посмотрела на меня недовольно. Судя по всему, мои ответы ее вполне устраивали. Наконец настала очередь главного вопроса – «на миллион долларов». К счастью, пообщавшись накануне со Скоттом, я получила подсказку и теперь надеялась, что не «проколюсь».
– Лиззи, как вы относитесь к живописи?
Живопись. Слабость Эльспет Нордофф.
Не зря она была членом попечительских советов едва ли не десятка музеев от Лос-Анджелеса до Долины Смерти. Скотт успел рассказать мне, что Эльспет даже согласилась выставить один из принадлежавших ей набросков Пикассо на аукцион и перевела полученные деньги на счет клиники для покупки нового оборудования. В общем, отвечать на поставленный вопрос можно было только утвердительно.
– Я люблю живопись.
Миссис Нордофф выжидательно посмотрела на меня.
– И что именно?
– Ну… Импрессионистов, например, – осторожно призналась я.
– Мазня, – отмахнулась миссис Нордофф небрежно. – У вас есть любимая картина?
Я обратила внимание, что Эрик отложил вилку с ножом и смотрит на меня почти так же напряженно, как его мать. Вот только в его взгляде помимо напряжения читалась еще и мольба: «Ну, не подведи меня – угадай, что маме нужно».
– Моя любимая картина? – задумчиво протянула я, стараясь выиграть время. – Какая же у меня любимая картина?
Вся эта ситуация напомнила мне один случай. Однажды я уже чувствовала себя так – в тот день, когда сдавала экзамен по французскому. Не в силах вспомнить, на нервной почве, как произносится по-французски слово «пианист», я возьми да и брякни перед комиссией что-то вроде «пенис». Вот и сейчас мне в голову не лезло ничего, кроме «Кувшинок» Моне. Учитывая, как миссис Нордофф перекосило при упоминании импрессионистов, называть эту картину было бы глупо. Я плохо запоминаю названия. «Мона Лиза»… «Подсолнухи» Ван Гога… Наконец я выпалила название той картины, которую вряд ли смогла бы забыть.
– «Мистер и миссис Кларк с Перси», – сказала я. – Дэвида Хокни. В этой картине он переворачивает традиционное представление о портрете с ног на голову. Мужчина сидит, а не стоит. И тем не менее именно он является доминирующей фигурой на полотне – благодаря противоречивой агрессивно-безжизненной позе.
– Похоже, эта картина действительно врезалась вам в память, – заметила миссис Нордофф.
– Ну не знаю…
Мне показалось, что в голосе пожилой дамы прозвучала ирония, но, встретившись с ней взглядом, я поняла, что миссис Нордофф искренне и с одобрением улыбается мне – в первый раз за все время нашего знакомства.
Она и сама не понимала, насколько попала в точку, сказав «врезалась в память». Другое дело, что эта картина имела для меня такое большое значение вовсе не из-за художественных достоинств. Это была любимая картина Ричарда. Сколько раз он говорил мне о ней! Да-да, это была именно его любимая картина, а не моя. Лично мне куда больше нравился старый добрый Моне с его «Кувшинками». Впрочем, свои истинные предпочтения я вряд ли смогла бы внятно обосновать даже в том случае, если бы миссис Нордофф не раскритиковала их в пух и прах. Я всегда обходилась банальной фразой «мне просто нравится», в то время как Ричард мог привести тысячи доводов, как сугубо субъективных, так и строго академических, в пользу того, что этот известный портрет кисти Дэвида Хокни является величайшим произведением мировой живописи. Картина «Мистер и миссис Кларк с Перси» была источником вдохновения для Ричарда. Ему очень хотелось научиться схватывать образы своих моделей в той же манере, в какой Хокни удалось запечатлеть своего лучшего друга и его жену.
В общем, если уж говорить о том, что врезалось мне в память, то, помимо самой картины, не меньшее количество воспоминаний у меня было связано с Ричардом: вот мы стоим в зале галереи Тейт перед портретом Кларков, он обнимает меня, кладет голову мне на плечо и шепчет на ухо какую-то ерунду о том, почему именно эта картина приводит его в восторг.
– Должно быть, вы знаете, что мистер Хокни теперь живет и творит в Лос-Анджелесе, – гордо сказала миссис Нордофф. – У меня, кстати, есть парочка его небольших работ. А еще одно его полотно висит дома у Эрика. Я подарила ему эту картину на восемнадцатилетие. Представляю, как вы обрадовались, увидев ее! Правда, замечательная работа?
Я охотно закивала. На самом деле никакой картины Хокни у Эрика я не видела, а если бы и увидела, то вряд ли обратила бы на нее внимание.
– Да ведь мы же опаздываем! – воскликнул Эрик, соизволив наконец прийти мне на помощь.
Удовлетворив любопытство и удостоверившись в том, что в качестве невестки у нее будет не какая-нибудь серость, миссис Нордофф («можешь называть меня Эльспет») соизволила наконец отпустить нас. К машине мы направились едва ли не бегом, не переставая при этом махать на прощание. Мы рванули прочь на такой скорости, что это было даже невежливо. Оказавшись на безопасном расстоянии от отеля «Билтмор» и очаровательных родственников, мы притормозили у первого попавшегося бара и заказали себе по двойному виски со льдом.
– За свободу! – поднял тост Эрик, распуская узел на галстуке. – Наконец-то я снова могу быть самим собой!
– Как насчет моего гонорара? – поинтересовалась я. – Надеюсь, я его заслужила?
– На все сто!
– Что скажешь, я ей понравилась?
– Да мама от тебя просто в восторге! – заверил меня Эрик. – Я даже не ожидал, что ты так здорово разбираешься в живописи.
– Да брось ты, – отмахнулась я, – должна признаться, мне просто удалось удачно вставить пару цитат из одного учебника по истории искусства.
– Так цитировать тоже нужно уметь. У тебя, по крайней мере, все было к месту. Лично я поверил в то, что ты знаешь, о чем говоришь. Мама тоже купилась. За что тебе спасибо.
Эрику явно стало легче. Ласковый взгляд и пара добрых слов от матери оказались для него идеальным антидепрессантом. У него даже морщины на лице разгладились.
– Знаешь, что во всем этом самое главное? – спросил он меня.
– Что?
– А то, что мама даже спросила, что я сейчас снимаю. Ты как раз ненадолго вышла перед самым отъездом, а она взяла меня за руку и сказала, что видела «Дамскую комнату». А потом добавила, что, с ее точки зрения, я вполне смогу стать великим режиссером. Представляешь себе, Лиззи? Даже не просто хорошим, а великим!
– Здорово!
– Для меня это важнее, чем получить «Оскар». Да, слушай, видела бы ты глаза мамы в тот момент, когда я сказал ей, какой фильм собираюсь снимать.
– Ну и какой же?
– Буду экранизировать Толстого. «Воскресение».
– Ничего себе! Ну ты и замахнулся!
Я вспомнила, что подпирала какой-то толстой книгой дверь прошлым летом, чтобы в доме не было так душно, и у меня возникло глубокое подозрение, что это был именно этот роман.
– Вот и мама одобряет мой выбор. Она даже сказала, что всегда знала, что рано или поздно сможет гордиться мной.
Эрик вытер глаза салфеткой, и мне даже показалось, что сейчас мы оба разрыдаемся, как участники шоу Опры Уинфри. Но все же мы смогли взять себя в руки. Эрик первым собрался с мыслями.
– Хочешь, заедем ко мне по дороге, – предложил он, – посмотришь моего Хокни.
– Да нет, спасибо. Честно говоря, я не поклонница Хокни, – вежливо отказалась я. – Поеду лучше домой.
Сидя в роскошной машине, все еще в платье и пиджаке от «Армани», я вспоминала разговор за обедом. Надо же, как все сложилось… «Мистер и миссис Кларк с Перси», Хокни. Хокни – любимый художник Ричарда, одну из последних работ которого можно посмотреть у Эрика дома. Ричард был бы в восторге, предоставься ему такая возможность. Одним тем, что я не поехала смотреть эту картину, я как бы показала Ричарду язык, пусть даже издалека. «Вот так, – словно говорила я ему, – плевать мне на все то, что тебе интересно и дорого. Плевать. Меня это больше не волнует. По крайней мере не должно волновать».
Это был маленький бунт. Пускай детский. Но, следует признать, легче мне не стало.
Глава 17
Эрик высадил меня в полумиле от моего дома. Он почему-то решил, что не стоит заезжать в наш квартал в открытом кабриолете. Пожалуй, он был прав. Помахав ему на прощание, я отправилась домой. Чувствовала я себя как Золушка после бала. Дома я убрала шикарные туфли в шкаф и переоделась. Наряд от «Армани» заменили кричащие разноцветные шмотки, в которых я пошла на работу, – в «Ледибойз» была как раз моя смена.
Джо все так же выступал вместо Саши Тристелл. Под утро, когда мы возвращались, я рассказала ему про свадьбу. Джо от души посмеялся над тем, как я удостоилась предложения руки и сердца.
– Мне тут Брэнди нагадала скорое замужество, – грустно вздохнула я, – но, надеюсь, она имела в виду не это.
Мне не терпелось спросить ее об этом, а заодно и поделиться впечатлениями о поездке в Санта-Барбару. До работы мы с ней не виделись – Брэнди уехала куда-то на очередные пробы.
– Слушай, а как у Брэнди прошла последняя встреча? – спросила я Джо.
– Понятия не имею. Я еще не видел ее.
Когда мы с Джо подъехали к дому в шесть утра, Брэнди сидела на ступеньках крыльца. В руках у нее дымилась сигарета.
– Ты что, куришь? – удивилась я. – Ты же вроде бросила?
Джо стрельнул у Брэнди сигарету и, усыпив нашу бдительность, первым проскользнул в ванную. Опять вся горячая вода достанется ему, недовольно подумала я. Нам с Брэнди обычно хватало запаса в водогрее, чтобы помыться обеим. Другое дело Джо. Он, как «настоящая женщина», выливал всю воду из бака, если успевал влезть под душ первым, и мы вынуждены были мыться холодной водой. Раньше, когда мы жили в Англии, он мылся не чаще чем раз в месяц, да и то если ему вдруг приходило в голову, что ФБР пустило по его следу ищеек. Теперь Джо ударился в другую крайность и, как маньячка-чистюля, готов был чистить зубы после каждого драже «Тик-так». В общем, единственное, что не устраивало меня в новом образе Толстого Джо, это его чрезмерная страсть к водным процедурам.
В любой другой день Брэнди непременно крикнула бы ему вслед что-нибудь вроде: «Не забудь, что ты здесь живешь не один. Помни о ближнем!» Но сегодня она почему-то промолчала.
Вместо этого подруга посмотрела на меня снизу вверх и, не выпуская изо рта сигарету, изобразила жалкое подобие улыбки. Что-то с ней было не так. Я смотрела на Брэнди и не могла понять, что именно изменилось в ее лице. Вот так же было, когда мне в юности сняли скобки с зубов и все знакомые говорили: «Ты как-то изменилась», но не могли сообразить, в чем дело. Я снова взглянула на Брэнди, и меня осенило: она была не накрашена. Нет, я не могу сказать, что без грима она была некрасивой, но дело в том, что даже я, прожив с ней бок о бок почти полгода, еще ни разу не видела подругу без косметики. Брэнди всегда была при параде, даже в шесть утра (исключая те часы, которые она проводила с маской из авокадо на лице). Но дело было даже не в отсутствии макияжа. Брэнди была сама не своя, она выглядела усталой и измотанной.
Я подсела к ней на ступеньку и некоторое время мы молча созерцали открывавшийся с нашего крыльца вид. «Видом», впрочем, был искореженный кузов сгоревшей машины, который неделю назад кто-то приволок к нашему дому и бросил здесь. В лучах рассвета и это смотрится неплохо, утешила себя я.
– Что-то случилось? – спросила я наконец у Брэнди.
– Да нет, ничего, – ответила она.
Когда человек так отвечает, становится ясно, что у него неприятности.
Я знала, что накануне Брэнди неожиданно вызвали на внеочередные пробы: шел отбор на эпизоды в одном комедийном сериале. Никакой важной роли, так, помелькать, помахать волосами, облизнуть губки.
– Что, плохо прошло? – спросила я.
– Можно и так сказать. – Она глубоко затянулась и щелчком отправила сигарету прямо в центр муравьиной дорожки, которая пролегала из сада через крыльцо к нам на кухню (последний месяц муравьи исправно и неутомимо перетаскивали к себе всю не спрятанную в холодильник еду).
– Да что случилось-то? – спросила я. – Опять раздеваться пришлось?
Брэнди кивнула.
– Ну что ж, – начала я, – ты ведь и сама понимаешь, чего можно ждать, если пробуешься на роль в фильме с названием «Куколки из спальни». Поговори об этом в агентстве. Пусть подбирают тебе другие предложения. В конце концов, не хочешь раздеваться – тебя никто и не заставит.
– Что значит «не хочешь»? Тоже мне, проблема – снять лифчик перед камерой…
– Ты серьезно?
– Да абсолютно. Если бы я не переживала из-за того, что мне не стыдно это делать, я вообще бы об этом не задумывалась. А так, сама понимаешь, отголоски католического воспитания…
– Тогда в чем дело? – бросила я беззаботно. – Какие проблемы могут быть у актрисы, которая не смущается сниматься голышом?
Брэнди отсутствующим взглядом уставилась в пространство и только покусывала верхнюю губу. Казалось, она меня не слышит. Я вдруг поняла, что подруга изо всех сил пытается не расплакаться.
– Тебе сказали, что ты плохая актриса? – сделала я еще одну попытку разговорить ее.
– Нет.
– Сказали, что ты уже старовата для этой роли?
– Нет, – отвечала она. – Нет.
Несмотря на то что Брэнди изо всех сил старалась держать себя в руках, у нее по щеке скатилась большая слеза.
– Не в этом дело, – повторила она, закрывая лицо ладонями. – Совсем не в этом.
Брэнди разрыдалась, плечи ее вздрагивали.
Я обняла подругу, погладила по голове, даже поцеловала в макушку. Бесполезно. Она продолжала плакать. Я не знала, что и думать. Все было не так, как обычно. В конце концов, Брэнди не впервые возвращалась с проб, не получив приглашения на роль. Обычно ее расстройство внешне выражалось максимум в том, что, пустив слезу-другую (чтобы только тушь не потекла), она выходила во двор и начинала «бой с тенью», отрабатывая приемы джиу-джитсу на воображаемом режиссере. Продолжалось это до тех пор, пока невидимый обидчик не оказывался поверженным и втоптанным в землю.
Видимо, на этот раз неудача стала последней каплей. Брэнди жила в Лос-Анджелесе уже три года. Конечно, с некоторых пор ей уже не приходилось обитать в машине, но, положа руку на сердце, наша лачуга не сильно выигрывала по сравнению со старым «ниссаном». И хотя Брэнди сказала, что может запросто раздеться перед камерой, прозвучало это как-то неубедительно. По всей видимости, плакала она из-за того, что очередная роль ускользнула от нее к более молодой актрисе.
Дело в том, что Брэнди чаще всего доставались роли девочек-подростков и студенток. В таком амплуа она числилась и в агентстве. Естественно, что рано или поздно это должно было закончиться. Брэнди, видимо, просто осознала, что ее время истекло. В таком возрасте мечтать о начале серьезной актерской карьеры глупо. В общем, Кэмерон Диас может спать спокойно – Брэнди не станет ее конкуренткой. Равно как и конкуренткой Дженнифер Лопес. На пятки Брэнди и другим непробившимся актрисам в возрасте «под тридцать» наступает целый полк охотниц за удачей в возрасте «слегка за двадцать». У них такие же ноги, такая же грудь, такие же волосы – только всё посвежее. А то, что они про «Дюран-Дюран» и слыхом не слыхивали, так что с того?
– Не расстраивайся, – попыталась я утешить Брэнди, – рано или поздно всем нам придется пройти через это. Тебе просто нужно поменять амплуа. Брэнди, у тебя еще все впереди. Поговоришь с агентом, пусть он вызывает тебя на пробы на роли женщин постарше. Характерные роли. Рене Руссо до сорока лет вообще никто не знал. Зато потом… А ты, кстати, даже чем-то похожа на нее.
Брэнди подняла голову и посмотрела на меня. Похоже, мои попытки утешить ее были тщетны.
– Да не в этом дело, – тихо прошептала она. – Я не боюсь состариться, Лиззи. Это хуже, намного хуже, – она глубоко и горько вздохнула. – О боже…
– Что может быть хуже?
Брэнди закрыла глаза, словно в очередной раз вспоминая о чем-то тяжелом, таком, что даже нельзя произнести вслух.
– На пробах мне велели раздеться, а потом ко мне подошел ассистент режиссера и сказал, что у меня с грудью что-то не так.
– Вот скотина! – вздохнула я с облегчением. – Сказал бы спасибо, что у тебя все настоящее, а не из силикона.
– Уж лучше бы из силикона, – процедила Брэнди сквозь зубы. – Тогда, возможно, у меня не было бы рака груди.
– Брэнди, ты преувеличиваешь, – пробовала я урезонить ее, проходя следом за подругой в комнату. Но когда мы вошли, она сняла футболку и показала мне складку на груди, рядом с подмышкой. Складка была похожа на шов или на старый шрам. Тут и мне тоже стало страшно.
– Потрогай, – скорее скомандовала, чем попросила, Брэнди. – Давай. Потрогай и скажи, преувеличиваю я или нет.
Я робко протянула руку и дотронулась до груди Брэнди. Это было легкое прикосновение, и я не почувствовала ничего, кроме острого смущения. Но Брэнди положила свою руку поверх моей, надавила посильнее, и тут, действительно, я, кажется, почувствовала нечто. Оно было похоже на маленький шарик. Крошечный, чуть больше горошины.
– Не надо делать преждевременных выводов, – авторитетно заявила я. В глубине души мне было очень стыдно за огромное облегчение, которое я испытала, когда Брэнди снова надела футболку. – Опухоли разные бывают. В первую очередь надо выяснить, злокачественная она или доброкачественная. Потому что в большинстве случаев опухоли доброкачественные.
– Это с моей-то наследственностью? Да у меня мать умерла от рака груди!
– Но она же была значительно старше тебя, – не сдавалась я. – Пока рано бить тревогу, – добавила я веско. Я скорее старалась убедить в этом себя, чем Брэнди. – Мы позвоним твоему врачу и запишемся на прием прямо сегодня днем. Если хочешь, я схожу с тобой.
– Да нет у меня никакого врача!
– Ты не закреплена ни за каким врачом в Венис-Бич?
– Да нигде я не «закреплена»! У меня вообще нет медицинского полиса.
До меня не сразу дошел смысл ее слов, но, когда я наконец поняла всю важность того, что Брэнди только что сообщила, мне стало страшно.
– Мы что-нибудь придумаем, – тут же сказала я уверенно. – Безвыходных положений не бывает.
Эту, последнюю, фразу я прочла на плакатике, который висел у Брэнди на стенке шкафа, с внутренней стороны дверцы. «Победа будет за мной» – говорилось на открытке, которую Брэнди прикрепила к зеркалу в своей комнате.
– Победа будет за тобой, – сказала я уверенно.
Брэнди издала неопределенный звук – то ли шмыгнула носом, то ли фыркнула.
– Правда, Брэнди, ты же непобедима!
Оказалось, что Брэнди даже в голову не приходило обзавестись полисом медицинского страхования и платить ежемесячные взносы. Она сказала, что ей это казалось пустой тратой денег. По ее мнению, полисами должны обзаводиться больные или семейные, то есть те, у кого есть реальная опасность угодить в больницу. Она же была еще молода, ничего у нее не болело. И зачем, спрашивается, отдавать деньги кому-то, когда самой нужны новые вещи, маникюр, педикюр и прическа для кинопроб? Каждый свободный цент она с готовностью тратила на наведение лоска, а лоск наводила, чтобы получить следующую работу, где можно будет заработать еще немного.
Я не собиралась читать Брэнди лекцию, прекрасно понимая, что на ее месте тоже задвинула бы медицинский полис на задний план. Мне просто повезло, что в той стране, откуда я приехала, страховка необязательна – если что, и так вылечат.
В тот же день мы с Брэнди поехали в ближайшую больницу и, проведя там некоторое время, я впервые в жизни почувствовала гордость за британскую систему здравоохранения. Нет, конечно, сидя в очереди к бесплатному врачу, особой радости в любом случае не испытываешь. Врачи и медсестры, работающие в государственных клиниках, всегда перегружены работой, в любой стране мира. Другое дело, что у нас, в Англии, у человека не возникает, по крайней мере, ощущения, что, не будь у него кредитной карты страховой компании, ему не видать бы медицинского обслуживания нормального уровня как своих ушей.
В приемном покое мы сидели в одной очереди с теми нищими и бездомными, которые обычно выпрашивали у меня деньги. В какой-то момент в одном из кабинетов раздались пьяные крики и, судя по звукам, даже началась драка. Брэнди сидела сжавшись в комок и подтянув под себя ноги. Никогда раньше не видела я ее такой напуганной. Она замкнулась в себе, словно залезла в ракушку. Как будто она, утратив характерную уверенность в себе, превратилась в беззащитного ребенка; от волевой женщины, твердо идущей к намеченной цели, не осталось и следа. Рядом со мной сидела маленькая девочка из провинциального городка, которой в этот момент больше всего на свете хотелось оказаться где угодно, только не в больнице.
Я понимала, что с ней творится. Этот страх знаком любой женщине. Практически у каждой из нас найдется подруга, знакомая или родственница, у которой врачи обнаружили рак груди. Конечно, в большинстве случаев это происходит с женщинами в возрасте. Впрочем, от этого не легче.
У нас в школе была учительница истории, мисс Блейн. Ученики ее не любили. Она явно старалась не столько добиться хороших отношений с нами, сколько хорошо подготовить к экзаменам. Нет, сейчас, конечно, я понимаю, что она из кожи вон лезла, чтобы вложить нам в головы хоть какие-то знания. Мы же ее за это просто ненавидели. Нам казалось, что мисс Блейн задает на дом едва ли не вдвое больше, чем все остальные учителя, вместе взятые. Естественно, мы придумывали ей одно прозвище за другим. Пожалуй, самым популярным было Тефлоновые Сиськи.
Мисс Блейн пережила операцию по удалению обеих молочных желез. Скрыть последствия подобной операции в то время было невозможно. Ее грудные протезы торчали под одеждой остроконечными пирамидками, как стаканчики из-под мороженого. Было это задолго до того, как Мадонна сделала подобный силуэт модным, надев свой знаменитый бюстгальтер от Жана-Поля Готье.
Тем не менее, даже хихикая в спину мисс Блейн и повторяя шепотом наше жестокое прозвище, мы делали это скорее из страха. Страха перед мастэктомией, перед самим даже словом. Это едва ли не самое страшное, что только может случиться с женщиной. Если не считать изнасилования, это самый жестокий и эффективный способ заставить женщину навсегда забыть о своей женственности. Даже возможность такого кошмара является постоянным напоминанием каждой из нас о том, какие мы хрупкие и уязвимые. Грудь для женщины – это не просто часть тела. Это своего рода символ. Символ зрелости, сексуальности, материнства. В общем, я прекрасно понимала, каково сейчас Брэнди и о чем она думает. Она уже представила себя с повязкой-бандажом на том месте, где всегда был эффектный лифчик. Она представила себе, каково это – жить и бояться взглянуть на саму себя в зеркало в ванной. А когда она сможет раздеться при ком бы то ни было – вообще неизвестно. Может быть, никогда.
А еще я чувствовала, что Брэнди думает о том, не накликала ли она каким-то образом это несчастье. Не наказание ли это за то, что она так гордилась своим телом. Своим телом она зарабатывала на жизнь – видит Бог, не в грязном смысле этого слова. Тем не менее колесо судьбы повернулось так, что у нее обнаружился рак груди – не то в наказание, не то в назидание.
Я крепко сжала руку подружки.
– Все будет хорошо, я тебе обещаю, – сказала я с напускной уверенностью. – Врач тебе все объяснит. Наверняка окажется какая-нибудь ерунда, в худшем случае – гормональные нарушения, – добавила я с умным видом. – Поедем домой, заберем Джо и устроим прогулку по барам. Отметим это дело как полагается.
– Спасибо, Лиззи. – Брэнди выдавила улыбку, приподняв подбородок с колен. – Все обойдется, правда же?
Я снова кивнула. Но в клинике в тот день явно творилось что-то не то. У меня было ощущение, что, кто бы сюда сегодня ни обратился, у этого человека нашли бы целый букет самых страшных болезней. Так оно и получилось. Усталая женщина-врач сказала Брэнди, что придется сделать биопсию. Но по ее натужной улыбке я поняла, что как медик она практически на сто процентов уверена в том, что диагноз будет убийственным. Я крепко обняла Брэнди, словно это могло помочь ей легче принять дурные новости.
– Все равно нужно будет сделать анализы, – сказала я подруге. – Даже врач не может ничего определить только на основании осмотра.
Взгляд Брэнди скользил по пачке направлений на анализы, которые ей выписали.
– Знаешь, сколько мама сдавала таких анализов? – пробормотала она себе под нос. – Все эти бумажки я выкинула после ее смерти.
– Я бы тоже не стала их хранить, – сказала я.
Сменившая врача медсестра сумела найти для Брэнди хоть какие-то человеческие чувства. Она протянула ей пластиковый стаканчик с водой и даже ободряюще похлопала по плечу. К сожалению, мы у нее были не одни и ей пришлось переключить внимание на следующего пациента.
– У меня рак, – очень тихо, едва слышно сказала Брэнди.
– Ну, знаешь, этого тебе еще никто не говорил, – возразила я. – Биопсия запросто может показать, что у тебя все в порядке. А эти уплотнения в груди могут появиться совсем по другой причине. Ты еще молодая, и рак в таком возрасте маловероятен.
Брэнди приложила палец к губам, жестом показывая, что просит меня замолчать.
– Лиззи, я все понимаю, ты пытаешься меня ободрить, и я тебе за это очень благодарна. Но я прекрасно понимаю, что все это значит. Мама умерла, когда ей было сорок восемь лет. Через два года умерла ее сестра.
– Ну и что? Тебе-то сколько лет, не забывай! – напомнила я подруге. – Всего-то двадцать семь!
– Мне уже тридцать четыре, – сказала Брэнди. – Когда мы познакомились, я имела в виду свой вечный возраст для Голливуда.
Глава 18
Через неделю после посещения бесплатного врача Брэнди отправилась в ту же клинику на биопсию. Когда медсестра впервые упомянула при ней название процедуры – цитологическая аспирация, – Брэнди сказала, что это очень похоже на хруст чипсов во рту. Но потом выяснилось, это значит – биопсия тонкой иглой. Ничего общего с мирным и смачным поглощением жареной картошки.
Я всегда думала, что в Америке человека без медицинской страховки лечить вообще не будут. К счастью, я все-таки ошибалась. Пока мы с Джо ждали Брэнди в приемном покое, кто-то из сотрудников больницы выдал нам список медицинских организаций, где люди, у которых не было денег, могли получить помощь. Правда, там на все процедуры и уж тем более на операции были огромные очереди. Результатов анализов приходилось ждать по нескольку дней. Тем не менее, когда я набирала номер службы бесплатной помощи больным раком, у меня возникло ощущение, что меня сейчас соединят напрямую с каким-нибудь святым, не меньше. И волновалась я намного сильнее, чем когда звонила Эрику Нордоффу.
Буквально через неделю Брэнди предложили пройти обследование. Мы с Джо отвезли ее в клинику. Там мы собирались подождать ее, сколько потребуется, но Брэнди сказала, что вернется домой сама. Ей хотелось без свидетелей услышать то, что скажет врач.
В день, когда Брэнди должны были сообщить результаты анализов, мы с Джо сидели дома и ждали ее возвращения из больницы. Мы молчали. И без слов было понятно, о чем сейчас думал каждый из нас. Вопреки привычке Джо не накрасился.
– Не могу удержать карандаш – руки дрожат, – сказал он.
Выйдя из-под душа, я провела полотенцем по запотевшему зеркалу в ванной и посмотрела на себя. Потом дотронулась до груди и, испытывая смущение и вину перед Брэнди, почувствовала облегчение от того, что у меня все в порядке.
Небо в тот день было хмурое, затянутое облаками. Лос-Анджелес сам на себя не похож, если не светит солнце. Лондон – другое дело. Положа руку на сердце, Лондон как раз в плохую погоду и чувствует себя самим собой. Но не Лос-Анджелес. Он не может пережить пасмурный день просто так, воспринимая его как данность. И люди, поддаваясь смутной тревоге, тоже суетятся, бегут куда-то, испытывая дискомфорт и беспокойство. Лос-Анджелес похож на мамашу большого семейства: красивую, полногрудую, веселую, не знающую слово «депрессия». Так что, как только у нее начинаются месячные и портится настроение, это сразу бросается всем в глаза.








