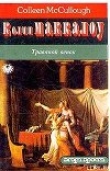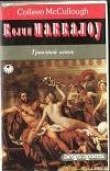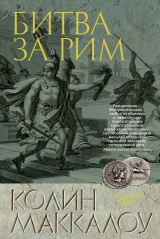
Текст книги "Битва за Рим"
Автор книги: Колин Маккалоу
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Метелл Нумидийский взял в руки два кубка: один поставил на стол рядом с Суллой, другой взял себе; усевшись, он провозгласил:
– Я пью за дружбу!
– И я. – Пригубив вина, Сулла нахмурился и посмотрел Метеллу Нумидийскому прямо в глаза. – Квинт Цецилий, я отправляюсь старшим легатом в Ближнюю Испанию вместе с Титом Дидием. Понятия не имею, сколько времени продлится мое отсутствие, однако мне представляется, что оно затянется на годы. Вернувшись, я намерен немедленно выставить свою кандидатуру в преторы. – Откашлявшись, он отпил еще. – Тебе известна подлинная причина моего провала в прошлом году?
Губы Метелла Нумидийского тронула легкая улыбка, но Сулла не сумел понять, что это была за улыбка: насмешливая, злобная или благодушная.
– Да, Луций Корнелий, знаю.
– Что же именно ты знаешь?
– Что ты сильно огорчил моего друга Марка Эмилия Скавра, испугавшегося за свою жену.
– Вот как! Значит, моя связь с Гаем Марием тут ни при чем?
– Луций Корнелий, такой здравомыслящий человек, как Марк Эмилий, никогда не покусился бы на твою государственную карьеру из-за боевого товарищества с Гаем Марием. Хотя сам я не был здесь и не присутствовал при всем этом лично, у меня сохранилась достаточно тесная связь с Римом, чтобы понимать, что в то время ты был уже не так близок с Гаем Марием, – добродушно объяснил Метелл Нумидийский. – Ведь ты больше не связан с ним родственными узами. – Он вздохнул. – Однако тебе не повезло: едва ты порвал с Гаем Марием, как чуть не стал причиной скандала в семействе Скавра.
– Я не совершил ничего недостойного, Квинт Цецилий, – процедил Сулла, стараясь не давать волю раздражению, но все больше укрепляясь в мысли, что эта тщеславная посредственность заслуживает смерти.
– О недостойных поступках речи не было. – Метелл Нумидийский осушил свой кубок. – Можно только сожалеть, что, когда дело доходит до женщин, в особенности жен, даже самые старые и мудрые теряют головы.
Стоило хозяину приподняться, как Сулла резво вскочил на ноги, схватил со стола оба кубка и отошел, чтобы наполнить их.
– Женщина, о которой идет речь, приходится тебе племянницей, Квинт Цецилий, – проговорил Сулла, стоя к собеседнику спиной и загораживая своей тогой стол.
– Только поэтому мне и известна вся эта история.
Протянув Метеллу Нумидийскому кубок, Сулла снова сел.
– Считаешь ли ты, как ее дядя и добрый друг Марка Эмилия, что я действовал правильно?
Хозяин пожал плечами, отпил вина и скривился:
– Если бы ты был каким-то выскочкой, Луций Корнелий, то не сидел бы сейчас передо мной. Но ты – выходец из древнего и славного рода, ты – один из патрициев Корнелиев, к тому же наделен большими способностями. – Переменив выражение лица, он отпил еще вина. – Если бы в то время, когда моя племянница воспылала к тебе страстью, я находился в Риме, то, конечно, помог бы Марку Эмилию уладить дело. Насколько я понимаю, он просил тебя покинуть Рим, но ты ответил отказом. Не слишком осмотрительно с твоей стороны.
Сулла невесело рассмеялся:
– Просто я полагал, что Марк Эмилий выкажет не меньше благородства, чем я.
– О, как много дали бы тебе несколько лет на Римском форуме в годы юности! – воскликнул Метелл Нумидийский. – Тебе недостает такта, Луций Корнелий.
– Видимо, ты прав. – Сулле еще никогда в жизни не приходилось играть такой трудной роли, как сейчас. – Но я не могу вернуться в прошлое. Я должен двигаться вперед.
– Ближняя Испания под командованием Тита Дидия – что ж, это определенно шаг вперед.
Сулла еще раз встал, чтобы наполнить оба кубка.
– Прежде чем покинуть Рим, мне необходимо заручиться поддержкой по крайней мере одного доброго друга, – молвил он. – Говорю от чистого сердца: мне хотелось бы, чтобы этим другом стал ты. Невзирая на твою племянницу, на твою дружбу с принцепсом сената Марком Эмилием Скавром. Я – Корнелий, а это означает, что я не могу стать твоим клиентом. Только другом. Что скажешь?
– А вот что: оставайся ужинать, Луций Корнелий.
Итак, Луций Корнелий остался ужинать, чем доставил хозяину несравненное удовольствие, ибо Метелл Нумидийский первоначально намеревался отужинать в одиночестве, несколько утомленный своим новым статусом живой легенды. Темой разговора была неустанная борьба его сына за прекращение отцовской ссылки на Родосе.
– Ни у кого еще не бывало лучшего сына, – говорил возвратившийся изгнанник, уже чувствуя действие вина, которого он выпил немало, начав задолго до ужина.
Улыбка Суллы лучилась симпатией.
– Здесь мне нечего возразить, Квинт Цецилий. Ведь я считаю твоего сына своим другом. Мой собственный сын – пока ребенок. Впрочем, отцовское чувство подсказывает мне, что и мой сын будет крепкий орешек.
– Он – Луций, как и ты?
Сулла непонимающе заморгал:
– Разумеется.
– Странно, – протянул Метелл Нумидийский. – Разве в твоей ветви Корнелиев не называют первенцев Публиями?
– Поскольку мой отец мертв, Квинт Цецилий, я не могу задать ему этого вопроса. Не помню, чтобы он при жизни был хоть раз достаточно трезв, чтобы мы могли поговорить о семейных традициях.
– Это не столь важно. – Немного поразмыслив, Метелл Нумидийский сказал: – Кстати, об именах. Ты, видимо, знаешь, что этот… италик всегда дразнил меня Свином?
– Я слышал это твое прозвище от Гая Мария, – серьезно ответил Сулла, наклоняясь, чтобы в очередной раз наполнить вином из великолепного стеклянного кувшина оба кубка. Какое везение, что Свин питает пристрастие к стеклу!
– Отвратительно! – поморщился Метелл Нумидийский, имея в виду прозвище.
– Именно отвратительно! – поддакнул Сулла, наслаждаясь. – Свин… Свин…
– Мне потребовалось немало времени, чтобы заставить всех забыть это прозвище.
– И неудивительно, Квинт Цецилий, – ответил Сулла с невинным видом.
– Детские дразнилки! Обозвать меня cunnus он не посмел! Италик… – Внезапно Метелл Нумидийский порывисто выпрямился, провел рукой по лбу и тяжело задышал. – Что-то мне не по себе. Никак не могу отдышаться…
– Попробуй дышать глубже, Квинт Цецилий!
Метелл Нумидийский стал послушно глотать ртом воздух, но, не чувствуя облегчения, проговорил:
– Мне плохо…
Сулла подвинулся к краю ложа, чтобы нащупать ногами сандалии.
– Принести тазик?
– Слуги! Позови слуг! – Он схватился руками за грудь и упал спиной на ложе. – Мои легкие!
Сулла приблизился к ложу и наклонился над столом:
– Ты уверен, что дело именно в легких, Квинт Цецилий?
Метелл Нумидийский корчился от боли, оставаясь в полулежачем положении; одну руку он по-прежнему прижимал к груди, другая, со скрюченными пальцами, ползла по кушетке к Сулле.
– У меня кружится голова! Не могу дышать…
– На помощь! – крикнул Сулла. – Скорее на помощь!
Комната в одно мгновение наполнилась рабами. Сулла действовал спокойно и уверенно: одних он послал за врачами, другим велел подложить Метеллу под спину подушки.
– Скоро все пройдет, Квинт Цецилий, – ласково проговорил он и, снова садясь, как бы случайно задел ногой стол; оба кубка, а также графины с вином и с водой упали и разлетелись на мелкие осколки. – Вот тебе моя рука, – сказал он раскрасневшемуся и перепуганному Метеллу. Подняв глаза на беспомощно стоящего рядом слугу, Сулла распорядился: – Прибери-ка здесь! Не хватало только, чтобы кто-нибудь порезался!
Он не отпускал руки Метелла Нумидийского, пока раб подбирал с пола осколки и вытирал лужу; не отпустил он его руки и тогда, когда в комнате появились новые люди – врачи и их помощники. К моменту прихода Метелла Пия Свиненка Метелл Нумидийский уже не мог отнять у Суллы руку, чтобы поприветствовать своего горячо любимого сына.
Пока Сулла держал Метелла Нумидийского за руку, а Свиненок безутешно рыдал, врачи взялись за дело.
– Медовая вода с иссопом и толченым корнем каперсника, – изрек Аполлодор Сицилиец, считавшийся в самой аристократической части Палатина непревзойденным целителем. – Кроме того, мы пустим ему кровь. Пракс, подай мне ланцет.
Однако Метелл Нумидийский дышал слишком прерывисто, чтобы суметь проглотить медовую настойку; из вскрытой вены хлынула ярко-алая кровь.
– Но это вена, вена! – пробормотал Аполлодор про себя. Повернувшись к остальным лекарям, он произнес: – До чего яркая кровь!
– Он так сопротивляется, Аполлодор! Неудивительно, что кровь такая красная! – ответил афинянин Публий Сульпиций Солон. – Может, пластырь на грудь?
– Да-да, пластырь, – важно распорядился Аполлодор Сицилиец и, повернувшись к помощнику, повелительно щелкнул пальцами: – Пракс, пластырь!
Однако Метелл Нумидийский по-прежнему задыхался, колотил себя в грудь свободной рукой, вглядывался затуманенным взором в лицо сына и все крепче сжимал руку Суллы.
– Лицо у него не посинело, – обратился Аполлодор Сицилиец к Метеллу Пию и Сулле на греческом, – и этого я понять не могу. В остальном вижу у него все симптомы острой легочной недостаточности. – Он указал кивком на помощника, растиравшего на кусочке ткани что-то черное и липкое. – Наилучшая припарка! Она выведет наружу вредоносное вещество. Толченая ярь-медянка, окись свинца, квасцы, сухой деготь, сухая сосновая смола – все это перемешано в нужном количестве с уксусом и маслом. Вот и готово!
И действительно, припарка была готова. Аполлодор Сицилиец сам намазал ею грудь больного и, скрестив руки, стал с достойным восхищения спокойствием наблюдать за действием пластыря.
Однако ни настойка, ни пластырь, ни кровопускание не помогли: жизнь покидала Метелла Нумидийского, и его рука, вцепившаяся в руку Луция Корнелия Суллы, все больше слабела. Лицо его побагровело, взор угасал, паралич сменился коматозным состоянием, далее наступила смерть.
Покидая комнату, Сулла слышал, как низкорослый сицилийский лекарь робко сказал Метеллу Пию:
– Domine, необходимо сделать вскрытие.
Безутешный Свиненок бросил в ответ:
– Чтобы вы, неумелые греки, искромсали его? Мало того что по вашей вине он умер? Нет, вы больше и пальцем не коснетесь моего отца.
Заметив спину удаляющегося Суллы, Свиненок бросился к дверям и настиг его уже в атрии:
– Луций Корнелий!
Сулла медленно повернулся к нему. Метелл Пий увидел лицо, исполненное скорби: в глазах стояли слезы, на щеках подсыхали ручейки от слез, уже успевших пролиться.
– Дорогой мой Квинт Пий!
Потрясение давало Свиненку силы держаться; его рыдания утихли.
– Не верю! Мой отец мертв…
– Да, и как внезапно! – отозвался Сулла, печально качая головой. Из его груди вырвался вздох. – Совершенно внезапно! Он казался абсолютно здоровым, Квинт Пий! Я зашел к нему засвидетельствовать почтение, и он пригласил меня отужинать. Мы так приятно беседовали! И вот, когда ужин близился к концу, случился приступ…
– Но почему, почему, почему? – На глазах у Свиненка опять появились слезы. – Он только что возвратился домой, он был совсем не стар!
Сулла с великой нежностью привлек к себе Метелла Пия, прижал его вздрагивающую голову к своему плечу и принялся гладить правой рукой по волосам. Однако глаза Суллы, смотрящие поверх головы молодого человека, горели радостью после столь бурного выплеска эмоций. Что может сравниться с этим непередаваемым ощущением? Чего бы еще такого предпринять? Впервые он полностью погрузился в процесс остановки чужой жизни, став не только палачом, но и жрецом смерти.
Слуга, вышедший из триклиния, обнаружил сына скончавшегося хозяина в объятиях утешителя, сияющего, подобно Аполлону, победным торжеством. Слуга заморгал и тряхнул головой. Не иначе игра воображения…
– Мне пора, – бросил Сулла слуге. – Поддержи его. И пошли за родственниками.
Выйдя на спуск Виктории, Сулла стоял на месте довольно долго, пока глаза не привыкли к темноте. Затем, тихонько посмеиваясь про себя, он зашагал по направлению к храму Великой Матери. Завидя бездну сточной канавы, он бросил туда пустой пузырек.
– Vale, Свин! – провозгласил он, воздев обе руки к хмурому небу. – О, теперь мне лучше!

– Юпитер! – вскричал Гай Марий, откладывая письмо Суллы и поднимая глаза на жену.
– Что случилось?
– Свин мертв!
Утонченная римская матрона, которая, по мнению ее сына, не вынесла бы словечка крепче, чем «Ecastor!», и глазом не моргнула: она с первого дня замужества привыкла, что Квинт Цецилий Метелл Нумидийский именуется Свином.
– Жаль, – произнесла она, не зная, какой реакции ждет от нее супруг.
– Жаль?! Какое там! Это хорошо, даже слишком хорошо, чтобы быть правдой!
Марий снова схватил свиток и развернул его, чтобы прочесть все сначала. Размотав бесконечный свиток, он стал читать жене письмо вслух срывающимся от радостного возбуждения голосом:
Весь Рим собрался на похороны, которые оказались самыми многолюдными из тех, какие я только могу припомнить, – впрочем, в те дни, когда на погребальный костер отправился Сципион Эмилиан, я еще не слишком интересовался похоронами.
Свиненок не находит себе места от горя; он так рыдает, так мечется от одних ворот Рима к другим, что вполне оправдывает свое прозвище «Пий». Предки Цецилиев Метеллов были простоваты на вид, если судить по imago, которые, должно быть, вполне достоверны. Актеры, изображавшие этих предков, скакали, словно помесь лягушек, кузнечиков и оленей, так что я заподозрил, не от этих ли тварей произошли Цецилии Метеллы.
Все эти дни Свиненок следует за мной по пятам – потому, наверное, что я присутствовал при кончине Свина, его дражайший tata не отпускал мою руку, что дало Свиненку повод думать, будто все наши разногласия остались в прошлом. Я не стал ему говорить, что оказался в его доме случайно. Интересно другое: пока его tata умирал, а потом шли приготовления к похоронам, Свиненок забыл про свое заикание. Если помнишь, он приобрел этот дефект речи после Аравсиона, так что можно предположить, что его заикание имеет нервную природу. По его словам, этот недостаток проявлялся у него в траурные дни только тогда, когда он о нем вспоминал или когда ему надо было выступать с речью. Представляю себе Свиненка во главе религиозной церемонии! Вот было бы смешно: все переминаются с ноги на ногу, пока он путается в словах и то и дело возвращается к началу.
Пишу это письмо накануне отъезда в Ближнюю Испанию, где, как я надеюсь, мы славно повоюем. Судя по докладам, кельтиберы окончательно обнаглели, а лузитаны устроили в Дальней провинции полнейший хаос, так что мой неблизкий родственник из рода Корнелиев Долабелла, одержав одну или две победы, все никак не может подавить восстание.
Прошли выборы военных трибунов, с Титом Дидием в Испанию отправляется Квинт Серторий. Совсем как в прежние времена! Разница состоит в том, что наш предводитель – не столь выдающийся «новый человек», как Гай Марий. Я стану писать тебе всякий раз, когда будут появляться новости, но и взамен ожидаю от тебя писем о царе Митридате.
– Что же привело Луция Корнелия в дом Квинта Цецилия? – полюбопытствовала Юлия.
– Подозреваю, что желание втереться в доверие, – брякнул Марий.
– О, Гай Марий, только не это!
– Почему, Юлия? Я его не осуждаю. Свин находится – вернее, находился – на вершине славы, он сейчас гораздо популярнее, чем я. В сложившихся обстоятельствах Луций Корнелий не может примкнуть к Скавру; да и к Катулу Цезарю. – Марий вздохнул и покачал головой. – Однако я уверен, Юлия, что еще наступит время, когда Луций Корнелий преодолеет все преграды и отлично поладит с большинством из них.
– Значит, он тебе не друг?
– Видимо, нет.
– Не понимаю! Вы с ним были так близки…
– Верно, – неторопливо ответил Марий. – Тем не менее, моя дорогая, не общность взглядов и душевных порывов нас сближала. Цезарь-дед относился к Луцию Корнелию так же, как я: в критической ситуации или для важного поручения лучшего соратника не найти. С ним нетрудно поддерживать приятельские отношения. Однако очень сомневаюсь, что Луций Корнелий способен на такую дружбу, какая связывает меня, к примеру, с Публием Рутилием: когда принимаешь человека со всеми его недостатками. Луцию Корнелию недостает умения спокойно сидеть на скамье с другом, просто наслаждаясь его обществом. Это противно его натуре.
– Какова же его натура, Гай Марий? Я так и не разобралась в нем.
Марий покачал головой и усмехнулся:
– Не только ты – никто! Даже проведя в его обществе столько лет, я не сумел составить о нем представления.
– Думаю, сумел бы, – проницательно сказала Юлия, – просто не захотел. – Она придвинулась к нему ближе. – Во всяком случае, тебе не хочется делиться своими догадками со мной. А вот моя: если у него и есть друг, так это Аврелия.
– Я заметил, – сухо отозвался Марий.
– Только не торопись с выводами, между ними ничего нет. Просто мне сдается, что если Луций Корнелий и способен открыть кому-то душу, так только ей.
– Гм, – промычал Марий, заканчивая таким образом разговор.
Зиму они провели в Галикарнасе, поскольку добрались до Малой Азии слишком поздно, чтобы предпринять рискованное путешествие от побережья Эгейского моря до Пессинунта по суше. Они слишком задержались в Афинах: этот город привел их в восторг, а оттуда отправились в Дельфы, чтобы посетить оракул Аполлона, хотя Марий отказался обращаться к Пифии за прорицанием. Юлия была удивлена этим отказом и потребовала объяснений.
– Нельзя искушать богов, – был ответ. – Мне уже было дано пророчество. Если я опять стану вопрошать о будущем, боги и вовсе от меня отвернутся.
– А про Мария-младшего?
– Нет.
Они также побывали в Эпидавре на Пелопоннесе, где, воздав должное роскошным сооружениям и замечательным статуям Тразимеда с Пароса, Марий обратился к жрецам бога врачевания Асклепия, славящимся умением толковать сны и лечить от бессонницы. Послушно выпив предложенную настойку и проспав в специальном помещении подле большого храма всю ночь, он так и не вспомнил своих снов, поэтому жрецы смогли посоветовать ему лишь сбросить вес, больше двигаться и не перегружать голову.
– По-моему, все это шарлатанство, – пренебрежительно махнул рукой Марий, однако преподнес в дар божеству дорогой золотой кубок, инкрустированный драгоценными камнями.
– А по-моему, они говорят дело, – отозвалась Юлия, устремив взор на его раздавшуюся талию.
Итак, лишь в октябре они отплыли из Пирея на большом корабле, совершавшем регулярные рейсы из Греции в Эфес. Холмистый Эфес не понравился Гаю Марию, который, поковыляв по тамошним камням, поспешил снова погрузиться на корабль, отправлявшийся на юг, в Галикарнас.
Здесь, в самом красивом из всех портовых городов на Эгейском побережье римской провинции Азия, Марий решил провести зиму, сняв виллу со слугами и бассейном с теплой морской водой: несмотря на то что солнце светило дни напролет, купаться в море было слишком холодно. Могучие стены, башни, крепости, впечатляющие общественные здания вселяли ощущение безопасности и делали это место очень похожим на Рим, хотя даже в Риме не было такой великолепной усыпальницы, как Мавзолей, воздвигнутой безутешной Артемизией, сестрой и женой почившего правителя Карии Мавзола.
В конце следующей весны было наконец предпринято паломничество в Пессинунт, хотя Юлия и Марий-младший пытались протестовать – им хотелось провести на море все лето; однако их маленький бунт был подавлен. В Пессинунт вела единственная дорога, которой пользовались и захватчики, и паломники. Она вилась по долине реки Меандр между побережьем Малой Азии и Центральной Анатолией. По ней и отправились Марий и его семейство, не перестававшие восхищаться благоденствием и великолепным обустройством здешних мест. Оставив позади месторождения хрусталя и термальные источники Иераполиса, где окрашивали шерсть, закрепляя краску в соляных ваннах, они перевалили через высокие горы и, не отдаляясь от Меандра, двинулись вглубь дикой, поросшей лесами Фригии.
Пессинунт, однако, лежал на возвышенности, где вместо лесов зеленели хлебные нивы. Проводник сказал, что храм Великой Матери в Пессинунте, подобно всем великим религиозным святыням, располагал обширными землями и целыми армиями рабов и был так богат, что вполне мог функционировать как полноценное государство. Единственная разница сводилась к тому, что жрецы правили от имени богини и не транжирили скапливающиеся в храме богатства, а направляли их на умножение власти своей неземной повелительницы.
Памятуя о Дельфах, вознесенных на горную вершину, путешественники ожидали увидеть нечто похожее и здесь; велико же было их изумление, когда они обнаружили, что Пессинунт расположен ниже, чем прилегающая к нему равнина, – в известковом ущелье с крутыми стенами. Святилище находилось в северном конце ущелья, более узком и менее плодородном, нежели остальная часть, протянувшаяся далеко на юг; здесь бил из скалы ручей, который впадал далее в большую реку Сангарий. Святилище и храм поражали древностью, хотя многое было возведено здесь уже греками, в привычном классическом стиле. Огромный храм, построенный на небольшом холме, встречал полукружьем ступеней, на которых скапливались в ожидании встречи со жрецами паломники.
– Наш священный черный камень находится у вас в Риме, Гай Марий, – сказал archigallus Баттакес. – Мы добровольно передали его вам в трудное для Рима время. Вот почему убежавший в Малую Азию Ганнибал не дошел до Пессинунта.
Памятуя о письме Публия Рутилия Руфа, который описал визит Баттакеса и его приближенных в Рим в годину германской угрозы, Марий был склонен относиться к собеседнику не слишком серьезно. Баттакес тотчас подметил это.
– Ты улыбаешься потому, что я скопец? – спросил он.
– Я даже не знал, что ты оскоплен! – разинул рот Марий.
– Служитель Кибелы не может сохранить признак мужественности, Гай Марий. Даже от ее возлюбленного Аттиса потребовалась подобная жертва.
– А я думал, что Аттис был оскоплен из-за ревности богини, – ответил Марий, чувствуя, что должен что-то сказать, но не желая углубляться в дискуссию на столь деликатную тему.
– Ничего подобного! Эта история – выдумка греков. Лишь здесь, во Фригии, мы храним культ богини и предания в первоначальной чистоте. Мы – ее верные служители, к нам она явилась из Каркемиша в незапамятные времена.
Жрец спрятался от солнца под портиком огромного храма, откуда сиял теперь золотом и драгоценностями, которыми были расшиты его одежды.
Потом они зашли в святилище, чтобы Марий мог полюбоваться статуей.
– Чистое золото, – самодовольно сообщил Баттакес.
– Правда? – спросил Марий, вспоминая рассказ проводника о том, как изготавливался олимпийский Зевс.
– Совершенно уверен.
Статуя в человеческий рост помещалась на высоком мраморном постаменте; богиня восседала на скамье в окружении двух безгривых львов, возложив руки им на головы. Кибела была увенчана высоким, напоминающим корону убором, сквозь тонкое платье проглядывала красивая грудь, вокруг талии обвивался поясок. Позади одного из львов стояли двое малолетних пастушков: один играл на свирели, другой – на лире. Рядом с другим львом стоял, опершись на пастушеский посох, возлюбленный Кибелы Аттис; голова его была покрыта фригийским колпаком, сдвинутым набок; юноша был одет в рубаху с длинными рукавами, застегнутую на горле, но выставляющую напоказ мускулистый живот; разрез на штанинах спереди скреплялся пуговицами.
– Интересно, – произнес Гай Марий, не находивший статую красивой, независимо от того, из чего она сделана.
– Но ты не восхищен.
– Дело, наверное, в том, archigallus, что я римлянин, а не фригиец. – Отвернувшись, Марий прошествовал по святилищу обратно к высоким бронзовым вратам. – Почему эта азиатская богиня так озаботилась судьбой Рима? – спросил он.
– Она озабочена этим уже давно, Гай Марий. В противном случае она никогда не согласилась бы отдать Риму свой священный камень.
– Знаю, знаю! Но ты не ответил на мой вопрос, – проворчал Марий, начиная раздражаться.
– Богиня не объясняет причин своих поступков даже жрецам, – ответил Баттакес, снова засияв на залитых солнцем ступенях. Там он присел, похлопав по мраморной ступеньке рукой, приглашая Мария сесть рядом. – Вероятно, она предвидит, что могущество Рима будет расти и наступит день, когда он овладеет Пессинунтом. Вы в Риме уже более столетия почитаете ее как Великую Мать. Из всех ее храмов ваш – ее излюбленный. Святилища в афинском Пирее и в Пергаме ей не так дороги. Думаю, она просто-напросто любит Рим.
– Что ж, хороший выбор! – в сердцах бросил Марий.
Баттакес прикрыл глаза. Вздохнув и поведя плечами, он указал на стену и на плиту, закрывающую круглый колодец.
– А ты сам хочешь спросить о чем-нибудь богиню?
Марий отрицательно покачал головой:
– Прокричать что-нибудь вниз и ждать, пока тебе ответит чей-то голос? Нет.
– Но так она отвечает на вопросы.
– Я поклоняюсь Кибеле, archigallus, но уже достаточно надоедал богам, требуя открыть мне будущее, поэтому было бы неразумно упорствовать и дальше, – объяснил Марий.
– Тогда просто посидим немного на солнышке и послушаем, как поет ветерок, Гай Марий, – предложил Баттакес, скрывая разочарование. (А он-то подготовил неглупые ответы…)
– Полагаю, – внезапно прервал молчание Марий, – ты вряд ли знаешь, как мне передать послание царю Понта? Иными словами, тебе неизвестно, где он? Я отправил письмо в Амасию, однако так и не дождался ответа, хотя минуло уже восемь месяцев. Второе мое письмо до него тоже не дошло.
– Он вечно в пути, Гай Марий, – с готовностью ответил жрец. – Вполне возможно, что он просто не был в этом году в Амасии.
– Так что же, царю не передают адресованные ему письма?
– Анатолия – не Рим и даже не римская территория. Придворные царя Митридата и те не знают, где находится правитель, если он сам не вздумает их уведомить. Впрочем, это редко приходит ему в голову.
– О боги! – вздохнул Гай Марий. – Как же он тогда умудряется управлять царством?
– В отсутствие царя правят его доверенные лица. Это не такое уж сложное дело, поскольку большинство понтийских городов представляют собой типичные эллинские полисы с давней традицией самоуправления. Они просто платят Митридату столько, сколько он попросит. Что до сельских районов, то они не ведают цивилизации и изолированы от остального мира. Понт – страна высоких гор, пролегающих параллельно берегу Понта Эвксинского, поэтому связь между разными ее частями чрезвычайно затруднена. У царя имеется немало крепостей и как минимум четыре столичных города, о которых мне доводилось слышать: Амасия, Синопа, Дастеира и Трапезунд. Как я уже говорил, царь никогда не сидит на месте и не обременяет себя в пути большой свитой. Он также бывает в Галатии, Софене, Каппадокии и Коммагене, где правят его родичи.
– Понимаю. – Марий наклонился вперед, сцепив руки между колен. – Из твоих слов явствует, что мне, скорее всего, не удастся с ним свидеться.
– Это зависит от того, как долго ты намерен пробыть в Малой Азии, – ответил Баттакес безразличным тоном.
– Столько, сколько потребуется, чтобы встретиться с понтийским царем. Тем временем я нанесу визит царю Никомеду – он-то, по крайней мере, сидит на одном месте. Потом я вернусь в Галикарнас, чтобы провести там зиму. Весной я думаю отправиться в Тарс, а оттуда – вглубь территории, чтобы навестить в Каппадокии царя Ариарата.
Сообщив все это вполне обыденным тоном, Марий перевел разговор на денежные дела храма, к которым проявил немалый интерес.
– Деньги богини бессмысленно просто хранить, не пуская их в дело, Гай Марий, – начал Баттакес. – Мы ссужаем их под большой процент и тем увеличиваем свое богатство. Однако здесь, в Пессинунте, мы не ищем вкладчиков, в отличие других храмовых общин.
– Подобная деятельность Риму неведома, – признался Марий. – Дело, видимо, в том, что римские храмы являются достоянием народа Рима и управляются государством.
– Разве Римское государство не может делать деньги?
– Могло бы, но это привело бы к росту бюрократии, а Риму бюрократы не больно по душе. Они либо бездельничают, либо неумеренно жадничают. Наше банковское дело принадлежит частным лицам, профессиональным банкирам.
– Могу заверить тебя, Гай Марий, что мы, храмовые банкиры, – знаем свое дело, – заявил Баттакес.
– А как насчет острова Кос?
– Ты имеешь в виду святилище Асклепия?
– Да.
– О, там – весьма профессиональный подход! – В голосе Баттакеса послышалась зависть. – Теперь они в состоянии финансировать целые военные кампании! У них, разумеется, много вкладчиков.
– Благодарю! – произнес Марий, вставая.
Баттакес проводил взглядом Мария, спустившегося к живописной колоннаде, возведенной вдоль питаемого горными ручьями потока. Убедившись, что Марий больше не обернется, жрец заторопился к своему дворцу – небольшому красивому строению, скрытому в роще.
Запершись у себя в кабинете, он достал письменные принадлежности и начал писать послание царю Митридату:
Великий Властелин, встречи с тобой ищет римский консул Гай Марий. Он обратился ко мне, в надежде, что я помогу разыскать тебя; но, поскольку я его не обнадежил, он сообщил, что останется в Малой Азии, пока не увидится с тобой.
Среди его планов на ближайшее будущее – поездки к Никомеду и Ариарату. Приходится только недоумевать, зачем ему совершать столь трудное путешествие, ведь он уже не очень молод (а точнее, очень немолод). Однако он ясно дал понять, что весной отправится в Тарс, а оттуда – в Каппадокию.
Я нахожу, что этот великий человек может быть опасен. Коль скоро – при всей своей прямоте и грубости – он шесть раз сумел стать римским консулом, его не следует недооценивать. Благородные римляне, с которыми мне доводилось встречаться, были куда утонченнее и обходительнее. Жаль, что мне не удалось познакомиться с Гаем Марием в Риме, где, сравнивая его с другими представителями римской знати, я смог бы лучше понять этого человека, чем во время краткой беседы здесь, в Пессинунте.
Твой преданный и верный слуга Баттакес
Запечатав письмо и завернув его в тончайшую кожу, Баттакес отдал послание одному из младших жрецов, поручив срочно доставить в Синопу, где находился в это время царь Митридат.

Содержание письма не понравилось Митридату. Он принялся кусать губу и хмуриться так зловеще, что те из его приближенных, которым надлежало молчать в присутствии владыки, благодарили судьбу за свое положение и сочувствовали Архелаю – от него требовалось отвечать, когда царь обращался к нему. Впрочем, сам Архелай как будто не слишком тревожился: двоюродный брат царя и его первый приближенный, он считался скорее другом, нежели слугой и был по-братски предан Митридату.
Однако, несмотря на внешнее спокойствие, Архелай опасался за свою жизнь не меньше остальных: любому, кто удостаивался царской дружбы, не следовало забывать о печальной судьбе другого влиятельного приближенного – Диофанта, который тоже был царю больше чем слуга и даже больше чем дядя, поскольку заменил ему отца.
С другой стороны, размышлял Архелай, поглядывая на властное и раздраженное лицо царя, от которого его отделяло расстояние вытянутой руки, человек не властен над судьбой. Царь есть царь, и он вправе распоряжаться своими подданными, даже убивать их, если на то его воля. Такое положение вещей обостряло способности людей из окружения государя, весьма энергичного, своенравного, по-детски непосредственного, незаурядного, сильного и в то же время нерешительного. Чтобы уметь выпутываться из бесчисленных рискованных ситуаций, необходимо было обладать острым и быстрым умом. Опасности же при дворе возникали подобно штормам на Эвксинском море или вскипали, словно вода на углях, тлевших в царской голове. Митридат мог покарать и за давно забытый проступок, совершенный десять лет назад. Царь никогда не прощал обид, истинных и мнимых, разве что откладывал расплату на будущее.