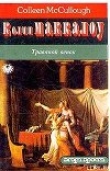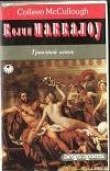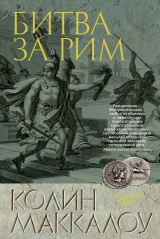
Текст книги "Битва за Рим"
Автор книги: Колин Маккалоу
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Все эти страшные часы Элия не отходила от двери; теперь Сулла взял ее за плечи, подвел к креслу рядом с кроватью и усадил, чтобы она могла видеть мальчика, которого нянчила с самого детства и считала сыном. Здесь же были Корнелия Сулла со страшным от побоев лицом, Юлия, Гай Марий и Аврелия.
Сулла приветствовал их, как вменяемый человек, принял их слезные соболезнования, даже пытался улыбаться. На их опасливые вопросы он отвечал ясно и твердо.
– Мне надо принять ванну и переодеться, – сказал он потом. – Сегодня я предстану перед судом по государственной измене. Смерть сына могла бы послужить законным поводом для неявки, но я не доставлю Цензорину этого удовольствия. Гай Марий, ты пойдешь со мной, когда я буду готов?
– С радостью, Луций Корнелий, – хрипло отозвался Марий, утирая слезы. Никогда еще он так не восхищался Суллой.
Первым делом Сулла отправился в уборную, в которой никого не оказалось. Наконец-то он смог опорожнить кишечник. Сидя в одиночестве рядом с тремя другими сиденьями над прорезями в мраморной скамье, он слушал глухой шум бегущей внизу воды и теребил мятые полы тоги, бывшей на нем с самого начала агонии сына. Пальцы наткнулись на какой-то предмет, он с удивлением извлек его и попытался разглядеть в слабом предутреннем свете; ему казалось, что он смотрит на эту вещь издалека, как на что-то из другой жизни. Изумрудный монокль Цензорина! Встав и оправившись, он повернулся лицом к мраморной скамье и бросил бесценный предмет в пустоту. Шум воды заглушил плеск.
В атрии, где Суллу ждал Гай Марий, чтобы сопроводить на Форум, все, увидевшие его, ахнули: каким-то чудом к нему вернулась красота его молодости, он словно весь светился.
Они молча дошли до Курциева озера, рядом с которым собралось несколько сотен всадников с намерением тянуть жребий, чтобы составить коллегию присяжных; судейские приготовили кувшины. Предстояло выбрать восемьдесят одного человека, пятнадцати из которых даст отвод обвинение, еще пятнадцати – защита. Останется пятьдесят один: двадцать шесть всадников и двадцать пять сенаторов. Численный перевес всадников был тем условием, которое позволило сенаторам председательствовать в судах.
Шло время. Цензорин не появлялся. После выбора присяжных защита, возглавляемая Крассом Оратором и Сцеволой, получила разрешение отвести своих пятнадцать присяжных. Цензорина все не было. К полудню суд охватило нетерпение. Зная теперь, что подсудимый явился на суд прямо от смертного одра своего любимого единственного сына, председательствующий отправил к Цензорину гонца, велев узнать, куда тот запропастился. Гонец долго отсутствовал, а вернувшись, сообщил, что Цензорин еще накануне собрал свои пожитки и отбыл из Рима в неведомом направлении.
– Суд распускается, – провозгласил председательствующий. – Приносим тебе, Луций Корнелий, наши глубокие извинения и просим принять соболезнование.
– Я пройдусь с тобой, Луций Корнелий, – предложил Марий. – Странная ситуация! Что с ним стряслось?
– Благодарю, Гай Марий, мне хотелось бы побыть одному, – спокойно ответил Сулла. – Что до Цензорина, то он, полагаю, отправился просить убежища у царя Митридата. – Он неприятно ухмыльнулся. – Видишь ли, у меня вышел с ним разговор.
От Форума Сулла направился быстрым шагом к Эсквилинским воротам. Там, за Сервиевой стеной, почти во все Эсквилинское поле раскинулся римский акрополь, настоящий город мертвых – со скромными, роскошными и самыми обычными могилами. Здесь покоился прах жителей Рима, граждан и неграждан, рабов и свободных, своих и чужих.
Восточнее большого перекрестья дорог, в нескольких сотнях шагов от Сервиевой стены, окруженный кипарисами, стоял храм Венеры Либитины, богини угасания жизненной силы. Это было красивое здание зеленого цвета, с пурпурными колоннами, позолоченными ионическими капителями и желтой крышей. Ступеньки были вымощены темно-розовой каменной крошкой, фронтон украшали красочные изображения богов и богинь подземного царства. Крышу храма венчала прекрасная золоченая статуя самой Венеры Либитины в колеснице, запряженной мышами, вестницами смерти.
В соседней кипарисовой роще теснились палатки похоронных дел мастеров, где кипела бурная деятельность. Предполагаемых клиентов хватали за руки, подманивали, уговаривали, дразнили, умасливали, толкали, вырывали друг у друга; это были обыкновенные торгаши, развернувшие здесь свой рынок посмертных услуг. Сулла бродил среди них, как привидение, пользуясь своим умением держать на расстоянии даже самых навязчивых субъектов, пока не отыскал контору, всегда хоронившую Корнелиев; там он обо всем договорился.
Назавтра похоронных дел мастера должны были явиться к нему домой за распоряжениями и все подготовить для похорон, которым надлежало состояться на третий день; согласно семейной традиции Суллу-младшего как представителя рода Корнелиев должны были захоронить, а не кремировать. Сулла все оплатил авансом, оставив вексель своего банка на двадцать серебряных талантов; о такой высокой цене похорон Риму предстояло судачить не один день. Денег он не жалел – притом что обычно, вовсе не отличаясь щедростью, старался беречь каждый сестерций.
Вернувшись домой, он попросил Элию и Корнелию Суллу покинуть комнату, где лежал Сулла-младший, и, сев в кресло Элии, уставился на исхудавшее лицо сына. Он не понимал собственных чувств. Горе, утрата, бесповоротность случившегося слиплись у него внутри в огромную свинцовую глыбу; он мог влачить этот груз, но на это уходили все его силы, и на то, чтобы разбираться в собственных чувствах, сил уже не оставалось. Перед ним лежали развалины его дома, останки лучшего его друга, спутника его преклонных лет, наследника его имени, богатства, репутации, карьеры. Все погибло за какие-то тридцать часов – и не по воле богов, не по причуде судьбы. Всего лишь осложнение после простуды, воспаленные легкие, сдавившие сердце… Тысячи расстаются с жизнью по той же самой причине. Не по чьей-то вине, не по чьему-то злому умыслу. Случайность. Для мальчика, уже ничего не чувствовавшего и не понимавшего перед смертью, это был лишь конец мучений. Для тех же, кто остался жить, кто все понимал и чувствовал, то была раздавшаяся в середине жизненного пути прелюдия к грядущей пустоте – траурный марш, который отзвучит только вместе с жизнью. Его сын мертв. Его друг ушел навсегда.
Через два часа его сменила Элия, а он ушел к себе в кабинет и сел писать письмо Метробию.
Умер мой сын. Когда ты приходил в мой дом в прошлый раз, умерла моя жена. При твоем ремесле тебе следовало быть вестником радости, deux ex machine в пьесе. Но нет, ты скрывающийся под покрывалом предвестник горя.
Никогда больше не переступай порога моего дома. Я вижу теперь, что моя покровительница Фортуна не терпит соперников. Ибо я любил тебя, и то место в моей душе, которое было отдано тебе, она считает своей безраздельной собственностью. Я сделал из тебя своего идола. Ты был для меня воплощением совершенной любви. Но им желает быть она. А она – женщина, начало и конец всякого мужчины.
Если наступит день, когда от меня отвернется Фортуна, я позову тебя, но не раньше. Мой сын был прекрасным юношей, преданным и достойным. Он был римлянином. Теперь он мертв, я остался один. Больше не желаю тебя видеть.
Он тщательно запечатал письмо, вызвал управляющего и объяснил, куда его отнести. А потом уставился на стену, где – вот ведь странная штука жизнь! – сидящий на краю гроба Ахилл сжимал в объятиях Патрокла. Видимо, под впечатлением от трагических масок в великих пьесах художник изобразил Ахилла в страшном отчаянии, с широко разинутым ртом. Сулла счел это грубой ошибкой, дерзким вторжением в мир искреннего горя, кое не вправе наблюдать низкая толпа. Он хлопнул в ладоши и при появлении управляющего сказал:
– Найди завтра кого-нибудь, чтобы эту мазню закрасили.
– Луций Корнелий, пришли из похоронной конторы. В атрии все уже готово для торжественного прощания с твоим сыном, – доложил управляющий, всхлипывая.
Сулла осмотрел резные золоченые носилки с черным покровом и подушками и остался доволен. Он сам перенес тело юноши, уже начавшее коченеть, и с помощью многочисленных подушек, поддерживавших спину и безжизненные руки, придал ему сидячее положение. Здесь, в атрии, lectus funebris с его сыном простоят до тех пор, пока восемь носильщиков в черном не вынесут его из дома. Умершего поместили затылком к двери в сад, ногами к двери на улицу, убранной снаружи ветвями кипариса.
На третий день состоялись похороны Суллы-младшего. Из уважения к бывшему городскому претору и, вероятно, будущему консулу на Форуме прервались все дела, завсегдатаи в toga pulla – черных траурных тогах – стояли в ожидании похоронной процессии. Из-за колесниц процессия проследовала от дома Суллы по спуску Виктории до улицы Велабр, там повернула на Этрусскую улицу и вышла к Форуму между храмом Кастора и Поллукса и базиликой Семпрония. Первыми выступали два могильщика в серых тогах, за ними шагали музыканты в черном, дудевшие в военные трубы, изогнутые рожки и флейты, сделанные из берцовых костей поверженных в боях врагов Рима. В торжественных траурных звуках не было ни мелодичности, ни изящества. Следом за музыкантами тянулись облаченные во все черное женщины – профессиональные плакальщицы, заученно завывавшие, бившие себя в грудь и дружно проливавшие неподдельные слезы. За плакальщицами следовали извивающиеся, машущие кипарисовыми ветвями танцоры, чьи ритуальные пляски были древнее самого Рим. Пятеро актеров, шедшие за танцорами, скрывали свои лица под масками предков Суллы, каждому из них была отведена черная колесница, запряженная двумя вороными лошадьми. Наконец появились носилки, которые высоко несли восемь вольноотпущенников Клитумны, мачехи Суллы, по ее завещанию ставших после освобождения его клиентами. За гробом шел Сулла с покрытой полой тоги головой; его сопровождали племянник Луций Ноний, Гай Марий, Секст Юлий Цезарь, Квинт Лутаций Цезарь с двумя братьями, Луцием Юлием Цезарем и Гаем Юлием Цезарем Страбоном, – все с покрытыми головами. За мужчинами семенили женщины, тоже в черном, но простоволосые и растрепанные.
У ростры музыканты, плакальщицы, танцоры и похоронных дел мастера сгрудились у задней стены, актеры же в масках поднялись в сопровождении служителей на ростру, где сели на курульные кресла из слоновой кости. На них были тоги с пурпурной каймой, как у высокородных предков Суллы; один выделялся жреческим облачением фламина Юпитера. Носилки водрузили на ростру, и безутешная родня – вся, за исключением Луция Нония и Элии, принадлежавшая к дому Юлиев – застыла рядом, чтобы выслушать траурную речь. Речь была краткой, и произнес ее сам Сулла.
– Сегодня я предаю земле моего единственного сына, – обратился он к безмолвным скорбящим. – Он принадлежал к роду Корнелиев, насчитывающему более двухсот лет и давшему Риму консулов и жрецов. В декабре он тоже стал бы совершеннолетним. Но этому не суждено было сбыться. Ему не было еще и пятнадцати лет.
Сулла повернулся к родственникам. Марий-младший тоже был в черной тоге взрослого мужчины и покрывал ее полой голову; он стоял далеко от Корнелии Суллы, чьи глаза, превратившиеся от побоев в щелки, смотрели на него с тоской. Рядом стояли Аврелия и Юлия; в отличие от Юлии, рыдавшей и при этом поддерживавшей готовую упасть Элию, Аврелия стояла прямо, не проливала слез и выглядела скорее мрачной, чем опечаленной.
– Мой сын был красивым юношей, любимым и обласканным. Его мать умерла, когда он был совсем мал, но мачеха сполна заменила ему родную мать. Если бы он прожил дольше, то благодаря своей образованности, уму, любознательности и отваге стал бы истинным наследником благородного патрицианского рода. Я брал его с собой на Восток, где вел переговоры с царями Понта и Армении, и он с высоко поднятой головой бросал вызов всем опасностям чужбины. Он присутствовал при моей встрече с парфянскими послами и в будущем был бы прекрасной кандидатурой для продолжения подобных дипломатических миссий. Он был лучшим моим спутником, самым верным моим последователем. Увы, судьба обрушила на него болезнь и отняла его у Рима. Тем хуже для Рима, для меня и для всей моей семьи. Я предаю его земле с великой любовью и с великой печалью, и пусть гладиаторы устроят для вас погребальные игры.
Церемониал на ростре завершился; все встали, кортеж выстроился в прежнем порядке и двинулся к Капенским воротам, ибо Сулла решил похоронить сына в могиле на Аппиевой дороге, где хоронили большинство Корнелиев. У склепа отец снял тело Суллы-младшего с траурных носилок и поместил в мраморный саркофаг на полозьях. Саркофаг накрыли крышкой, вольноотпущенники, раньше несшие носилки, задвинули саркофаг в склеп и убрали полозья. Сулла затворил тяжелую бронзовую дверь. Внутри у него тоже задвинулась крышка, захлопнулась дверь. Сына не стало. Ничто теперь не будет так, как было прежде.

Через несколько дней после похорон Суллы-младшего был принят lex Livia agraria. Друз представил его на рассмотрение плебейского собрания после одобрения в сенате, чему не помешали пылкие возражения Цепиона и Вария. Столкнуться пришлось с яростным сопротивлением в комиции. Друз не предвидел оппозиции со стороны италийцев. Земли, о которых шла речь в законе, им не принадлежали, однако их наделы чаще всего соседствовали с ager publicus Рима, и межевание давно не проводилось. Множество маленьких белых межевых камней были тайком передвинуты, и зачастую к владениям италийцев были прирезаны лишние куски. Деление общественных земель на участки по десять югеров подразумевало новое межевание, при котором эти нарушения подлежали исправлению. В наибольшей степени это касалось общественных земель в Этрурии, ибо владельцем одной из крупнейших латифундий в том краю был Гай Марий, который не возражал, чтобы его соседи, италийские этруски, прирезали себе немного римской землицы. Своенравие проявила также Умбрия, тогда как Кампания предпочла промолчать.
Тем не менее Друз остался доволен и написал Силону в Маррувий, что все прошло гладко: Скавр, Марий и даже Катул Цезарь вняли доводам Друза касательно ager publicus и сумели совместными усилиями перетянуть на свою сторону младшего консула Филиппа. Заткнуть рот Цепиону никто не мог, но к его уговорам почти все остались глухи – отчасти из-за его ораторской неискушенности, отчасти из-за неумолкающих слухов об унаследованных горах золота: простить этого Сервилиям Цепионам никто в Риме не мог.
Прошу, Квинт Поппедий, сделай все, что можешь, чтобы убедить этрусков и умбров прекратить жалобы. Мне совсем ни к чему препятствия, чинимые прежними владельцами земель, которые я пытаюсь раздать.
Но ответ Силона настораживал:
Увы, Марк Ливий, в Умбрии и в Этрурии я не пользуюсь влиянием. Там и там живет упрямый народ, сильно приверженный своей автономии и настороженно относящийся к марсам. Готовься к двум трудностям. Об одной открыто говорят на севере. О другой я услышал по чистой случайности и весьма встревожен.
Сначала о первой. Крупные этрусские и умбрийские землевладельцы собираются отправить в Рим депутацию, которая будет протестовать против раздела римских общественных земель. Их довод (не могут же они признать, что жульничали с межеванием) состоит в том, что римские ager publicus в Этрурии и Умбрии существуют так давно, что изменили и способы хозяйствования, и население. Они утверждают, что наплыв мелких землевладельцев погубит Этрурию и Умбрию. По их словам, в городах уже нет лавок и рынков, которыми бы заправляли мелкие собственники; лавки превращены в склады, потому что владельцы латифундий и их управляющие предпочитают оптовые закупки. Кроме того, крупные землевладельцы готовы освободить своих рабов, не заботясь о последствиях. В итоге тысячи вольноотпущенников превратятся в бродяг, что приведет к разным бедам, включая грабежи и мародерство. Этрурии и Умбрии, дескать, придется самим оплачивать возвращение этих людей домой. И так далее. Будь готов к встрече с этой депутацией!
Вторая помеха может быть еще опаснее. Некоторые горячие головы у нас в Самнии, утратив надежду как на гражданство, так и на мир, намерены показать Риму степень своего недовольства на празднике Юпитера Лацийского на Альбанской горе. Они задумали убить консулов Секста Цезаря и Филиппа. План тщательно проработан: они кучей набросятся на консулов, когда те будут возвращаться в Рим из Бовилл, превысив числом участников этой мирной процессии.
Постарайся сделать все, чтобы успокоить землевладельцев из Умбрии и Этрурии и предотвратить покушение. Есть и более радостное известие: все, кому я предлагаю дать клятву личной преданности тебе, делают это с большой охотой. Клиентура Марка Ливия Друза неуклонно разрастается.
Хотя бы одна добрая весть! Друз задумался над остальным, безрадостным содержанием письма Силона. С италийцами из Этрурии и Умбрии он мало что мог поделать, разве что выступить перед ними на Форуме с какой-нибудь потрясающей речью. Что касается плана убийства консулов, то ему ничего не оставалось, кроме как предостеречь самих консулов. Те же непременно станут выпытывать, откуда он об этом узнал и не примут уклончивых ответов, особенно Филипп…
Поэтому Друз решил увидеться не с ним, а с Секстом Цезарем и не делать тайны из источника своих сведений.
– Я получил письмо от моего друга Квинта Поппедия Силона, марса из Маррувия, – начал он разговор с Секстом Цезарем. – Похоже, шайка недовольных самнитов решила, что единственный способ заставить Рим предоставить гражданство италикам – продемонстрировать, что они не остановятся даже перед насилием. На тебя и на Луция Марка готовится напасть большой вооруженный отряд самнитов. Это произойдет во время вашего возвращения с Латинского праздника по Аппиевой дороге, где-то между Бовиллами и Римом.
Для Секста Цезаря это был неудачный день: он дышал с громким свистом, у него посинели губы и мочки ушей. Но он привык к своему недугу и даже пролез, невзирая на него, в консулы, опередив своего кузена Луция Цезаря, раньше его занимавшего должность городского претора.
– Я выражу тебе благодарность в сенате, Марк Ливий, – молвил старший консул, – и позабочусь, чтобы принцепс сената отправил от нашего имени благодарственное письмо Квинту Поппедию Силону.
– Прошу тебя, Квинт Юлий, не делай этого! – взмолился Друз. – Гораздо лучше будет никому ничего не говорить, а просто привести из Капуи несколько бравых когорт и попытаться захватить самнитов. Иначе они будут предупреждены, что заговор раскрыт, и откажутся от своего намерения. Луций Марций, второй консул, усомнится в его существовании. Заботясь о своей репутации, я бы предпочел, чтобы недовольных самнитов поймали с оружием в руках. Тогда мы смогли бы преподать Италии урок, подвергнув бичеванию и казнив всех участников покушения. Италия убедилась бы, что насилием ничего нельзя добиться.
– Понимаю тебя, Марк Ливий, и поступлю соответственно, – решил Секст Юлий Цезарь.
Несмотря на недовольство италийских землевладельцев и готовность самнитов пойти на убийство, Друз продолжил свой труд. Этруски и умбры, нагрянувшие на Форум, повели себя, к счастью, так надменно и вызывающе, что всех настроили против себя, получили резкий отпор и были отправлены восвояси, не приобретя сторонников. Секст Цезарь поступил в точности так, как просил его Друз, поэтому когда самниты напали на мирную с виду процессию близ Бовилл, их смяли прятавшиеся на кладбище на другой стороне Аппиевой дороги когорты легионеров; некоторые погибли в бою, но большинство были схвачены живыми, подвергнуты бичеванию и казнены.
Друза заботило другое, хотя именно этого, как он понимал, и следовало ожидать. Согласно его аграрному закону, вступившему в силу, всем римским гражданам полагалось по десять югеров общественных земель. Члены сената и представители первого класса должны были получить свои участки первыми, а неимущие, capite censi, последними. Считалось, что в Италии набираются миллионы югеров общественной земли, но Друз сомневался, что когда дойдет до самого низа, до неимущих, тем хоть что-то достанется. А как знали все, гневить чернь было опасно. Значит, за землю им полагалась компенсация. Вариант был один – хлеб по сниженной цене, не меняющейся даже в голодные времена. Друз отлично представлял, какая битва развернется в сенате из-за lex frumentaria, подразумевающего неизменно дешевый хлеб для неимущих.
В дополнение к его тревогам попытка покушения во время Латинского праздника так потрясла Филиппа, что он поднял на ноги своих друзей по всей Италии, а в мае заявил в сенате, что в Италии неспокойно, ходят разговоры о войне с Римом. При этом всем своим видом он давал понять, что совсем не напуган и собирается преподать италикам заслуженный урок. Он предложил отрядить одного претора на север от Рима, одного на юг, чтобы они доложили сенату и народу Рима, что, собственно, происходит.
Катул Цезарь, сильно пострадавший в Эсернии, где председательствовал в специальной комиссии, учрежденной во исполнение lex Licinia Mucia, счел это прекрасной идеей. Претора Сервия Сульпиция Гальбу без промедления отправили на юг, претора Квинта Сервилия из семейства Авгуров – на север. Обоим позволили взять с собой легата, обоих наделили проконсульским империем и дали в дорогу денег, которых хватило даже на оплату телохранителей из бывших гладиаторов.
Известие об отправке сенатом двух преторов для изучения того, что Катул Цезарь упорно называл «италийским вопросом», очень не понравилось Силону. Самнит Мутил, и без того возмущенный бичеванием и казнью двухсот храбрецов на Аппиевой дороге, был склонен счесть это новое оскорбление объявлением войны. Друз в отчаянии писал обоим письмо за письмом, умоляя успокоиться и дать ему шанс.
Одновременно он препоясывал чресла, не страшился битв и настойчиво твердил в сенате о своих планах раздачи дешевого зерна. Дешевое зерно, как и общественная земля, не могло предназначаться одной лишь черни. Всякий римский гражданин, готовый выстоять длинную очередь к столу эдилов у портика Минуция, мог получить официальную расписку на пять модиев общественного зерна, явиться в государственное зернохранилище под Авентинским холмом, предъявить расписку и везти свое зерно домой. Некоторые весьма богатые и уважаемые граждане не брезговали этой привилегией – кто-то из-за патологической скупости, кто-то из принципа. Но большинство тех, кто мог себе позволить сунуть управляющему несколько монет и приказать ему купить зерна у торговца на Этрусской улице, пренебрегали своим правом и не получали расписок на дешевое зерно. В сравнении с другими расходами на жизнь в городе – например, с астрономической арендной платой, пятьюдесятью-ста сестерциям в месяц на человека, – деньги, уходившие на покупку зерна у частных торговцев, составляли столь малую сумму, что ей можно было пренебречь. Поэтому подавляющее большинство толпившихся в очереди за расписками были либо нуждающимися гражданами пятого класса, либо вовсе неимущими.
– Земли точно не хватит на всех, – объяснял Друз в сенате, – но мы не должны ни о ком забывать, не должны давать им оснований думать, что их снова обошли. Римская житница велика, отцы, внесенные в списки, она способна накормить все рты Рима! Если мы не можем дать неимущим землю, то обязаны дать им дешевый хлеб. По твердой цене – пять сестерциев за модий – в любой, урожайный и неурожайный, год. Это само по себе облегчит бремя, лежащее на нашей казне: в годы, когда пшеницы избыток, казна покупает ее за два-четыре сестерция за модий. Продавая по пять, она получит хоть небольшую, но прибыль, что снизит нагрузку в неурожайные годы. По этой причине я предлагаю завести особый казенный счет на покупку исключительно пшеницы. Мы не должны допустить ошибку, не должны финансировать закон за счет других государственных средств.
– Как же, Марк Ливий, ты предлагаешь оплачивать эту великую щедрость? – протянул Луций Марций Филипп.
Друз улыбнулся:
– Я все продумал, Луций Марций. В моем законе есть раздел о снижении стоимости обычной нашей денежной единицы.
Сенат зароптал; слово «обесценивание» никому не нравилось, потому что отношение к fiscus у большинства было резко консервативное. В римской политике не было принято обесценивать монету, что считалось греческой уловкой. К ней прибегали только во времена Первой и Второй Пунических войн с Карфагеном, но и тогда больше с целью стандартизировать вес монеты. При всем своем радикализме в других областях вес серебряной монеты Гай Гракх только повысил.
Неустрашимый Друз принялся разъяснять:
– Каждый восьмой денарий будет отливаться из бронзы с примесью свинца, чтобы уравнять его вес с весом серебряной монеты, а потом покрываться серебром. Я произвел подсчеты, исходя из самой безрадостной предпосылки: предположил, что на пять неурожайных лет у нас будет приходиться только два урожайных года, хотя на самом деле, как вам всем известно, это чрезмерный пессимизм. В действительности урожайных лет у нас бывает больше, чем неурожайных. Тем не менее нельзя исключить новый период голода, как случилось во время войны с рабами на Сицилии. К тому же чеканить посеребренную монету более трудоемко, чем чисто серебряную. Потому я и свел свою программу к одному денарию из восьми, да и получится это, вероятно, только с каждым десятым. Как вы понимаете, казна в убытке не останется. Тем, кто ведет расчеты на бумаге, это тоже не навредит. Наибольшая тяжесть ляжет на плечи тех, кто пользуется исключительно монетами, и – по-моему, это важнее всего – мы избежим проклятия прямого налогообложения.
– Зачем утруждаться и покрывать серебром каждую восьмую монету, не проще ли чеканить так каждую восьмую партию монет? – спросил претор Луций Луцилий, никогда не лезший за словом в карман (как и вся его семейка), зато полный тупица в арифметике, не ведавший, что такое практичность.
– Полагаю, – терпеливо отвечал Друз, – жизненно важно, чтобы никто не мог отличить серебряную от посеребренной монеты. Если отлить целый выпуск бронзы, то такие монеты никто не станет принимать.
Lex frumentaria Друза каким-то чудом прошел. При поддержке казначейства (произведшего подсчеты и представившего те же, что и Друз, выводы о выгоде девальвации) сенат одобрил вынесение закона на обсуждение народным собранием. Там самые влиятельные всадники быстро смекнули, что почти ничего не теряют, поскольку при расчетах редко пользуются наличностью. Конечно, все прекрасно понимали, что закон затрагивает каждого, и видели различие между полновесной монетой и клочками бумаги; но они были прагматиками и отлично знали, что подлинная цена всяких денег зависит от веры людей, которые ими пользуются.
К концу июня закон уже красовался на медных досках. В последующие годы общественное зерно должно было продаваться по пять сестерциев за модий; квесторы, приставленные к казне, уже планировали первый выпуск подешевевшей монеты, а viri monetales готовились к чеканке. Все это требовало, конечно, некоторого времени, но ответственные чиновники докладывали, что к сентябрю каждый восьмой новый денарий будет посеребренным. Конечно же, раздавались и недовольные голоса. Цепион не переставал протестовать, всадников не слишком устраивало победоносное шествие Друза, а римская беднота подозревала, что властители каким-то образом водят ее за нос. Но Друз не был Сатурнином, и сенат был признателен ему за это. Проводя contio в плебейском собрании, он настаивал на соблюдении благопристойности и законности; если тому или другому что-либо угрожало, он немедленно распускал людей. Он не бросал вызова авгурам, никому не выкручивал рук.
В конце июня претворение в жизнь программы Друза пришлось прервать: наступил летний сезон, и в работе сената и комиций был сделан перерыв. Радуясь передышке – всеобщая расслабленность действовала и на него, – Друз тоже покинул Рим. Мать и всех шестерых детей, вверенных ее заботам, он поселил на своей роскошной приморской вилле в Мизене, а сам отправился сперва к Силону, потом к Мутилу, чтобы объехать вместе с ними всю Италию.
Ему не могла не броситься в глаза готовность всех италийских племен в центре полуострова взяться за оружие; путешествуя в обществе Силона и Мутила по пыльным дорогам, он наблюдал хорошо вооруженные укомплектованные легионы, тренировавшиеся вдали от Рима и поселений Лация. Но он помалкивал и не задавал вопросов, убедив себя, что их военное мастерство не понадобится. Предприняв невиданные законотворческие усилия, он сумел убедить сенат и плебейское собрание в необходимости судебной реформы, увеличения числа сенаторов, раздачи общественных земель и хлеба. Никому еще – ни Тиберию Гракху, ни Гаю Гракху, ни Гаю Марию, ни Сатурнину – не удавалось провести столько спорных законов ненасильственно, без борьбы в сенате и без противодействия всадников. Все потому, что ему верили, его уважали. Теперь он знал, что, когда он огласит свое намерение предоставить римское гражданство всем италикам, римляне пойдут за ним, хотя и не все. Цель будет достигнута! А значит, его, Марка Ливия Друза, клиентурой станет четверть населения всего римского мира, ибо в личной верности ему теперь клялись по всему Апеннинскому полуострову, даже в Умбрии и Этрурии.
За восемь дней до возобновления заседаний сената в сентябрьские календы Друз подался на свою виллу в Мизене, чтобы немного отдохнуть перед началом трудной работы. Он уже давно понял, что мать – не только радость, но и утешение его жизни: она была остроумна, начитана, понятлива, почти по-мужски разбиралась в этом мужском мире. Живо интересуясь политикой, она гордо и с удовольствием следила за законотворческой деятельностью сына. Свободолюбие, унаследованное от Корнелиев, толкало ее к радикализму, но присущий тем же Корнелиям консерватизм позволял ей оценить то, как хорошо ее сын разбирается в реалиях сената и народного собрания. Она одобряла его решение отказаться от насилия и угроз и прибегать к единственному оружию – убедительным и разумным речам. Это и есть по-настоящему великий политик! Именно им был Марк Ливий Друз, и она не могла нарадоваться, что он пошел в нее, а не в своего тупоумного, заносчивого скандалиста-папашу.
– Что ж, ты блестяще провел аграрный закон и разобрался с низшими классами, – похвалила она его. – Что дальше?
Он набрал в легкие воздуха и, глядя ей в глаза, твердо ответил:
– Теперь я внесу закон о предоставлении полного римского гражданства всем до одного италикам.
Мать сделалась бледнее своего белого одеяния.
– Не вздумай, Марк Ливий! – вскричала она. – Пока что тебе не препятствовали, но этого они не допустят!