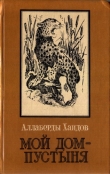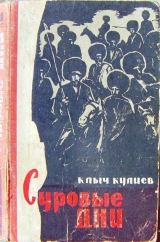
Текст книги "Суровые дни. Книга 1"
Автор книги: Клыч Кулиев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
«Слишком часто для искреннего человека ты поминаешь имя аллаха», – подумал Махтумкули и сказал:
– Богатство, хан, это соленая вода из дурного колодца. Чем больше пьешь ее, тем сильнее жажда, которая в конце концов становится настолько сильной, что подавляет все остальные чувства. Кто был богаче Гаруна? А что принесло ему богатство? Глаза его наполнились песком, но деньгами они не насытились, – не осталось ни богатства, ни доброй памяти. А вот Аннуширван Справедливый до сих пор живет в сердцах людей.
Старый слуга с поклоном распахнул дверь, пропуская в комнату богато одетого молодого человека с подвязанной рукой и бледным измученным лицом. При виде Махтумкули печальные глаза вошедшего оживились, он радостно протянул здоровую руку:
– Салам алейкум, Махтумкули-ага!
– Мир и тебе! – приветливо отозвался старый поэт, уже не удивляясь новой метаморфозе: вошедший был Нурулла. Он опустился на ковер рядом с Махтумкули и тихо сказал:
– Вы были мне как отец, Махтумкули-ага, вы спасли меня от смерти. До конца дней своих буду благодарить аллаха, если сумею сделать что-либо доброе для вас.
Поэт ласково положил руку на колено Нуруллы;
– Нурулла, сын мой…
– Очень прошу вас, Махтумкули-ага, простить меня за обман! – перебил Нурулла, не поднимая глаз. – Я назвался чужим именем. Меня зовут Фарук.
– Пусть так, – кивнул Махтумкули. – Для других ты Фарук, для меня останешься Нуруллой.
Бледное лицо юноши порозовело.
– Я согласен! Пусть это будет мое второе имя, которое дал мне мой второй отец!
Тачбахш-хан неодобрительно поморщился, сказал:
– Я объясню вам все, поэт: Фарук-хан тоже наш родственник, сын славного Мухаммеда Ифтияр-хана, которого народ почитал своим родным отцом. Очень сердечный был человек, да будет над ним милость и молитва аллаха! Почти в один день с шахом Агамамедом ушел он из этого мира. Фарук-хан, слава аллаху, растет таким же, как и его отец – помогает бедным и беззащитным, осуждает злых, защищает добрых. Клянусь аллахом, не льщу! Хоть он еще и очень молод, но достаточно умен, чтобы руководить народом. И сердце у него храброе, как у льва!
Фарук-хан густо покраснел, опустил голову.
– Наш дядя шутник и широкой натуры человек, – произнес он извиняющимся тоном. – Он всех оценивает с присущей ему щедростью.
Махтумкули вспомнил поведение Фарук-хана в плену. Нет, этот юноша ему определенно нравился! Может быть, его уже тронуло тлетворное влияние власти над ближними своими, но он еще сохранил юношеские порывы сердца, не разучился краснеть от явной лжи. Как мало людей умеют делать это!
Где-то громко хлопнула дверь. Поэт прислушался, Тачбахш-хан, по-своему истолковав его беспокойство, покровительственно заметил:
– С той минуты, как вы перешагнули порог этого дома, вам не причинит зла ни одна рука, поэт!
Махтумкули понял и усмехнулся.
– Одному бедняку сказали: «Проси у всевышнего все, что пожелаешь для себя, и он исполнит твою просьбу». «Я прошу, – сказал бедняк, – благополучия для моего народа». «А для себя?» «Если будет благополучен народ, буду счастлив и я. А счастье одного среди общего горя – утлая лодка без весел в бурном море». Так он ответил. Так отвечу и я вам, хан. Сегодня вы протянули мне руку помощи, а кто сделает это завтра?
– Всемогущий аллах! – с пафосом воскликнул Тачбахш-хан и, сунув руку под халат, поскреб свои тощие ребра.
– Конечно, – сказал Махтумкули, пряча смеющиеся глаза, – судьба смертного в руках всевышнего. Но не думаю, что дела, которые творятся сегодня в мире, совпадают с желаниями аллаха. Вот вы – кизылбаши, мы – туркмены. У вас свои заботы, свой образ жизни, у нас – тоже. Почему бы людям не жить только своими заботами? Ведь и в коране – глава вторая, стих сто тридцать третий – сказано: «Нам – наши дела, а вам – ваши дела». Но не тут-то было! Взаимный грабеж, взаимное разорение стран… Сами мы, братья, умножаем скорбь мира, которой и без того больше, чем достаточно. А могли бы жить в мире и согласии, делить нам нечего и молимся мы богу единому… Скажите, не смог бы я поговорить с Шатырбеком?
– Он уехал в Серчешму, – негромко ответил Фарук-хан. – А вы правильно сказали, Махтумкули-ага, мы действительно сами виновники своей скорби. Нужно, чтобы это народ постиг, но разум народа спит и не разумеет, где польза, а где ущерб.
– Вот-вот! – подхватил Тачбахш-хан. – Клянусь аллахом, истинные слова! Я во сне, ты во сне. Хофта-хофтара кей кунад бидар?[54]54
Как может спящий разбудить спящего? (Перс.)
[Закрыть]
Старый слуга, собрав чайники и пиалы, стоял с кумга-ном и тазом в руках и терпеливо дожидался, когда госгь и хозяева совершат омовение рук перед едой. Заметив его, Махтумкули сказал:
– Извините, я пока не голоден. С вашего разрешения, я лучше пройдусь к крепостной стене и похороню тех бедняков, которые там лежат. Они не знали покоя при жизни, пусть хоть после смерти найдут тихое пристанище.
– Благочестивое желание достойно всяческих похвал! – одобрил Тачбахш-хан. – Мы вам поможем…
Предав по ритуальному обряду земле шестерых погибших, Махтумкули ждал, когда принесут последнего. Его принесли двое кизылбашей на канаре[55]55
Канар – большой мешок.
[Закрыть] и тихо опустили возле старого поэта. Махтумкули посмотрел на тронутое желтизной лицо убитого, и сердце его дрогнуло – он узнал джигита, который отпустил маленьких пленников.
Лицо мертвого джигита было спокойно, на губах застыла тень улыбки, словно он с радостью принял страшный удар, разваливший его чуть ли не до пояса. И только открытые глаза пугали тусклым равнодушием смерти.
– Совсем молодой! – печально сказал Фарук-хан. – Вы его знали, Махтумкули-ага?
– Знал, сын мой… Не больше двадцати весен встретил этот юноша – ему ли было умирать!..
Махтумкули обмыл труп, завернул его в саван, прочел молитву, – и молодой джигит навеки успокоился на невысоком холме, рядом со своими случайными товарищами.
Старый поэт почувствовал некоторое облегчение от того, что с честью предал земле своих несчастных соотечественников.
– Спасибо, сын мой Нурулла, и вам спасибо, братья, за помощь, – сказал он помогавшим ему кизылбашам. – Они ни в чем не виноваты перед вами, эти заблудившиеся в дебрях жизни бедняки.
– Наших тоже четверо погибло, – сказал Фарук-хан, – а восемь человек тяжело ранены.
Махтумкули тяжело вздохнул.
– Если не прекратятся междоусобные распри, многих молодых и сильных ждет погибель, сын мой Нурулла…
Он грустным взглядом обвел свежие холмики земли и пошел в крепость. Его одолевали тревожные мысли. Бог ты мой, хоть бы остальные наши вырвались благополучно, думал он. А может, и они полегли где-то бездыханными телами? О бренный и жестокий мир! Даже ползущая в прахе змея не пожирает так жадно своих детей, как пожираешь ты порожденное тобой! Доколе будешь насыщаться?..
И в голове старого поэта, сами собой, стали складываться строки стихов.
Мир, звенящий железом своих когтей,
Ты жаднее голодного пса, о мир!
Сколько б ты ни стяжал, ты не станешь сытей,
Нам для счастья даешь полчаса, о мир!
Мир мне шепчет: «Найдешь ты подругу…» – Ложь!
«Окажу вам любую услугу…» – Ложь!
«День и ночь предавайтесь досугу…» – Ложь!
Ты увертливей спиц колеса, о мир!
Ткань души отберешь – ей возврата нет,
Ей цены, будь хоть в золоте плата, нет;
Прав на то, что захватчиком взято, нет,
И враждебна твоя нам краса, о мир![56]56
Перевод М. Тарловского.
[Закрыть]
Глава девятая
ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ?
Около молодого леска, в стороне от тропинки, идущей с гор в сторону Гапланлы, стоял наспех сооруженный шалаш. Сверху он был покрыт конской попоной. Солнечные лучи, пробившись сквозь неплотные ветки, освещали подстилку из травы и мелких ветвей, лежащие на ней саблю и топор, пустой хурджун на стенке шалаша, черный тельпек, уздечку, плеть. В шалаше отдыхал Тархан. Он поглядывал на тропинку. Легкий ветер, несущий с северо-запада ощутимое дыхание зимы, тихо покачивал верхушки деревьев, изредка обрывая пожелтевшие листья и кружа их над землей.
Вот Тархан легко вскочил на ноги, едва не свалив свое шаткое убежище, высунулся из шалаша:
– Лейла-джан, чай еще не закипел?
Неподалеку весело трещал костер, возле которого сидела на корточках Лейла. Она обернулась на голос, ее огромные глаза лучились нежностью.
– Уже закипел!
Тархан присел возле костра, взял в широкие ладони маленькую, нежную руку Лейлы, заглянул в лицо молодой женщины. Лейла стыдливо потупилась.
Тархан улыбнулся.
– Ладно, ты иди, вымой пиалы, а чай я сам заварю.
Любуясь ее грациозной походкой, Тархан чувствовал себя счастливейшим из смертных. Поистине аллах проявил щедрость, дав ему возможность встретить Лейлу в этой кутерьме!
Он снял с огня тунчу[57]57
Тунча (тунче) – сосуд, предназначенный специально для кипячения чая.
[Закрыть], в которой бурлила вода, отставил ее в сторонку, чтобы не опрокинулась, ногами затоптал костер – пусть не дымит зря, не выдает недоброму глазу их убежище.
Уже два дня прошло с тех пор, как Тархан с Лейлой обосновались здесь, благополучно перейдя горы. После того, как джигиты вырвались из крепости, пробившись сквозь заслон сарбазов Селим-хана, им пришлось принять неравный бой с кизылбашами около Куня-Кала. Не выдержав напора численно превосходящего врага, туркменские всадники рассыпались, как стадо овец, на которых напали волки. Бесславному поражению способствовало во многом и то, что храбро сражались только хаджиговшанцы. Джигиты из других аулов, примкнувшие к Адна-сердару в надежде на богатую добычу, поняв, чем может кончиться дело, повернули коней к Туркменсахра.
Тархану приходилось защищать двоих – держась за его пояс, на крупе коня сидела Лейла, сбежавшая в суматохе от Илли-хана. Но Тархан был смел и прекрасно владел саблей. Недаром Адна-сердар, собираясь в поход, каждый раз обязательно брал его с собой, как личного телохранителя, частенько в сражениях посылал его вперед, чтобы вдохновить колеблющихся и нагнать страху на противника.
На этот раз Тархан защищал не сердара. Не потому, что не хотел, а просто позабыл о нем в перепалке. Тархан шел в поход по обязанности – не из чувства мести или желания обогатиться. Вероятно, поэтому аллах послал ему такую удачу, о которой он не мечтал и во сне. Еще задолго до похода он вздыхал и томился, посматривая на молоденькую, всегда печальную наложницу сердара. Тархан вздыхал – больше ему ничего не оставалось делать – да мечтал втайне о женской ласке, которой ему еще не довелось испытать.
Не была равнодушной к застенчивому богатырю и Лейла. Больше того, вынужденная покорно подчиняться постылым ласкам Адна-сердара, одинокая и чужая для всех в ауле, она втайне полюбила Тархана. Она видела тоску в его глазах и сама жаждала человеческого участия, хотела хоть на миг почувствовать себя не бесправной рабыней, а женщиной, которую любят и уважают. И уверяя себя в том, что еще не испытала ни к кому настоящего чувства, она просто хитрила.
Мечты оставались бы мечтами, если бы буря, разразившаяся над аулом, не помогла соединиться любящим. И вот уже второй день они вместе.
Для Тархана все радости его прошлой жизни были куда бесцветнее и беднее этих двух дней. Ын о чем не размышляя, он стал рубить сучья и строить шалаш, словно собирался прожить на этом месте все оставшиеся ему дни. Так же беззаботно помогала ему Лейла, и когда руки их случайно соприкасались, – чувства вспыхивали с новой силой. И мир вокруг становился иным – светлым и красочным.
Они забыли о прошлом и не думали о будущем. Они были вместе – и этого хватало для счастья.
Когда утром Тархан открыл глаза и увидел рядом с собой спокойное во сне и такое прекрасное лицо Лейлы, он просто опьянел от нежности к ней. Совсем недавно он лишь мечтал о том, как обнял бы ее, поцеловал, – за это готов был отдать жизнь. Но сейчас он хотел жить – жить рядом с любимой, ласкать ее, защищать…
Вот бы умчать Лейлу куда-нибудь подальше от этих мест, укрыться от ястребиных глаз Адна-сердара, перебраться в Ахал или Хиву… Но хватит ли у нее сил на такой путь?..
Фырканье коня заставило Тархана оторваться от мечтаний и вспомнить о насущных делах. Он подошел к коню, погладил гриву и мягкий шелковистый храп. Потом сгреб в охапку приготовленную накануне кучу травы, кинул ее гнедому, взял тунчу и пошел в шалаш.
Лейла заварила чай прямо в тунче– чайника у них не было. Поймав горячий взгляд Тархана, потянулась за его халатом, накинула на себя, прикрывая прорехи зеленого, расшитого по вороту платья – дара Шатырбека. Вышитые золотом туфли с загнутыми носками, тоже подаренные Шатырбеком, пострадали, как и платье, – у одного отлетел каблук, другой порвался около носка.
– Сними это, Лейла-джан! – капризно попросил Тархан и тихонько потянул за халат.
Лейла ответила взглядом, полным нежности, но воспротивилась.
– Не надо… Ты ведь знаешь, что у меня платье порвано!
– Ну и что же, что порвано! – настаивал на своем Тархан. – Меня стесняешься, что ли? Сними, а то сам сниму!
– Не надо! Не трогай… На лучше свежего чаю выпей.
– Чай я всегда найду, а вот тебя…
Тархан схватил Лейлу в объятия и принялся жадно целовать ее губы, глаза…
– Снимешь?
Она поправила растрепавшиеся волосы, улыбнулась, отрицательно качнула головой. Тогда он рывком сдернул халат, неловко зацепил платье, и оно треснуло. Лейла стыдливо пыталась стянуть порванные края, а Тархан уже не мог отвести глаз от обнажившегося молодого тела. Кровь ударила ему в голову, и он вновь жадно прильнул к горячим губам Лейли…
Потом Тархан налил в пиалу остывшего чая, спросил устало:
– Как думаешь, что будет с нами?
Лейла не решилась взглянуть на него. Горячий румянец медленно сбегал с ее лица – так наплывающая на солнце туча постепенно гасит живые краски земли.
Тархан по-своему понял ее настроение и бодро сказал:
– Пяхей, Лейла-джан, не думай ни о чем! В этом мире для нас много дорог. Все равно, по какой из них отправиться – в Хиву ли, в Мары… Слава аллаху, мир широк, везде найдем кусок хлеба, с голоду не помрем, а там видно будет. Главное – мы вместе.
Лейла продолжала молчать. Тархан подсел поближе, обнял за плечи.
– Ну, что ты опустила голову, Лейла-джан? Не печалься! Посмотри на меня… Ну, посмотри же!
Лейла прижалась лицом к его груди и беззвучно заплакала. Недавнее состояние радости внезапно сменилось ощущением глухой, гнетущей тоски. Она не понимала ее причины, но плакала все горше и все сильнее прижималась к Тархану, словно прощаясь с ним навсегда.
Поглаживая ее волосы, Тархан успокаивал:
– Что ты, Лейла-джан? Ты же сильная, как джигит, а плачешь. Говори – почему? Может, ты боишься идти со мной в чужие края? Скажи!
Всхлипывая, Лейла покачала головой.
– С тобой… я на край света… пойду…
– Почему же тогда плачешь?
– Так просто… Сама не знаю…
– Слез без причины не бывает. Ты мне не хочешь открыть свое сердце? Разве у тебя есть человек, более близкий, чем я?
Лейла порывисто прижалась к нему.
– Я боюсь… Если б ты знал, как я боюсь!
– Чего ты боишься, глупышка?
– Боюсь, что счастье наше кончится. Боюсь разлуки с тобой.
– Не надо думать об этом, Ленла-джан. Судьба соединила нас, значит у нас – одна дорога. И мы пойдем по ней вместе.
– Дан бог, чтобы так было!
– Все будет хорошо, Ленла-джан!
Лейла постепенно успокаивалась. Но прежнее состояние счастья и покоя не возвращалось. Она испуганно дрогнула, когда вдали прозвучало конское ржанье.
– Твой?
– Нет, – прислушиваясь, ответил Тархан, – это чужой конь… А ну-ка, подожди…
Он взял саблю и выбрался из шалаша. Его гнедой стоял, насторожив уши, и смотрел в сторону тропы. Тархан спустился в овражек, стараясь потише шуршать палыми листьями, прошел несколько десятков шагов и выглянул. На тропе стояли два всадника. Один – высокий и худой, как скелет, с длинной белоснежной бородой – был незнаком. Второй богатырской фигурой и ладной, своеобразной посадкой в седле напоминал Пермана. Тархан вгляделся пристальнее: конечно, Перман и есть!
Сзади зашуршало. Он быстро обернулся, но это подходила Лейла – у нее недостало сил дожидаться Тархана.
– Кто это? – одними губами спросила она.
– Один – Перман. Второго не знаю.
В широко раскрытых глазах молодой женщины застыл тревожный вопрос. Приподнявшись на цыпочки, она попыталась выглянуть из оврага. Но это ей не удалось. Тархан тихо засмеялся:
– Подсадить?
– Что будем делать? – не принимая шутки, тревожно спросила Лейла.
– Окликнем их, – сказал Тархан. – Перман – свой человек.
– А тот, второй?
– Э, Перман с плохими людьми компанию не водит… Ты, Лейла-джан, возвращайся в шалаш и жди меня, а я подойду к ним. Если с Перманом верный человек, приведу обоих, если нет – одного Пермана.
– А может, никого не надо? Пусть они едут своей дорогой…
– Не бойся! Перман большую помощь может нам оказать!
– Делай, как знаешь, – с привычной покорностью согласилась Лейла, и в голосе ее прозвучала нотка горечи. – Только возвращайся побыстрее…
– Хорошо… На, возьми саблю!
Принимая клинок, Лейла слабо улыбнулась.
– Я не умею рубиться на саблях!..
Она проводила Тархана взглядом, чувствуя, как опять недоброй болью сжимается сердце, и медленно пошла к шалашу. Напрасно не послушал ее Тархан. Лишние глаза– лишняя беда. Тот, кто строит свое счастье на зыбком песке, должен опасаться каждого порыва ветра. Потом, когда песок будет скреплен глиной, а глина засохнет и превратится в камень, можно не бояться ничего. Но вначале…
Всадники между тем спешились. Седобородый джигит раздувал костер. Перман, чертыхаясь, возился с тугим узлом хурджуна. Кони мирно щипали блеклую осеннюю траву.
Стоя за деревом, Тархан хотел было сначала окликнуть Пермана. Потом передумал и, озорничая, с криком: «Я Али!.. Помоги Али!» – выскочил из леска. Перман схватился за ружье. Белобородый поднялся, обнажив саблю.
– Эй, герой, не залей кровью вселенную! – закричал Тархан, подбегая.
Друзья крепко обнялись. Перман шутливо упрекнул:
– Пэх-ей! Разве можно так пугать людей, которые и без того напуганы?.. Ягмур-ага, это и есть тот самый Тархан, о котором я вам давеча говорил!
– Здравствуйте, яшули! – вежливо поздоровался со стариком Тархан.
– Это Ягмур-ага, – пояснил Перман, снова берясь за хурджун. – Он из нашего села, но ты его не знаешь. Тебя еще на свете не было, когда он в плен к кизылбашам попал… Вот чертов узел! Кто только тебя завязывал!..
– Ты же, наверно, и завязывал, – усмехнулся Ягмур и обратился к Тархану – Случайно, сынок, не встречался тебе поэт Махтумкули?
– Нет, – с сожалением сказал Тархан. – А разве с ним что-нибудь случилось?
– Кто знает… Одному аллаху ведомо. Когда мы из крепости вырвались, его никто не видел. Хорошо, если не попал в руки кизылбашей. Нас освободил из цепей, а сам… С какими глазами мы появимся в ауле? Я готов назад возвратиться, чтобы его выручить!
Перман, справившийся наконец с узлом, заметил:
– Что толку будет от нашего возвращения? Лишними рабами кизылбашей только порадуем. Надо быстрее в аул возвращаться и, если он еще не вернулся, сообща думать, как его выручить.
– Что же ты предлагаешь? – спросил Тархан.
– Поесть, попить чаю и трогаться в путь.
– А больше никто сюда не придет?
– Сегодня, друг мой, каждый сам ищет свою дорогу. Не припомню случая, чтобы нас так крепко расколотили кизылбаши! Что-то здесь не то. Ягмур-ага говорит, что прошлую пятницу к Шатырбеку приезжал Абдулмеджит-хан со своими нукерами. До самого вечера барабаны били, музыка играла. Ясно, что не заблудился хан.
– Верно, сынок, – подтвердил Ягмур. – Шатырбек имеет за спиной какую-то поддержку. Совру, если скажу, что видел регулярное войско, но Абдулмеджит-хана своими глазами видел – он целый день просидел с Шатырбеком. Его нукеры пировали и пили вино. И еще одного видел – начальника сарбазов Селим-хана. По-моему, он покинул крепость не вместе с Абдулмеджит-ханом и где-то неподалеку были его сарбазы…
Он склонился к костру.
Раскладывая на дастархане лепешки, Перман спросил, понизив голос:
– Ты один, Тархан?
– Нет, – шепотом ответил Тархан.
– Кто?
– Пойдем со мной… Пока Ягмур-ага чай готовит, я тебе покажу кое-что!
– Не шепчитесь, ребятки! – добродушно сказал Ягмур. – Ступайте по своим секретным делам, только к чаю не опаздывайте!
Шагая рядом с Перманом, Тархан спросил:
– О сердаре ничего не слышно?
– А что с ним случится? – равнодушно ответил Перман и вдруг резко остановился. – Постой! Ты почему сердара вспомнил? Уж не Лейла ли с тобой?
– Нет, – сказал Тархан, в глубине души удивленный проницательностью друга. – Лейла далеко.
– Хитришь?
– Нынче все хитрят.
– Кто же все-таки у тебя?
– Придешь – увидишь.
– Женщина или мужчина?
– На что мне мужчина сдался!
Перман шутливо толкнул Тархана в плечо.
– Вот хитрюга, а! Всех обскакал! Другие о животе своем заботились, а он и о добыче не забывал! Ну, если в такой передряге тебе что-либо стоящее попало, снимаю перед тобой свой тельпек! И как это ты ухитрился?
– Как говорили в старину, когда аллах дает рабу своему, он ложит вещь на пути его.
– Хорошенькая?
– Как частица луны!
Переговариваясь, друзья добрались до полянки. Окинув ее взглядом, Перман воскликнул:
– Эге, брат, да ты тут, гляжу, всерьез расположился! Отличное местечко для любви! Думаю, если бы поделили все богатства земли, все равно нам лучше не досталось бы.
Тархан громко крикнул:
– Эй, невеста, выходи из дому! Гостя встречай!
И заглянул в шалаш. Перман пытался рассмотреть, кто это сидит в шалаше, с головой укутанный мужским халатом.
– Пяхей, гелин-джан, как сидишь! – смеясь, Тархан потянул с Лейлы халат. – Ну-ка открывай свое лицо! Покажи нам, кто ты есть!
– У кого же такая маленькая рука, как не у Лейлы! – прогудел Перман и густо захохотал.
Лейла снова съежилась под халатом, но Тархан с мягкой настойчивостью снял его с молодой женщины.
– Теперь уже нечего прятаться, Лейла-джан! У Пермана взгляд, как у орла, сквозь халат тебя разглядел!
Лейла смущенно отворачивалась, пряча лицо.
– Ладно тебе! – вступился за нее Перман. – Иди-ка сюда!
Они отошли в сторону.
– Какой ты счастливый человек! – улыбаясь, сказал Перман. – Тебе везет, как филину. Помнишь, ты говорил: «Поцеловать один раз – и умереть»? Ну, а что теперь еще желаешь?
– Пока ничего, Перман-джан, – ответил Тархан. – Но есть одна мечта.
– Достигший брода достигнет и берега. Знаю, о чем ты мечтаешь!
Лейла подсматривала за ними в щелку между ветками шалаша. Она напряженно вслушивалась, но слов разобрать не могла. Понимая, что речь идет о ней, пыталась догадаться… Вот Перман сказал что-то Тархану. Тот отвечает ему. Смеются. Нет, хорошо смеются, не обидно!
Она невольно сравнивала их: очень похожи на братьев. Оба – рослые, широкоплечие, Тархан даже чуточку пошире в плечах. Но о чем же они все-таки говорят? К какому решению придут?
Закат, пылавший в полнеба, угасал. Острые пики горной гряды медленно теряли свои четкие очертания, расплывались в поднимающейся из ущелий мгле. Но хаджиговшанцы, собравшиеся на окраине аула, не торопились расходиться по домам. Весть о разгроме уже облетела всю округу. Вчера многие из джигитов, потрепанные и прячущие глаза, вернулись в аул. Судьба остальных была неизвестна. И люди высматривали силуэты всадников, которые должны были появиться со стороны Гапланлы. Кто ждал отца, кто – брата, кто – друга. Даже детишки, обычно непоседливые и шумливые, притихли, усевшись поблизости от взрослых.
Старики сидели на вершине пологого холма. Среди них был и Мяти-пальван. Многие считали его счастливым и не без основания: его Джума вернулся целым и невредимым. Мяти-пальван тоже радовался возвращению сына, но и сердито поругал его за то, что не усмотрел за Махтумкули. Старый поэт был для него другом и братом, его отсутствие глубоко печалило Мяти-пальвана. Конечно, мальчик прав, что в такой переделке, когда смерть заглядывает в глаза, за каждым человеком не уследишь. Но ведь ему наказано было смотреть не за каждым, а за Махтумкули! И Мяти-пальван не знал, сильнее ли печалился бы он, случись не вернуться Джуме…
Старики негромко переговаривались.
– Сегодня, возвращаясь с Карабалкана, встретил
Эсена Безрукого. Говорит, что вернулись трое ушедших из Шагал-Тепе.
– Я тоже слышал: младший сын Ораза Гирджика вернулся. А о старшем пока ничего не слыхать.
– Говорят, из Ковли тоже двое всадников вернулись.
– Нет, они еще вчера приехали.
– Вчера – другие, а эти – сегодня.
– О аллах! Я сам говорил с человеком из Ковли – никто со стороны Гапланлы не приходил к ним сегодня!
– Ну, ладно, пусть будет как ты сказал… А только я слышал, что и сегодня двое вернулись.
– Пяхей, не спорьте напрасно! Сейчас слухов, что в Мекке арабов. Один одно говорит, другой – обратное. Пока своими глазами не увидишь, трудно поверить.
– Истинно так! Вчера только кричали, что у кузнеца Шамурада сыновья вернулись, а от них и до сих пор нет никаких вестей.
– Да, как бы бедняга на самом деле без потомства не остался!
Мяти-пальван не вмешивался в разговор. За эти дни он столько наслушался, что, пожалуй, хватит на целый год. Вначале и он ждал: вслед за вестями появятся и те, о ком говорили. Ведь всем известно, что добрую весть не обгонит самый удалой всадник. Но вести оказывались вымыслом. И старый Мяти-пальван устал от бесплодного ожидания.
– Пойдемте по домам, люди, – сказал он, стряхивая пыль с тельпека и надевая его на голову. – Время намаза подходит. Сегодня уже вряд ли кого дождемся.
Старики тяжело поднялись и устало побрели в разные стороны.
Заложив руки за спину и опустив голову, Мяти-пальван шел, думая о Махтумкули, Пермане, Бегенче, обо всех, кто не вернулся из этого несчастного похода. Неужто так и не вернутся?
Около дома Бегенча он задержал шаг, прислушался. Но из кибитки не доносилось ни звука, хотя старая Сабыр-эдже тяжело болела и около нее должны были находиться женщины. Нарочито громко покашливая, Мяти-пальван шагнул к двери.
В слабом свете коптилки беззвучно ползали по стенам кибитки тени. Сабыр лежала, укутанная стареньким одеялом. Вокруг нее сидели женщины. Те, что помоложе, при виде вошедшего зашевелились, поправляя яшмаки, отодвинулись подальше, в тень. И только задумчивая, очень печальная женщина, возле которой прикорнул трехлетиям карапуз, не тронулась с места. Да древняя старушонка, сидящая у изголовья больной, сощурилась, всматриваясь в вошедшего.
– Это ты, Мяти? Проходи, садись…
Мяти-пальван присел на корточки, кивнул на больную:
– Как она?
– Ай, все лежит с закрытыми глазами, – прошамкала старуха. – Недавно бормотала что-то, не разобрать что. Огульнабат говорит, что у нее сердце опустилось, да поможет ей аллах…
Мяти кинул взгляд на женщин, притихших в темном углу, ободряюще сказал:
– Держите себя в руках, женщины. Все кончится хорошо, вернутся наши джигиты.
Мальчонка приподнял голову.
– Па-апа пришел?
– И твой папа вернется, сынок, – пообещал Мяти-пальван. – Если не сегодня, то завтра обязательно придет.
Смуглая женщина дрогнула, глаза ее наполнились слезами. Это была Гульджамал, жена Пермана. А мальчик, опершийся подбородком на руки и сверкающий глазенками, – их единственная радость и гордость, Мурад.
Старуха со вздохом сказала:
– Пусть всевышний услышит твои слова, Мяти!
Сабыр слабо задвигалась под одеялом, простонала и опять затихла.
– Ну, будьте здоровы! Посмотрим, что принесет завтрашний день, – сказал, поднимаясь, Мяти-пальван.
В мазанке Махтумкули мерцал свет, и Мяти-пальван на какое-то мгновение показалось, что поэт вернулся, но он тотчас отбросил эту мысль. Не считаясь с дневной усталостью, раньше люди приходили сюда послушать новые стихи Махтумкули, потолковать о тяготах жизни. Сейчас в мазанке могли быть только Акгыз или Джума. Скорее всего, Джума.
Да, это был он. Он лежал, подложив под грудь подушку, и читал стихи, которые Махтумкули только что, перед самым походом, собрал воедино, в книгу.
При виде отца, Джума быстро положил рукопись и сел. На лице его было написано смущение и тревожное ожидание. Хоть отец и не совсем справедливо ругал его за Махтумкули-ага, он все равно чувствовал себя виноватым и готовился покорно принять новые упреки. Но Мяти-пальван только спросил:
– Ты ужинал, сынок?
Джума кивнул.
– А я по пути зашел справиться о состоянии Сабыр-эдже.
– Как она?
– Лежит… Стонет…
Мяти-пальван окинул взглядом кепбе, помолчал и сказал:
– Занимайся своим делом, сынок. Я пойду попью чаю…
После ухода отца Джума некоторое время сидел неподвижно. Затем опустился на подушку и взял в руки книгу. Он тяжело страдал оттого, что был разлучен со своим учителем Махтумкули. Но так же, как в крепости Шатырбека, он был бессилен. Что он может сделать? Конечно, отец знал, что он не виноват. И все же сетовал на него. А разве только он страдает в бессилии? Чем лучше участь Сабыр-эдже? Вначале она переживала потерю Джерен, теперь сгорает от разлуки с Бегенчем…
Шум, раздавшийся возле самой кибитки, отвлек Джуму от мыслей.
– Эй, хо-ов, люди! – радостно вопил кто-то. – Поздравляю, люди! Вернулись наши!
В дверях Джума столкнулся с отцом. Мяти-пальван тяжело дышал, не попадая рукой в рукав халата.
– Беги скорее, сынок! – крикнул он. – Махтумкули вернулся!
Джума припустился со всех ног. Мяти-пальван постоял, глядя на бегущих людей, не выдержал и сам побежал.
Радостная весть мгновенно всполошила все село. Кто еще не улегся, сразу выскочил из кибиток. Спящие проснулись и, кое-как накинув одежду, тоже побежали к дороге. По обе стороны ее уже теснились толпы людей, возбужденно переговаривающихся и глядящих вниз, туда, где, миновав старый арык, поднимались в гору несколько всадников.
Джума нетерпеливо расталкивал людей, пробиваясь поближе к дороге.
– Смотрите, Перман едет! – крикнул кто-то.
– И Тархан рядом!
– А кто этот, седой?
– Смотрите, женщина позади него!
– А вон еще двое всадников!
Джума выскочил на дорогу, схватил по уздцы взмыленного коня Пермана.
– Салам, Перман! Махтумкули-ага тоже с вами?
Перман спрыгнул с коня, негромко и суховато сказал:
– После поговорим!
Ответ не удовлетворил Джуму, но допытываться подробностей сейчас не было возможности: вокруг всадников плотным кольцом сомкнулась возбужденная толпа, со всех сторон потянулись руки для приветствия.
– Па-апа пришел! – прозвучал среди общего гама детский голосок. Он был совсем тихий – шелест травинки среди грозного гула деревьев, но Перман вскинулся, точно ужаленный:
– Мурадик! Сынок! Гульджамал моя!..
Много горьких испытаний выпало в жизни на долю Тархана. Но таких мук, как сегодня, он не испытывал еще никогда. Давая корм коню, он в кровь кусал губы, когда из кибитки Садап доносились глухие звуки ударов и болезненные вскрики Лейлы. «Ворвусь в кибитку! – думал он. – Свалю старую ведьму наземь и умчу Лейлу в сторону Соны-Дага!» Но рассудок злорадно шептал: «Ты, безродный слуга сердара, осмелишься поднять руку на его старшую жену?» И Тархан скрипел зубами, чувствуя себя как цепной пес, задыхающийся в ошейнике от бессильной ярости. Но, когда послышался особенно болезненный крик, он с силой ударил торбу о землю, кинулся к кибитке.