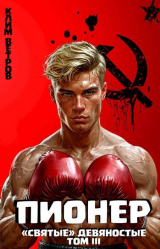
Текст книги ""Святые" 90-е Пионер. Том III (СИ)"
Автор книги: Клим Ветров
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Ну да, не тугриков же…
– Я думал рублей…
Да, наверное бухгалтер из него так себе, но не это было главное. Честность и преданность, вот что мне нужно в первую очередь. А он, я это видел, обладает и тем и другим. С Шухером не получилось у меня дружбы, во всяком случае в том смысле какой я вкладывал в это слово, и вполне вероятно что и с остальными «проверенными» в далёком будущем парнями будет плюс-минус то же самое.
Поэтому Виталик, Гусь, может быть Скопинцев со Славой, единственные кому я могу хоть как-то доверять.
Оставив Виталика в его новом кабинете, я вышел, намереваясь попросить парней помочь вытащил картошку. Домой столько не надо, а здесь за милую душу уйдет, ртов много, и все постоянно голодные.
– Это что? – проходя мимо приспособленного под столовую помещения, через открытые двери я машинально посмотрел на работающий телевизор.
Яша-Боян, сидя за столом, методично размешивал сахар в стакане.
– М-м? – по обыкновению промычал он. Я поначалу удивился его прозвищу, подумал ещё – при чем тут баян, но потом объяснили что прозвали его так не в честь музыкального инструмента, а в честь Бояна, древнерусского поэта. Яша вообще на разговоры не мастак, если вдруг решит «выдать» мысль, хрен его поймёшь, отсюда и погоняло, вроде как в насмешку.
– Давно показывают? – показал я на телевизор, транслирующий балет Лебединое озеро.
– Угу. – Яша ткнул ложкой в экран. – С обеда. Музыка… – Он внезапно замер, уставившись на свои руки. – Уснуть можно.
Подойдя к телевизору, я взял в руки газету с программой. Время половина пятого, по первому каналу передача «Сельская жизнь», и никакого балета.
Поискав глазами пульт – а телевизор был крутой, японский, хоть и со странным названием «Оrson», нажал кнопку с цифрой два.
То же самое, балет.
В голове сразу забурлили мысли.
Переворот?
Нет, путч будет в августе, ошибки быть не может, я точно помню «августовский путч девяносто первого». Но тогда что? Кто-то умер? Хотя крутить балет стали именно путчисты, и смерти высоких деятелей это не касалось.
Вопросы, вопросы, вопросы. И самое неприятное, узнать не у кого. Вот вообще никак. Были бы знакомые в Москве, мог бы позвонить, но знакомых нет, звонить некому.
Весь оставшийся день прошёл в неведении. Кого не спросишь, пожимают плечами, и только наутро просочились первые слухи.
«Горбачева сместили, в Москве стреляют.»
Вообще, мои знания про путч ограничивались самой датой, Ельциным на танке, Горбачевым в бегах, да фамилиями Язов и Янаев. Ну и тем что путчисты хотели сохранить союз, а Ельцин со своими сторонниками помешал этому. Почему дата сместилась и какие будут последствия, я даже не предполагал, слишком сложно такое прогнозировать. Мысль о том что в этом виноват Лосев с товарищами, возникала, но опять же, при данных масштабах, кроме самого предположения, никаких доводов за эту версию привести я не мог. Это ладно здесь, в маленьком городке с криминалом повоевать чужими руками, тут соглашусь, могут. А там, в Кремле? Верится с трудом.
Но факт, как говорится, на лицо. Или на лице.
Глава 7
Первой официальной информацией которую мне удалось раздобыть – а это был пойманный на приемнике знакомого радиолюбителя слабый, но отчетливый сигнал «Голоса Америки», – я просто не поверил. Слова, пробивавшиеся сквозь помехи, казались настолько нелепыми, что мозг отказывался их принимать.
Там, сквозь шипение и свист, сказали, что в результате военного переворота к власти пришел вице-президент Янаев, а самого Михаила Сергеевича Горбачева… задушили. Вот так просто, будто речь шла о погоде: задушили в его же крымской резиденции Форос. А про Ельцина, про того который в оригинальном варианте был главным оппонентом гэкачепистов, – ни единого слова.
Вечером за ужином, в привычной, уютной кухне, пахнущей картошкой и селедкой, под успокаивающее бульканье чайника на плите, я пересказал услышанное родителям. Мама побледнела как мел. Цвет мгновенно сбежал с ее щек, оставив их восковыми, а рука, державшая ложку, замерла в воздухе.
– Что теперь будет⁈ – вырвалось у нее сдавленным шепотом, больше похожим на стон. – Господи, задушили?.. За что?.. И что теперь будет⁈ – повторила она.
Отец, до этого молча и мрачно ковырявший вилкой в тарелке, резко стукнул кулаком по столу. Посуда звякнула. Он вскинул голову, и в его обычно спокойных глазах сверкнула стальная искра решимости, а голос звучал как приговор, не терпящий возражений.
– Ничего не будет! – отрезал он твердо, почти грубо, глядя куда-то поверх маминой головы, будто обращаясь к невидимым силам.
– Ни-че-го! Армия порядок наведёт. Быстро и жестко. Не впервой ей такое. – Он произнес это с такой непоколебимой уверенностью, словно уже видел колонны танков, входящих в Москву. Вера в армию, этот последний бастион порядка, была для него священной коровой. Его спокойствие, казалось, должно было успокоить, но почему-то становилось только страшнее.
То, что армия – это железный аргумент, сомнений не вызывало. Кто спорит с дулом танка? Только вот нюанс: для кого именно она этот порядок наведет? Для тех, кто хочет сохранить Союз любой ценой, или для тех, кто уже рвется на свободу? Мысли о том, что будет, если Союз не распадется, я яростно гнал прочь. Это сейчас казалось абсурдом. Это ведь не после драки кулаками махать – мол зачем допустили, надо было сохранять и всякое такое. Карта уже перевернута! Пол-Союза уже вздыбилось. Грузия, Армения – там кипит своя каша. Литва, Латвия, Эстония – уж эти-то балтийские «тигры» давно выстроились у выхода и только ждали толчка, чтобы хлопнуть дверью. Украина опять же. И как они воспримут возвращение «порядка» из Москвы? Только зубами, только в штыки! Ну а если центр, то бишь Москва, пойдет по привычному пути – кулаком по столу, танками по площадям – то что из этого выйдет? Кровь, хаос, война? Одному Богу известно. «Сценарий Югославии, только в сто раз масштабнее», – с ужасом осознавал я. Но это все потом. Чтобы даже подумать о таком сценарии, путчистам сперва нужно было разобраться в самой Москве. А там, – насколько я знал по прошлому варианту, народ, этот самый «маленький человек», совсем не горел желанием видеть их победу. Москвичи наверняка уже выходили на улицы.
– Армия?.. – прошептала мама, и в этом шепоте слышалось нечто большее, чем просто вопрос. Это был крик души, полный страха перед знакомой, но от этого не менее жуткой мощью военной машины. Ее глаза, все еще широкие от ужаса, перебегали с меня на отца, ища хоть какого-то успокоения, которого не было.
– А кто ещё⁈ – хмыкнул отец с каким-то раздраженным превосходством, будто отвечал на глупый детский вопрос. Он резко махнул рукой, отмахиваясь от ее страхов, как от назойливой мухи. – Разберутся, говорю тебе! Ничего не случится. Ишь ты, накрутила себя! Не забивай себе голову ерундой. – Он взял ложку, решительно размешал остывающий суп, пытаясь вернуть ужину видимость нормальности, но движения были резкими, нервными. – А если уж и случится что… пожал он плечами с мрачной усмешкой, – то до нашей дыры, поверь, не дойдет.
Я, конечно, думал совсем иначе. Внутри все кричало о надвигающейся катастрофе, о трещине, которая вот-вот разломит страну пополам. Но спорить с отцом? – Бесполезно. Его уверенность была непробиваемым монолитом. Я лишь тяжело вздохнул и отвел взгляд в окно, где сгущались ранние мартовские сумерки.
А вечером, ровно в девять, когда надоевшие аккорды «Лебединого озера» вдруг оборвались на самом пронзительном моменте, сменившись мертвящей тишиной, а потом – назойливой, монотонной черно-белой рябью на экране, мы словно по команде, втянув головы в плечи, дружно уселись перед телевизором.
Дружно? Скорее обречено. Мы впились в мерцающий экран, затаив дыхание, ловя каждый шорох из динамика, каждый проблеск изображения. Ждали. Минуты тянулись как часы. До самой глубокой ночи. Но кроме этой противной, гипнотизирующей ряби, – ничего. Ни единого слова. Никаких новостей. Тишина эфира была красноречивее любых слов – она кричала о катастрофе.
Спать легли, конечно, не выключая телевизор. Он стоял в углу комнаты, мертвенно поблескивая рябью, как зловещий глаз циклопа, освещая стены призрачными бликами. Его мерцание бросало на потолок странные, пугающие тени. Надежда, тщедушная и глупая, теплилась: вдруг среди ночи заговорят? Вдруг скажут, что всё это страшный сон? Но ни ночью, когда я ворочался, вскакивая при каждом изменении тона помех, ни утром, когда серый свет за окном слился с серым светом экрана, – ничего не изменилось. Тот же мертвый шум.
Позавтракали молча, под аккомпанемент шипящего ящика. Еда казалась безвкусной, ватной. В институт я не поехал. Какая учеба, когда мир трещит по швам? Мысли путались, сосредоточиться было невозможно. Дождавшись, когда родители, мрачные и озабоченные, уйдут на работу, я натянул первую попавшуюся куртку и пошел на остановку, к киоску «Союзпечати». Мелькнула мысль: мало ли? Сейчас ведь прорва всяких газетенок – и «патриотических», и «демократических», и бог весть каких. Может, какая-нибудь лихая редакция рискнула, напечатала хоть что-то? Хоть кроху правды, хоть обрывок слуха, подтверждённого типографской краской?
Но и тут меня ждал полный облом. У киоска бушевало настоящее людское море. Толпа гудела, как растревоженный улей. Люди толкались, вставали на цыпочки, кричали продавщице, но все было тщетно. Свежей прессы – ноль. Киоск был пуст, будто его обчистили грабители. Продавщица, бледная и растерянная, только разводила руками из-за стекла. Зато слухи! Слухи витали в воздухе густым, удушливым смогом, передаваясь шепотом, перекрикиванием, истеричными возгласами. Они плодились на глазах, один нелепее и страшнее другого. От захвата власти агентами ЦРУ и масонами (куда ж без них!), до высадки инопланетян в Кремле (логично, раз Горбачева задушили – значит, не люди!). Доносились крики про начало Третьей мировой, про ядерные удары, про то, что Ельцина уже расстреляли на Лобном месте, а Янаев – реинкарнация Берии. Голова шла кругом от этого безумного винегрета из страха и невежества.
Ко мне неожиданно прилип, хватая за рукав, мужик совсем бомжеватого вида. От него несло такой адской смесью перегара, пота и чего-то кисло-болотного, что дыхание перехватило. Глаза мутные, бегающие. Он тыкал грязным пальцем мне в грудь, брызгая слюной:
– Вот! Ты! Знаешь, што я думаю⁈ – прохрипел он, и от него пахнуло так, будто он действительно только что выпил целую цистерну самого отвратительного суррогата.
Я отшатнулся, задерживая дыхание, и сдержанно, стараясь не раздражаться, пожал плечами:
– Нет. Не знаю. – Внутри все сжалось от гадливости и желания поскорее уйти. Рука инстинктивно полезла в карман, проверяя кошелек.
– Это все, бляха, комуняки придумали! – заорал он с пьяной убежденностью, размахивая руками. – Горбачев им хвост прищемил, свободу эту свою навязал! А они – бац! – и отыгрались! Переворотчик устроили! Догоняешь, пацан? – Он подмигнул мне гноящимся глазом, довольный своей «проницательностью».
Отвечать не было ни малейшего желания. Все равно ничего путного, кроме бреда, от него не услышишь. А ввязываться в пьяную дискуссию было себе дороже. Я вежливо, но твердо высвободил рукав из его цепких пальцев и поспешно отступил в глубь толпы. Покрутившись еще минут десять, втягивая в себя обрывки разговоров, надеясь все же выловить хоть крупицу адекватной информации, хоть намек на правду, я окончательно убедился в тщетности затеи. Информационный вакуум был полным. Пошел домой, шаркая ногами по заледенелому асфальту.
Неужели так сработало то, о чем говорил Лосев? Их план: шар, борт, ещё борт, снова шар опять борт, шар и луза? Но как могут быть связаны события в нашем затрапезном городке, и там, высоких кабинетах кремля? Эффект бабочки? Но что-то быстро очень, только «сунули», и сразу ребёночек? А как же девять месяцев? Или сунули уже давно, а это последняя, завершающая деталь?
Зашёл в квартиру, захлопнув дверь, и первым делом – бросился к телевизору. Но на экране по-прежнему колыхалась та же мертвая, бессмысленная рябь. Тот же шипящий звук пустоты. Казалось, этот звук заполнил собой весь дом, всю страну.
Я бессильно плюхнулся на диван. Голова гудела от натужного ожидания и бесплодных размышлений. Что еще придумать? Куда податься? Мысли метались. Не в Москву же ехать? Сейчас там, наверное, ад кромешный. Связаться бы с Лосевым, он-то уж точно в курсе, что к чему на самом деле! Но как? Никак. Ни Лосев, ни Шухер, контактов своих мне не оставили, сказали что когда нужно будет, сами появятся. Вот и сиди теперь, как дурак, перед шипящим ящиком, в полной информационной блокаде.
Я был на кухне когда шипение помех в телевизоре сменилось грохотом новостной заставки, знакомые фанфары «Время» прозвучали как гром среди ясного неба, и едва не влепившись в косяк, я метнулся в зал.
Заставка кончилась, и на экране, необычайно бледный, но собранный, появился диктор Сергей Медведев. Он поприветствовал зрителей голосом, в котором старая привычная уверенность боролась с какой-то новой, металлической ноткой. После очень короткого, сухого вступления он… поздравил. Поздравил с победой! Говорил что-то об «огромных трудностях», о «кознях врагов», о «временных неудачах», но главное – о «блестящем успехе». О врагах народа, которые подло убили Президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева (это прозвучало как официальный некролог!), но с которыми, благодаря мудрости и личному мужеству вице-президента Геннадия Ивановича Янаева и созданного им ГКЧП, удалось справиться. Янаев представал спасителем Отечества.
Получается ГКЧП победил? – подумал я, и прежде чем эта мысль успела оформиться, Медведева на экране резко сменило изображение незнакомого мужика. Сидит за столом. Лицо напряженное, взгляд прямой в камеру.
– Дорогие сограждане! – начал он твердым, но каким-то сдавленным голосом. И сходу, без предисловий, обрушил новую бомбу: – Попытка государственного переворота провалилась! Преступная клика обезврежена! НО… – он сделал глубоко скорбное лицо, – президент Советского Союза, Михаил Сергеевич Горбачев… героически погиб, защищая Отечество от мятежников. Он пал жертвой подлого заговора! Сделав театральную паузу, он заговорил о «происках врагов», о «ветре перемен», который они, дескать, хотят обратить в разрушительный ураган, о «воздухе свободы», который нужно защитить. Он явно набирал обороты, готовясь к длинной патетической речи, как вдруг… Оглушительный грохот выстрелов прямо в студии! Не один, а целая очередь! Экран дико мигнул, изображение пропало, появилось, скакнуло, и…снова всё поглотила знакомая, ненавистная черно-белая рябь и шипение. Тишина.
Я же принялся рассуждать.
Итак, факты (если это факты): Горбачев мертв. Точка. Про Ельцина – ни гу-гу. Полное забвение или…? А сам Янаев… судя по канонаде, прервавшей эфир, его положение было, мягко говоря, не из лучших. Кто кого? Кто стрелял? Вопросы висели в воздухе, а я продолжал сидеть перед телевизором, уставившись в мерцающую рябь, как зомби. Бесполезно. Сознание отказывалось воспринимать этот бред. Я так и уснул, сидя на диване, под монотонное шипение мертвого эфира, скрючившись в неестественной позе, проснувшись лишь от скрипа входной двери – с работы пришли родители.
Отец, зайдя в зал, первым делом кивнул на всё ещё шипящий телевизор. Тень усталой тревоги лежала на его лице.
– Ну что? Было хоть что-то? – спросил он, и в его голосе пробивалась надежда, которую он тщетно пытался скрыть за обычной сдержанностью.
Я коротко, сбивчиво, пересказал новости. Рассказал, словно отбарабанил заученный урок, сам до конца не веря в реальность услышанного.
– Мужики на работе… – начал отец, избегая моего взгляда, он снял шапку, нервно помял ее в руках, – … говорят, в Москве война началась. Настоящая. Танки стреляют. По Белому дому. – Он произнес это глухо, словно сам не верил своим словам.
– Прям война? – Я вскинул голову. – Не верится…
– За что купил, за то и продаю, – пожал плечами отец с каким-то безнадежным жестом. – Так говорят. – Он махнул рукой, будто отгоняя мучительные мысли.
– Наверняка сплетни, какая война? Максимум мятеж, да и то очень ограниченный… – Я пытался убедить скорее себя, чем его.
Отец резко повернулся ко мне. В его глазах горел не вопрос, а вызов.
– Тебе-то откуда знать⁈ – бросил он с горькой усмешкой. – Кто тебе сказал? Твой телевизор с рябью? Или пьяные мужики у киоска? Откуда вообще кому-либо сейчас что-то знать⁈
Он был прав. Мне действительно неоткуда было знать. Абсолютно. И не только мне. Весь город, вся страна барахтались в густом тумане неведения.
Следующие пару недель прожили как в кошмарном сне наяву. Город погрузился в какой-то тяжелый, липкий, всеобъемлющий стресс. Воздух пропитался страхом и неопределенностью. Слухи… Сплетни… Их количество росло как грибы после дождя, плодилось, мутировало. И приходили они самые чудовищные, самые неутешительные: о расстрелах, о новых переворотах, о гражданской войне, о голоде. И самое страшное – вскоре они начали находить жуткие подтверждения в реальности, в нашей повседневной жизни. Абстрактный страх стал осязаемым кошмаром.
Первый звоночек, первый конкретный признак наступившего пиздеца – деньги. Вернее, их полное исчезновение. В кассах предприятий, в сберкассах – пусто. Длинные очереди из мрачных, озлобленных людей выстраивались с раннего утра в надежде, что привезут наличку. Но инкассаторы не приезжали. Дни напролет. И дело было даже не в том, что нельзя было снять свои же кровные, к этому, увы, народ уже почти привык, относился с горькой иронией. Но в этот раз… В этот раз совсем перестали платить зарплаты. Вообще. Ни копейки. А самое страшное, самое подлое – перестали давать пенсии.
Плюс ко всему – магазины. В которых и раньше-то было не густо, сейчас стало совсем «шаром покати». Куда ни зайдешь – пустые полки. В наших палатках, где торговали «дефицитом»: консервами, шоколадом, жвачкой, печеньем, продажи рухнули в разы. Их почти перестали брать. Не до сладостей. «Дефицит» вдруг стал никому не нужным. Единственным товаром, на который спрос не просто не упал, а даже подрос, оставалось спиртное. Водка, портвейн, спирт – все шло на ура. Даже в плюс немного. Классика жанра, железный закон: чем хуже в стране, тем больше народ глушит страх и безысходность в бутылке. Глупо конечно, но понятно, под градусом жизнь «розовеет», и перспективы кажутся не столь пугающими.
Глава 8
Прошло ещё две недели. Город за эти четырнадцать дней стало совсем не узнать. В магазинах пропала даже соль, на рынках цены взлетели до небес. Единственное что было стабильно, подвоз хлеба. Продавали прямо с борта. Продавщица, бледная и усталая, с руками в муке, выкрикивала: «Одна булка в руки! Только одна! Не толкаться!» И если тебе везло, если ты успел протиснуться, если хватило запаса – ты выходил из этой давки, прижимая к груди еще теплый, душистый кирпичик хлеба, как величайшую драгоценность.
Конечно одними подвозами дело не ограничивалось, хлеб можно было купить и на рынке у спекулянтов, но стоило это «удовольствие» раз в пятнадцать, а то и в двадцать дороже! Цена, за которую раньше можно было поесть в ресторане, теперь отдавалась за одну буханку. Глядя на эти ценники, на этих «дельцов», внутри все сжималось от бессильной злобы и горечи. Это был уже не хлеб, а символ грабежа на фоне всеобщей беды.
А мясо? Подходить к мясным рядам вообще не имело смысла. Даже у меня, у кого в карманах все ещё водились зеленые, «твердые» доллары, лицо само собой кривилось в гримасе оторопи при взгляде на эти безумные цифры. Килограмм мертвой, заветренной говядины – и целое состояние! Это было уже не просто дорого – это было издевательство. Масло? Желтый, маслянистый кирпичик, превратившийся в недосягаемый деликатес. Молоко? Белая жидкость ценой чуть ли не золота. Сметана? Загустевшие сливки, доступные теперь лишь избранным. Цены взлетели абсолютно на ВСЁ. Каждый поход на рынок превращался в экзамен на прочность нервной системы и кошелька.
Несмотря на то, что телевизор по-прежнему шипел помехами, новости из Москвы стали просачиваться как-то регулярнее. Заработала, наконец, наша местная газетенка – какая-то жалкая, серенькая, отпечатанная на плохой бумаге. Ее хватали из рук в руки, читали взахлеб, передавая из дома в дом, пока листы не превращались в лохмотья. Но ничего, СОВЕРШЕННО ничего утешительного в этих строчках не было. Каждый заголовок, каждая заметка – словно удар обухом по голове. Газета не информировала – она хоронила последние надежды.
Если коротко – Гражданская война. Это страшное слово, которое раньше было лишь на страницах учебников истории, теперь стало реальностью. До нас, до нашей глухой «дыры», слава Богу, этот огонь пока не докатился. Но центральная часть страны? Она уже вовсю полыхала. И не только центр. Как пожар по сухой степи, война растекалась, поглощая все новые и новые регионы. Из газеты, из обрывков радиоперехватов, из шепотков на рынке складывалась картина всеобщего пожара.
Башкиры, под шумок всеобщей неразберихи, уже вовсю рисовали на картах новые, причудливые границы своей будущей республики. Татарстан закипал, как котел перед взрывом – митинги, требования независимости, столкновения. А горные республики Кавказа? Они словно ждали этого часа – одна за другой громогласно объявляли о выходе из состава разваливающегося Союза. Карта страны трещала по швам, расползаясь на лоскуты, каждый из которых тянул одеяло на себя. Империя рушилась на глазах.
Но внутреннего пожара казалось мало. Как черти из табакерки, полезли проблемы внешние, граничащие с откровенным беспределом. Прибалты, уже чувствовавшие себя хозяевами положения, вдруг объявили своей исконной территорией… Калининград! Наш Калининград! Это была уже наглая пощечина. А на юге? Армения и Азербайджан, едва успев объявить независимость, тут же, как два разъяренных пса, схватились насмерть за Нагорный Карабах. Сообщения о боях, о жертвах, о беженцах приходили ежедневно, леденя кровь. Грузины, не долго думая, «наехали» на Абхазию – начались первые перестрелки, первые жертвы. А казахи? Тихим сапом, под шумок всеобщего хаоса, «оттяпали» на своих картах солидный кусок Оренбуржья. Пока только на картах, но лиха беда – начало! Казалось, каждый сосед норовит отгрызть кусок от издыхающего гиганта.
Но самое страшное, самое подлое творилось в азиатских республиках. Там началась самая настоящая охота. Массово, с жестокостью, леденящей душу, выгоняли русских. Выгоняли из домов, которые они строили, с земель, которые они осваивали десятилетиями. Гнали, как скот, грабили, насиловали, убивали. Геноцид. Да, это было именно оно – геноцид по национальному признаку. Он достигал невообразимых, чудовищных размеров. Сообщения о погромах, о сожженных домах с людьми внутри, о расправах на станциях – приходили постоянно. И с каждым днем, с каждым часом, ситуация только катилась в бездну, становясь все чудовищнее и безнадежнее. В воздухе витал запах крови и безнаказанности.
У нас же, в нашем затерянном маленьком городке, пока царило относительное, зыбкое спокойствие. Но это было спокойствие кладбища, спокойствие перед новой бурей. Чиновники, эти винтики системы, привыкшие получать указивки «сверху» и действовать строго по инструкции, теперь были как слепые котята. На любой вопрос – о свете, о воде, о тепле, а уж тем более о самом наболевшем – о зарплатах и пенсиях – они только разводили руками. Их лица выражали растерянность и тупое бессилие. «Финансирования нет, – бубнили они как заведенные, избегая встречного взгляда. – И неизвестно, когда будет. Система рухнула. Центр молчит. Решайте как хотите». Это «как хотите» звучало как приговор.
Да, кое-какие острые углы пытались сгладить. Какие-то вещи решались за счет запасов на складах крупных городских предприятий. То муку подбросят на хлебозавод, то солярку для котельной, то лекарства в больницу. Но все, от директора до последнего рабочего, прекрасно понимали – это капля в море. Это ненадолго. Склады пустели с катастрофической скоростью. Это была лишь отсрочка неминуемого конца.
Сколько еще протянем? Мучительный вопрос висел в воздухе, в глазах каждого встречного. Месяц? Два? А дальше? Что будет, когда последние запасы иссякнут, когда последняя капля солярки сгорит в котле? Когда последний хлеб из муки с чудом найденного мешка будет съеден? Тишина. Холод. Голод? Мысль о таком будущем была невыносима.
А люди? Люди, которые держали этот шаткий карточный домик? Ментам перестанут платить – и они разбегутся. Кто будет охранять то, что еще осталось? Кто будет ловить воров, когда самому семью кормить нечем? А медики? Врачи и медсестры? Бесплатно, за идею, работать в разоренной больнице без лекарств? Не станут. Пожарные? Тушить пожары без воды в рукавах и бензина в машинах? Не поедут. Электрики? Чинить сети без проводов и изоленты? Не полезут. Бесплатно работать в таких условиях не станет НИКТО. Инстинкт самосохранения, инстинкт выживания своей семьи – сильнее любых приказов и клятв.
Нам ещё повезло что за счёт глобальной чистки криминальных элементов, на фоне всеобщего развала и кровавых сводок из других мест, наш городишко пока еще тщетно цеплялся за видимость спокойствия. Островок. Маленький, хрупкий островок в бушующем океане хаоса. Но мы все чувствовали – вода поднимается, и вот-вот накроет с головой.
Но что будет ДАЛЬШЕ? Когда вакуум власти станет окончательным? Когда последние силовики либо уйдут, либо сами превратятся в новых хозяев? Когда голод и холод снимут последние табу? Когда все вернется на свои круги – круги жестокой борьбы за выживание? Война? Междоусобица? Правление сильнейшего и самого беспринципного? Вопросы висели в воздухе тяжелыми, неразрешимыми глыбами. Война… Это слово теперь не казалось таким уж абстрактным. Оно было здесь, рядом, дышало в затылок.
Предсказания – не мой конек. Я не гадалка и не пророк. Но здесь, в этой кромешной тьме надвигающегося ада, я, к своему ужасу, чувствовал – вижу на шаг вперед. Чувствовал нутром, кожей, каждой клеткой. И, увы, как в воду глядел.
В начале апреля грянул гром. Ночью. С наглостью, поражающей воображение. Разграбили ОВД Советского района. Не тайком, не украдкой – а с боя! Ворвались, как черти, расстреляв на месте ничего не понявшего дежурного сержанта и еще нескольких несчастных милиционеров, застигнутых врасплох. Взорвали дверь оружейной комнаты. И вынесли ВСЁ. Все, что там было: пистолеты, автоматы, патроны – весь арсенал районного отделения. Это был не просто налет. Это была декларация войны. Войны всем и вся. Сигнал, что времена относительного спокойствия закончились. Кто-то почувствовал силу и безнаказанность.
А дальше… Дальше начался настоящий, беспредельный хаос. Тот самый хаос, о котором я с ужасом думал. Он обрушился на город, как цунами, сметая последние остатки порядка.
Никого не боясь, абсолютно нагло, грабили теперь средь бела дня. Сначала под удар попали последние островки «казенного добра» – склады с остатками товаров, магазины, где чудом сохранились какие-то запасы, сберкассы, в которых, по слухам, еще лежали какие-то жалкие копейки. Туда врывались толпы – уже не просто воры, а озверевшая от голода и безнаказанности масса. Выносили все подчистую, круша и ломая. Потом очередь дошла до рынков и ларьков – там еще теплилась частная торговля, были товары, были деньги у спекулянтов. Их громили с особой жестокостью. А потом… Потом пришли за обычными людьми. За их домами. За их квартирами. За тем немногим, что они успели припрятать – банкой тушенки, пачкой крупы, бутылкой самогона, старыми золотыми сережками бабушки.
Врывались в подъезды, выбивали двери. Крики, стрельба, плач – стали обычным фоном городской жизни. Никто не был защищен. Никто не был в безопасности.
И самое страшное, самое циничное – занимались этим теперь не только прожженные, отпетые уголовники, вышедшие из тюрем или почуявшие момент. Банды, мобильные и жестокие, сколачивались из тех, кого еще вчера никто не заподозрил бы. Из «вполне добропорядочных граждан». Из соседа-сантехника, из водилы автобуса, из учителя физкультуры, из отца семейства, которого ждали дома голодные дети. Их мотивация была проста и страшна: необходимость накормить семью. Выжить. Любой ценой. Голод и страх за детей сняли все моральные запреты, стерли грань между добром и злом. Они шли грабить не из жадности, а из отчаяния. И от этого было еще страшнее. Мир перевернулся с ног на голову. Добропорядочность стала роскошью, которую могли позволить себе только мертвецы или святые. Остальные выживали.
Глядя на всё это со стороны, я вспоминал как мои современники ругали Горбачева и плевали в Ельцина. Мол уроды каких поискать, развалили страну, разворовали и растащили.
Да, они не были идеальны, даже наверняка наоборот, но главное что им удалось сделать, не допустить того что творилось сейчас.
Я долго смотрел на творящийся беспредел, надеясь что власти всё же предпримут что-нибудь. Что именно, не знаю. Может войска введут, или организуют какую-то местную дружину. Но время шло, а ничего не происходило, город всё сильнее скатывался в безнадежность и отчаяние.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения до краев, стал случай с соседкой Лизой. Маленькая, хрупкая девчонка семнадцати лет, с которой я иногда перекидывался парой слов у подъезда. У нее были огромные испуганные глаза и смешные косички. Возвращаясь домой, я ехал на своей «девятке» мимо ряда покосившихся гаражей. Время обед, но небо заволокло тучами, окрашивая мир в грязно-серые тона. Краем глаза я обратил внимание на какое-то шевеление в стороне.Так может и проехал бы мимо – мало ли что? Своих дел хватает. Но вдруг, что-то дёрнуло остановиться. Интуиция? Случайность? Не знаю. Рывком тормознул, выругавшись сквозь зубы. Вышел. Тишина была неестественной, зловещей. И тогда слышу: неясный звук, пробивающийся сквозь шум крови в ушах. То ли крик, глухой, придушенный, то ли мычание. Сердце ёкнуло. Присмотрелся, вглядываясь в полумрак между гаражами. И обомлел. А там мужики Лизку в лесок тащат. Трое здоровых дядек, как тени, волокли ее маленькую фигурку, мелькающую клочьями рваной одежды. Лиц разглядеть я не смог, только силуэты, но ужас ситуации впился в мозг когтями.
Старый ТТ, тяжелый, холодный кусок металла, последнее время всегда при мне, лежит в машине. Рывком открыл дверцу, нащупал в нише под креслом, выдернул знакомую рукоять. Вес оружия в руке придал уверенности. И бегом обратно. Ноги сами несли, спотыкаясь о кочки, легкие горели. Успел пик в пик. Страшная картина: Девчонка на земле, прижатая, ее лицо искажено ужасом и немым криком. Двое держат – один за руки, другой придавил ногой голову. Третий пристраивается, расстегивая ширинку. Насильники, понятно. Звери. Твари. Но адреналин чуть схлынул, я сделал шаг, и когда присмотрелся, обалдел. Ледяная волна прокатилась по спине. Все трое наши, местные. Лица, знакомые с детства! Колька Верёвкин с первого подъезда, с которым еще в футбол гоняли, чуть меня старше, теперь его черты были перекошены похотливой злобой. Олег Мокин с третьего, вечно хмурый мужик лет тридцати, когда-то работал с отцом на заводе. И Валек Петров с общаги напротив. Этому всего семнадцать, пацан! Но вымахал уже под два метра, и сейчас его детское, прыщавое лицо было страшно в своей животной решимости. Соседи. Знакомые. Свои.






