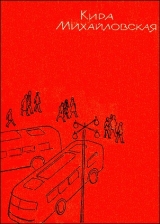
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Вечером мы уходим с выставки. Рабочие сложили инструмент и потянулись к выходу, где их ждет автобус. Марта в последний раз осматривает выставку, тушит свет, и сразу Дом культуры становится таинственным. Мы идем полуосвещенными коридорами, а потом через проходной эстрадный зал. Русаков идет впереди и, когда доходит до конца зала, сворачивает вдруг в сторону и по лесенке поднимается на эстраду. Он кладет на стул портфель, приподнимает крышку рояля и одним пальцем касается клавиши. Высокая нота чисто и бесстрастно звучит в зале, постепенно ослабевает и сходит на нет. Тогда Русаков берет другую ноту и чуть склоняет голову набок, прислушиваясь. Звук тает, и снова тихо. Русаков пододвигает к роялю стул, садится. Мы с Мартой садимся в первом ряду. Русаков начинает играть.
Я не знаю, о чем думает он, перебирая пальцами клавиши. Я не знаю, о чем задумалась Марта. Я думаю о Юрке. Музыка вызвала во мне мысли – обыкновенные, трезвые – о нем и обо мне, о том, что неизвестно, когда мы встретимся с ним. А я так этого хочу. И ни один день, отдаляющий нашу последнюю встречу, не ослабляет моего желания. Я так же хочу быть с Юркой, как хотела этого раньше, до того, как мы были на юге, и после того. И я вообще хочу быть с Юркой, прожить с ним всю жизнь, родить ему детей и делить с ним неприятности на работе. Я знаю, что он никогда не найдет жены лучше, чем я. И я только не могу понять, отчего он этого не понимает. Музыка звучит не громче, не тише. Нет на свете страстей и несчастий. И только счастье и благополучие. Мы с Юркой тоже будем счастливы. Будем ли?..
Русаков бросает играть. Он заканчивает аккордом: да, только счастье! Только благополучие! Русаков закрывает крышку рояля, говорит: «М-да…» И стоит еще несколько секунд около рояля, опустив голову. Только счастье – разве он этого не понял? И Марта не поняла?
Русаков спускается с эстрады, и мы идем дальше по коридору, к выходу. Мы не разговариваем, и Володя удивленно смотрит на нас: что случилось? Ничего не случилось, Володя. Полное благополучие. Полное.
Дома на столе я нахожу записку: «Был и не застал. Как живешь?» Как живу?.. Отлично живу. Превосходно. Очень даже благополучно.
47
– Послушай, Майкина, когда ваша выставка начнет работать? А ты мне билет достанешь? Обязательно Достань, Майкина, посмотреть хочу, что за предприятие у твоей мадам. Сколько работаю в «Интуристе», а таких, как твоя мадам, еще не видела.
– What сап I do for you?
Это дежурная переводчица уже обращается к американцу, он только что подошел к бюро обслуживания. Я иду к выходу.
– Послушай, Майкина, – говорит мне дежурная, – чуть не забыла. Русаков тут принес бумаги, просил передать Бранд. Вот возьми… Sorry, I am at your disposal. – Это она снова обращается к американцу.
Сегодня выходной день. Сегодня мадам отдыхает от дел, а мы с Русаковым отдыхаем от мадам. Дежурная переводчица вспомнила про бумаги, и это совсем некстати.
Я вызываю лифт. Перед дверью мадам останавливаюсь, преодолеваю собственное сопротивление. Такая у меня теперь работа – преодолевать собственное сопротивление. Стучу. Долго никто не отвечает. Наконец голос мадам спрашивает:
– Qui est la? Un moment…
Мадам говорит по-французски. Я отвечаю. Тихо. Я в недоумении. Хочу повернуться, уйти. Дверь открывается. Пахнуло табачным дымом, спертым воздухом непроветренного помещения. У мадам на плечах – теплый плед, как у старухи. Глаза – красные, припухший нос, серое, некрасивое лицо. Больна она, что ли? Я подаю бумаги. Мадам приглашает меня зайти.
– Вы больны, мадам Бранд?
От этого вопроса она вздрагивает, как от удара.
– Больна? Почему? Ну конечно же, я немного нездорова, но все пройдет.
Она как-то застенчиво поводит плечами, поправляет сползший плед, проводит рукой по небрежно зачесанным волосам.
Жесты странные, не брандовские, и вся какая-то смурная.
Мадам Бранд подходит к окну, читает бумагу, потом говорит мне:
– Скажите мсье Русакову, что вся документация будет готова к завтрашнему дню. И пожалуйста, если возможно, закажите в ресторане бутылку перно.
Бранд поднимает телефонную трубку и передает ее мне. Я вызываю ресторан. Долго не отвечают. Мадам Бранд смотрит в окно.
– Вы не были во Франции? Никогда? Там есть такой городок: Круазон сюр ле Сэн. Там только одна улица, вся в платанах, а остальные называются проездами: проезд на виноградник, проезд к Сене, Парижский проезд. Там вокруг виноградники и занимаются виноделием. Вот откуда там перно. Лучшее перно в мире.
Чей – то голос говорит в трубке:
– Ресторан слушает.
Я передаю заказ.
– Мадам Бранд, в нашем ресторане нет перно. Может быть, вы закажете какое-нибудь другое вино?
– Тогда кофейник с черным кофе и лимон. Спасибо.
– Я пойду, мадам Бранд. До свидания.
– Всего доброго, мадмуазель.
48
День открытия выставки приближался. Вот уже и манекенши приехали. Хотя до открытия оставалось еще два дня, мадам прямо с аэродрома повезла их в Дом культуры. Там, за кулисами, я их и увидела.
– Здравствуйте, – сказала я, заходя в комнату.
– Здравствуйте, – на разные голоса ответили девочки.
А одна, самая тоненькая, подскочила ко мне, заглянула мне в глаза и вдруг закружилась волчком, так что поднялись высоко и почти закрыли ее с головой белые нижние юбки. Потом она остановилась, вытянулась передо мной и поднесла ладонь к виску:
– Морьенс!
Все девочки рассмеялись, а одна из них, самая старшая, подошла к тоненькой, обняла ее за плечи и сказала, обращаясь ко мне:
– Не сердитесь на Ирен. Она еще малышка и любит дурачиться.
– Люблю, – сказала Ирен и начала так усиленно трясти головою, что рассыпалась ее модная прическа и темные волосы упали на лоб и плечи. – А как вас зовут?
– Анна.
– Анна? О, у нас тоже есть Анна! – Тоненькая девочка подбежала к одной, сидящей у зеркала, схватила ее за руки и потащила ко мне. – Знакомьтесь. Это тоже Анна. Анна Шьерфбек. – И, отойдя в сторону и оглядывая нас с любопытством, Ирен добавила: – Только вы совсем не похожи. Вы так не похожи, что могли бы демонстрировать в паре. У вас демонстрируют парами?
– Не знаю, – нерешительно ответила я,
– Разве вы не манекенша?
– Нет, я переводчица.
Глаза Ирен стали круглыми, она шлепнулась на стул, вытянув далеко вперед тонкие, как палочки, ноги.
– Так, значит, вы наша переводчица?
Я кивнула головой.
– Так, значит, вы не знаете, демонстрируют ли у вас парами?
Я покачала головой.
– Так, значит, вы ничего не знаете из этого? – Ирен покрутила пальцами, потом соскочила со стула, расправила плечи, высоко подняла голову и пошла вдоль комнаты, покачивая бедрами, а дойдя до стены, улыбнулась очень мило какой-то фотографии, прикрепленной у косяка двери, плавно повернулась и пошла обратно. Ирен так важничала, что я рассмеялась, а вслед за мною рассмеялись и все манекенши.
– Она совсем неплохая, – обратилась ко мне Анна. – И она лучшая наша манекенша.
Ирен снисходительно кивнула головой.
Внезапно она перестала быть серьезной, спросила у меня:
– Что она сказала? Я – самая лучшая? – Нос Ирен сморщился. – Ничего подобного! Вот она самая лучшая. И она. И она. Но самая лучшая, понимаете, самая, самая лучшая, как вы думаете, кто? – Ирен наклонилась ко мне, и ее распущенные волосы пощекотали мне ухо. – Самая лучшая – мадам! – Ирен отпрянула в сторону и торжествующе посмотрела мне в лицо. В темных ее глазах плавали смешинки. – Тсс! – Ирен приложила палец к губам. – Мадам идет!
49
Выставка наконец открылась, и с первых же дней ее работы изменилась моя жизнь. Я больше не вижу мадам Бранд. Разве только изредка во время демонстрации. Почти все время я провожу с девочками за кулисами. Альме Бранд теперь и не нужен переводчик, потому что фон Ренкенцов – он приехал в Ленинград – говорит по-русски. Рассказывают, что когда-то он жил в России довольно долго. Фон Ренкенцова я еще не видела. Однажды я спросила у Ирен:
– А что, этот фон Ренкенцов молодой?
– Не очень, – отвечает Ирен. – Ему уже было или скоро будет семьдесят. Девочки, сколько фон Ренкенцову лет?
– Семьдесят два, – отвечает Анна. – Ты разве не помнишь, два года назад праздновали его семидесятилетие. Его жена была на торжествах в том знаменитом лиловом платье. Ты разве не помнишь?
– Платье помню, а жену нет, – говорит Ирен. – А сам фон Ренкенцов – ничего. Симпатичный! Впрочем, скоро ты увидишь его сама.
Я знакомлюсь с Людвигом фон Ренкенцом несколько неожиданно. Неожиданно потому, что я не могла даже предположить, что этот высокий, очень прямой мужчина, с аккуратно причесанными блестящими волосами, – это и есть семидесятидвухлетний поклонник мадам. У него сдержанная, сухая манера поведения, и манекенши замолкают, когда он входит к ним в комнату. Он подходит к Элен и, почтительно наклонив блестящую голову, целует ей руку. Элен – та самая девушка из весьма уважаемой семьи, которая не по необходимости, а из каких-то других соображений подписала контракт с мадам Бранд. Фон Ренкенцов разговаривает с Элен, а потом переводит взгляд на остальных. Этот взгляд равнодушно скользит по пышному туалету Анны, по худеньким оголенным плечам Ирен и на секунду останавливается на мне. Я не вызываю интереса у фон Ренкенцова, и он, предложив руку мадам, выходит из комнаты.
– Ха-ха, – заливается Ирен, как только шаги в коридоре смолкают. – Какие мы важные! – И Ирен, подняв выше колен юбку, начинает важно обходить комнату, поочередно оглядывая каждую манекеншу.
– Он может зайти сюда в любую минуту! – останавливает ее Элен. – Перестань!
Тогда Ирен начинает плясать. Она пляшет блестяще, быстро перебирая ногами, склоняя гибкое тоненькое тело то в одну, то в другую сторону. Она пляшет каждый день по несколько раз, и если с ней отказываются плясать Анна и другие манекенши, то она пляшет одна, широко раскинув руки, вот как сейчас. Раз-два, раз-два. Качаются бедра, подергиваются плечи, и вздрагивает худенькая узкая грудь. Раз-два. Раз-два. Одна нога начинает постукивать об пол, выбивая ритм. Потом другая. Ирен перебирает ногами все быстрее и быстрее. Вздрагивают бедра, плечи, грудь. И вот наконец она срывается с места. Она кружится, приседает, постепенно выпрямляясь, и все ее тело пляшет, пляшет. И пляшут на лице темные-темные глаза – словно плеснул кто-то блестящей краски.
– Перестань, Ирен! Твой выход скоро!
Ирен перестает и, раскрасневшаяся, опускается на стул. Она приводит в порядок прическу, платье, и, когда звенит звонок и Марта начинает взволнованно бегать от гардеробной к гардеробной, Ирен поднимается, улыбается мне и выплывает из комнаты.
Но однажды Ирен заболевает.
– Ну конечно, все-таки здесь сквозняки, а она бегает неодетая, – говорит Марта и сокрушенно качает головой. Она щупает лоб у Ирен и говорит: – Горячий! Выпей молока! Я попрошу Геккерта, он принесет горячего молока.
– Да, да, – поддерживаю я, – надо выпить горячего молока и лечь в постель. Срочно!
Ирен улыбается мне и присвистывает, когда я говорю о постели, а остальные девочки стоят серьезные вокруг.
– Ну-ну, девочки, давайте переодеваться, – говорит Марта, и все медленно расходятся по комнатам: – А я пойду доложу мадам.
Марта уходит. Мы остаемся в комнате втроем: я, Ирен и Анна. Анна начинает переодеваться, а Ирен сидит около зеркала и рассматривает свое бледное лицо с воспаленными глазами.
– Я думаю, Ирен, что тебе все же лучше отлежаться. Не стоит выступать сейчас. Ну а вечером и подавно. Лучше полежи дня два.
Ирен ничего не отвечает мне. Анна уже одета – поверх купального костюма накинут легкий купальный халат, – когда дверь широко распахивается и в комнату входит Альма Бранд. Она устремляется прямо к Ирен, берет ее за подбородок и всматривается в ее лицо. Потом она поворачивается к Марте и спрашивает ее:
– Почему Ирен не одета? Она выходит третьей.
– Она нездорова, – говорит смущенно Марта. – Ведь я вам докладывала… У нее температура, насморк…
– Это ее не украшает! – Мадам резко поворачивается к Марте: – Я вас просила, мадмуазель, закрывать двери плотнее и вообще беречь девочек. Вы совершенно не считаетесь, мадмуазель, с моими просьбами. Зайдете вечером ко мне в номер, я хочу поговорить с вами. Ирен, одевайтесь!
– Но она не может выступать, она больна, – говорю я.
– Тем, кто сидит в зале, безразлично, больна она или здорова. Они заплатили деньги, и мы обязаны предоставить им за эти деньги все сполна. Все, что указано в программе.
– Неправда это! Вы не знаете наших людей! Если им сказать, если сказать Русакову…
Альма Бранд щурит глаза, закусывает нижнюю губу. Альма Бранд оживляется:
– Действительно, почему бы не сказать? Как это мне самой не пришло в голову?! «Простите нас, господа, мы не можем вам показать всего, что должны, ведь больна маленькая Ирен». Они, конечно, поймут, посочувствуют. А Ирен мы уложим в постель. Это ничего, что у нее подписан со мною контракт. Что такое контракт? Бумажка! Не больше! Что такое обязательства? Слова! Что такое доброе имя фирмы? Пустой звук! Не так ли?
Все молчат.
– Вы неправы, – говорю я. – Контракты не заключаются на человеческую жизнь.
– Ах да, я забыла, – смеется Бранд. – Ведь наш гид знает все о наших контрактах. Хорошо, Ирен, одевайтесь, вы поедете в гостиницу.
– Нет, – говорит Ирен, – мадам, я прошу вас… Я совсем здорова… Я почти здорова.
– Одевайтесь!
– Мадам, я хочу выступать!
Я протягиваю руку к Ирен. Я не могу видеть, как она начинает дрожать и какое жалкое, несчастное становится у нее лицо.
– Ирен, – говорю я.
– Уйдите, – кричит мне Альма Бранд. – Не смейте вмешиваться! Красный гид!
Я распахиваю дверь и выбегаю из комнаты.
50
– И вы что же, оскорбились, что ли? Обиделись? Как она сказала? Красный гид? Ай да Бранд! Выше голову, Ася, красный гид!.. А вы знаете, я уж думал, что это никогда не повторится.
Русаков стоит у распахнутого окна, вполоборота ко мне.
– Я был мальчишкой тогда, – говорит он. – Ну сколько мне там было – лет восемнадцать, наверное, а то и меньше. Возил дипломатическую почту. Не знаю, что там было в мешках, – мне все казалось, что государственные тайны. Я гордился, знаете, такой подъем испытывал, волнение, считал себя на самой передовой, самой ответственной линии. Да так оно, в конце концов, и было. Товарищи, что постарше, шутили: красный курьер! Да, красными дипкурьерами нас тогда называли. Я смущался, отнекивался: какой, мол, особенный «красный курьер» – обыкновенный работник. А в душе радовался. Это давно ушло, с юностью зеленой. Столько потом всякого в жизни было! Огрубел, состарился, думал, что счастливый мальчик умер давно, а он, оказывается, жив.
Русаков курит. Мне хорошо смотреть на его большую лохматую голову в сизом ореоле табачного дыма. Хорошо слышать теплый насмешливый голос.
– Да, когда-то мир состоял для нас из локальных цветов: зеленый, желтый, синий. А чаще всего красный. Красный – это было как повышение в чине. Дипкурьер – хорошо, а красный дипкурьер – рангом выше. Так что вас, можно сказать, в должности повысили, а вы нос вешаете!
– Не надо мне повышений. Не хочу возиться с этой бабой. Надоело.
– А прогуляться со шпицем не хотите? Или на извозчике – с ветерком?.. Негоже, Ася! Негоже! Я кисейных барышень не люблю и вам такой быть не советую. Капризы извольте оставить. Нелегко? Верю! А вы попробуйте вдуматься в то, что происходит, на людей, с которыми работаете, посмотрите внимательно. Не только память, нервы, но и мозг свой включите в работу. Не жалейте свой мозг. Работаете вы на выставке, для вас эта работа – стычки с мадам, утомительные переводы, а для государства нашего – политика, вопрос налаживания торговых связей с другим государством, вопрос международного сближения. Эта выставка пройдет успешно – заключим с фирмами торговый договор, начнем покупать у них товары, продавать им свои, станем союзниками на почве взаимных торговых интересов. Вы над этим не думали? А над тем, что вы видите здесь, вы думали? Задумывались когда-нибудь, что такое мадам Бранд?
– Задумывалась.
– Ну, и что же она такое, по-вашему?
– Дрянь.
– Всего-то?
– Взбалмошная женщина.
– И только? С чего бы – взбалмошная? Росла во Франции, думаю, что не в особом достатке. Если заметили, мадам воспитанием не блещет, есть кой-какие манеры, взятые напрокат, так ведь она несколько лет, поди, в высшем свете бывает, так без следа не прошло, конечно. Но холст, основа очень сильно ощущается. Не замечали? Приглядитесь. В войну попала в Германию, горя, я думаю, не пригубила, а хлебнула взахлеб. Кидало ее, мытарило, где – мы не знаем, пока фон Ренкенцов, добрая душа, не подобрал. С чего бы это после такой жизни ей взбалмошной быть? Нервы – это, конечно, объясняющее обстоятельство, но, с другой стороны, при такой нервной системе лучше всего где-нибудь в уединении жить: небольшая рента, дом, уют, семья. Так нет же! Она в самую гущу политических дел лезет! Может, она по натуре своей авантюристка? Маловероятно – неуклюжие слишком приемы, прицел очень приблизителен. Да, кроме того, авантюристы сами по себе в политической игре не появляются, а только по чьей-то воле, в чьих-то интересах. Чья-то рука выводит их на арену. Чья же это рука может быть? Кто обладает над этой женщиной такой властью, что может заставить ее действовать против воли, кто может подменить ее волю своей? Ну конечно же – добрый человек фон Ренкенцов. Он ее поднял когда-то, он ей дал положение, ввел в «общество», дал независимость ото всех. Кроме себя. Вы не заметили, как в присутствии фон Ренкенцова мадам подбирается вся, как гончая перед пуском. Посмотрите! Фон Ренкенцов с мадам предупредительно нежен, внимателен, а как он ни крутись – она его боится. И ничего против этого поделать он не может, и остается ему только одно: держаться в тени, как можно реже выходить из тени, реже становиться рядом с мадам. Он очень неглуп, этот фон Ренкенцов! Только одного он не понимает: не надо было ему здесь появляться. Его фамилия известная, он крупный промышленный магнат, его интересы представлены в сталелитейной, каменноугольной промышленности, в судостроении, да в очень многих областях жизни. Только в легкой промышленности его интересы не представлены. А у нас на выставке как раз легкая промышленность, кожгалантерея, синтетика. Из каких соображений может быть здесь фон Ренкенцов? Только из благотворительности! А благотворительность таким господам незнакома. Это деловые люди. И если они принимают в чем-либо участие, можно быть твердо уверенным, что это или очень нужно им, или очень ненужно. Для чего здесь фон Ренкенцов? То ли для того, чтобы ускорить переговоры, то ли для того, чтобы их сорвать. Какая борьба развернулась в их стране вокруг этого мирного дела? Какие силы представляет в этой борьбе фон Ренкенцов, а какие такие люди, как Геккерт? Мы, возможно, не сможем ответить на эти вопросы, и многое, быть может, так и останется нам неясным, но мы должны не просто рефлексивно принять или не принять то, с чем мы сталкиваемся, а попробовать разобраться в этом. Ведь это мир, в котором мы с вами живем. Вот так-то, дорогой товарищ красный гид!
51
Ирен не выступает. Русаков приглашает Альму Бранд к себе в кабинет – она приходит со своим Людвигом, и между ними троими происходит длинный разговор. Он продолжается и после того, как Русаков выходит ко мне, просит меня увезти Ирен в гостиницу и вызвать к ней врача. Когда мы с Ирен проходим мимо кабинета Русакова, из-за двери слышны высокий голос Альмы Бранд и басок Русакова.
– Я часто мечтаю, – говорит мне Ирен, уже лежа в постели в ожидании врача, – вдруг я получу много денег – наследство или что-нибудь в этом роде. Как ты думаешь, что я сделаю? Открою школу манекенш и буду как мадам. Я буду стоять посередине зала, а вокруг меня хороводом будут ходить мои манекенши. Я буду кричать на них: «Голову! Как вы держите голову? Может, это не голова, а набалдашник у трости?» А что бы ты сделала, если бы представился случай?
Я не знаю, что ответить. Я никогда не думала, будто можно сделать что-нибудь просто так, только потому, что «представился случай». Да и что бы это могло быть такое, что можно сделать по случаю? И вдруг я вспоминаю!
– Я бы восстановила в нашем доме статуи!
– Какие статуи?
– Сейчас расскажу, Ирен. Понимаешь, дом, в котором я живу, старый. Его построил в прошлом веке какой-то богатый чудак. Он сделал широкую каменную лестницу и на каждой площадке – по две ниши. А в ниши он поставил деревянные статуи. Я их как сейчас помню. Большие, с грубыми спокойными лицами. Мужчины и женщины. Наверное, крестьяне. Морщинистые, очень старые. За них обычно клали ключ, когда уходили из дому. В войну мы их сожгли. Сами жильцы. Дров не было, пожгли все, что можно было: библиотеки, мебель. И тогда вспомнили про статуи. Стащили их вниз, распилили и сожгли. Мы сами, я и тетя Муза, сожгли голову одной. Дерево было сухое, горело хорошо, и долго сохранялось тепло. И вот теперь каждый день мы ходим по лестнице и видим: ниши пустые, статуй нет.
– Ну и что?
– И вот представь, однажды поднимаются люди по лестнице и смотрят – стоят в нишах статуи. Те же самые, на тех же местах! И на лестнице не пусто, и снова есть куда класть ключ.
– Ты сумасшедшая, Ася. Использовать случай на какие-то статуи!
– Нет, это ты сумасшедшая. Стать такой, как мадам Бранд!
– А что, разве это плохо? Это только для других плохо, а ей-то хорошо!
– Нет, ей тоже не очень хорошо. Ей даже совсем не хорошо.
– Ты думаешь? Впрочем, все равно я не стану такой, как мадам. Золотой дождь на меня не прольется. Но у меня есть план. Ты будешь молчать? Никому ни слова? Я приму участие в конкурсе красоты. Понимаешь? Мисс Универсум. А! Лавровый венок, корреспонденты, а назавтра обо мне знают все. Нет человека, который бы не знал мисс Универсум. И сто тысяч в кармане. Ты надеваешь купальник с номером, один раз медленно проходишь по дорожке – и на всю жизнь ты обеспеченный человек. Сама мадам кланяется тебе в ножки. Как ты думаешь, я могу?
Ирен встает на кровати во весь рост. Смешная, в длинной ночной рубашке, с распухшим носом и красными глазами.
– Ты же простудишься, Ирен. Ложись!
– Нет, ты скажи, могу я?
– Можешь, можешь. Только ложись скорее!
Ирен вытягивается в постели.
– Ничего я не могу. Я знаю, что ничего не выйдет. Не так-то это просто. Но я попытаюсь. Ведь никто не может запретить мне попробовать?..
52
Через несколько дней я иду по выставке. Еще рано, и посетителей не начали пускать. Пустынно около стендов и витрин. Пустынно в отделе ювелирной фирмы «Рубин» и в отделе трикотажных и шерстяных изделий, которые представляет фирма Марты; пустынно в зале верхней мужской одежды. Пестрые костюмы и гладкие галстуки, гладкие костюмы и пестрые галстуки. А над костюмами и галстуками, готовый к прыжку, пружинит на сильных мускулистых лапах золотистый леопард. Пасть его ощерена, а из глаз так и сыплются искры – такие же золотые, как спина леопарда.
А под леопардом, сложив руки на груди, стоит тщедушный человек с длинным горбатым носом и бородавкой на носу. Это Геккерт, коммивояжер фирмы «Леопард». Может быть, в насмешку, а может, для привлечения покупателей бог мужских костюмов наделил Геккерта смешной и безобидной внешностью воробья и послал служить его в фирму «Леопард». Геккерт отдыхает. Или раздумывает над чем-то. Он стоит неподвижно около витрины, и его можно бы принять за манекен, будь он не так тщедушен.
– Добрый день, – говорю я, – как поживаете?
– Добрый день, добрый день! – приветствует меня Геккерт. – Как себя чувствует малютка Ирен? Я так торопился сегодня, что даже не успел навестить ее.
– Спасибо. Она уже встала. Но сегодня еще не выйдет демонстрировать. Русаков не разрешает.
– О, Русаков – это человек! Это не мясо.
– О каком мясе вы говорите?
Геккерт оглядывается.
– О мадам Бранд. – Геккерт склоняет голову набок, прикрывает глаз и разглядывает меня. Он как будто хочет посмотреть, какое впечатление произвели на меня его слова. Я удивленно поднимаю брови. Геккерт наклоняется ко мне. – И находятся дураки, которые еще платят за это мясо немалые деньги. Э-хей, я знаю другие времена, когда то же мясо не ценилось так дорого. Я знаю… – Геккерт кивает головой, замолкает. Он ожидает вопроса, но я ни о чем не спрашиваю. – Я очень много знаю, – вздыхает он. – Знаю, как падают и поднимаются цены на рынке, а ведь мир – это рынок. Но как бы низко не падали цены, за хороший товар все-таки платят. Платят за ум, за способности, за талант. Плохо ли, хорошо ли, с охотой или неохотно, но платят. Да, да, за талант! Вы думаете, коммивояжером может быть любой? Э-хей! Попробуйте! Попробуйте продайте вот этот костюм, а я буду смотреть на вас и улыбаться. Буду даже смеяться, потому что это очень смешно, когда человек не может продать костюм. А потом этот костюм буду продавать я. А вы будете улыбаться. Потому что нельзя не улыбаться при виде такой чистой, такой артистической работы!
Геккерт сморщил лоб, высоко поднял брови и задрал голову кверху.
– Такая работа заслуживает хорошей платы. Сотня тысяч крон – это совсем недорого за такую голову. Но… – и голос Геккерта зазвучал угрожающе, – мне никто – слышите? – никто и никогда не платил за мясо! – Геккерт взмахнул тонкими руками и ткнул себя пальцем в узкую грудь. – Что такое мясо? Это не заслуга человека. Понимаете? Это от бога! – Геккерт вздернул палец вверх и стал похож на пророка, предающего этот мир проклятию. – От бога и от стола. Стол. Еда. Вот как получается мясо. Вот такое мясо, – Геккерт кивнул головой в сторону, где, по его мнению, должна была находиться в этот момент Бранд. – Я ненавижу это так, как честный человек ненавидит воровство. Почему, скажите мне, я должен работать, выбиваться из сил, чтобы получить то, что мне причитается, а человек без чести и совести, без способностей, без таланта…
Геккерт замолк внезапно. Он смотрел куда-то в сторону. Я оглянулась. По коридору об руку со своим длинным фоном шла мадам Бранд.
– Видите, как шагает? – зашептал Геккерт. – Это власть шагает, деньги, сила… Они думают, что могут все. Э-хей! Есть одно, чего они не могут: одеть мир в железо. Людям нужны пиджаки, рубашки, брюки. Люди не могут одеваться в пушки. Смешно? Может быть! Но вы увидите, что русские заключат с нами договор. Со всеми фирмами. И с фирмой «Леопард» – тоже!
53
Нам не по пути с Юркой. Странно, правда? А ведь так бывает. Шли, шли два человека, и было им по пути. Потом одному пришла пора пересаживаться в самолет, а у другого самолетное путешествие не запланировано. Вот и получается, что не по пути.
Осень в Ленинграде некрасивая. Дождь и дождь… Это, наверное, потому, что Ленинграду все равно, какая погода, он что в паутине осенних дождей, что в зимнем тумане, что бессолнечным летом – все равно хорош, увидишь – и не забудешь.
Я зонта не взяла. Глупо как-то идти и держаться за палку. Да и рука устает. Шапка намокла, пальто намокло. Юрка нахохлился. Ему ни к чему ходить по городу в дождь, ему лучше дома сидеть и читать Брокгауза и Ефрона. Но он ходит. Он – благородный, Юрка. Он понимает, что если встречался со мной все лето, в хорошую погоду, то теперь обязан ходить со мной под дождем.
И мне плохо. Плохо оттого, что все идет у нас с Юркой вкривь и вкось, и он этого не замечает. Плохо оттого, что оказались мы разные. Я – пешеход, а Юрка – авиапассажир. И хуже всего оттого, что, несмотря на разность, а может, именно благодаря ей, я люблю Юрку.
То, что мой диплом – ерунда, а коробки – дело, и то, что без них, без коробок, я жить не могу, – все это вранье. Раньше я не знала, что это вранье, а теперь знаю. Теперь я знаю много такого, чего не знала раньше, а кое-что знаю даже наперед. Знаю, например, что Юрка всегда говорит правду. И если он сказал, что люди – книжки, то, значит, для него они действительно книжки. Со мной, например, он где-то на последних страницах. Уже в середине книжки он начал смотреть в себя, а скоро ему станет и совсем скучно, и в глазах у него начнет плавать коричневая тощища.
Ведь книжки-то – их надо уметь читать! А деловым людям некогда.
Мелкий моросящий дождь. Приятная история, нечего сказать! Она любит его. Он поначалу увлечен ею. Потом разбирается, что к чему, и понимает: ошибся. Он говорит ей «прости». Она убита горем. Идет дождь.
– Ты что? Смеешься? – спрашивает Юрка.
– Нет, плачу, – отвечаю я.
– Хороший смех в плохую погоду, – говорит Юрка, – обеспеченное воспаление легких. Пошли в «Хронику».
– Пошли.
В «Хронике» тепло и тесно. Пахнет калошами и мокрой шерстью.
Юрка с интересом смотрит на экран.
Она любит его. Он увлечен ею. Она понимает, что ошиблась. Она говорит ему «прости». Она убита горем. Идет дождь.
Кино заканчивается. Дождь перестал. В тротуаре – огни столбиком. Мы идем к дому. Она любит его, он любит ее. Он любит ее? А почему бы нет? Да, почему бы? Почему бы? Почему бы?
Я останавливаюсь.
– Юрка, ты можешь один раз в жизни сказать мне правду?
– Да.
– Ты меня любишь?
– Понимаешь…
– Только прямо.
– Нет… Понимаешь, я этого не умею – любить. Не знаю.
Я понимаю.
– Может, ты пойдешь, Юрка? Здесь рядом, я одна дойду. Ведь поздно и погода… того…
– Что ты! Я провожу тебя.
Он провожает меня до самой парадной, шлепает под дождем еще добрую половину квартала, чтобы только проводить меня. Он благородный, Юрка.
54
Я открываю справочник на букву Р. Ранкович – не тот, Расс – не тот… Вот наконец Ренкенцов.
«Одно из десяти самых богатых семейств. Владеет судостроительными верфями на севере. Крупная собственность как внутри страны, так и за ее пределами, главным образом в Скандинавских странах. Имеет около восемнадцати процентов акций угольной компании „Киви“, имеет сорок процентов акций транспортной компании „Авто“, имеет земельные владения на юге страны общей площадью – 1200 гектаров, владеет…»
Чем только не владеет одно из десяти самых богатых семейств страны! Я откладываю справочник.
Медленно двигаются стрелы башенных кранов, стоят корабли на стапелях, сотни, тысячи людей работают на этих кораблях, из угольной шахты непрерывно поднимаются вагонетки, груженные углем. Автобусы курсируют по городам и сельским местностям. Крестьяне возделывают землю, пасут скот, сеют хлеб. И за всем этим стоит высокая фигура фон Ренкенцова. Волей этого человека земля, вода и стебель превращаются в зерно, зерно – в муку, а мука – в хлеб. По воле этого человека уголь перестает быть камнем и становится теплом, обогревающим людей. По его воле приходят в движение автобусы, машины, корабли, заводы, а жизнь тысяч людей: рабочих, шоферов, моряков – обретает в этом движении свой смысл. Пожелай только он – потухнут огни в очагах, перестанут двигаться люди, замрет жизнь. Но он не пожелает, потому что это непрекращающееся движение вещей и людей, покорных его воле, этот круговорот предметов, выходящих из человеческих рук и входящих в человеческие руки, – как движение крови в артериях этого человека, оно обогащает его, оно дает ему жизнь.








