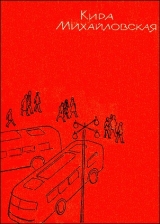
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Шестьсот рублей на улице не валяются. – Это была не басмановская фраза – слишком вульгарная, но сказана она была по-басмановски: с чувством собственного достоинства. – Калерия в конце концов оставит меня. Вы же видите – девять часов вечера, ее еще дома нет. Так вы думаете, она посчитается со мной? Никогда! Большая комната мне одной не нужна. А шестьсот рублей я могла бы положить на книжку, на черный день.
Мы молчали.
– В центре города – это, конечно, удобно. Небольшая квартира. Телефон.
У Басмановой был спокойно-сосредоточенный вид. Я ненавидела человека в зеленой велюровой шляпе – это из-за него у Басмановой стал вдруг спокойно-сосредоточенный вид. Это из-за него Басманова вдруг решила подумать и о себе. Если бы она встретила этого человека раньше – ну, лет на двадцать пять – тридцать, она бы раньше подумала о себе и не была бы сейчас одинокой, а жила бы вот с таким человеком в велюровой шляпе, готовая к неизбежному черному дню.
У этого человека, наверное, семья, ему эти двенадцать квадратных метров совершенно необходимы. Почему только для достижения цели он выбрал именно этот путь: вызвать на лице Басмановой сосредоточенное выражение, заставить ее «подумать о себе»? Почему он не заставил ее подумать о нем, о его семье, его жизни? Почему вместо ясных человеческих понятий он нашел темные, соблазнительные, которые до сих пор были незнакомы Басмановой?..
А что такое Басманова? Почти старая женщина. Примечательная только тем, что она смешнее других старых женщин. Заслуги перед обществом? Никаких. Особые достоинства? Никаких. На ее место может въехать ученый с семьей, Герой Советского Союза, знаменитый путешественник. У нас станет интереснее, веселее. У нас будет перемена – а я люблю перемены, – так почему я молчу, почему не говорю Басмановой: «Вам здорово повезло, складывайте вещи!»
Я не хочу, чтобы что-нибудь менялось в нашей квартире. Пусть мы уходим в путешествия, но у нас должна быть гавань, родина, которую мы любим только за то, что мы родились в ней, выросли и возмужали, родина, с которой мы сращены, как семечки с плодом.
– Что же вы молчите? – говорит Басманова. – Или вам безразлично?
– Нет, не безразлично, – говорит тетя Муза.
– Тогда что же? – говорит Басманова.
Тетя Муза снимает очки, протирает передником стекла и снова надевает очки.
– Конечно, шестьсот рублей на улице не валяются, – говорит тетя Муза. И, помолчав, добавляет: – И телефон тоже.
Все молчат. Потом Басманова поднимается: скоро придет Калерия, пора готовить чай. Басманова выплывает из комнаты. Чуть-чуть неуверенно и менее величественно, чем обычно.
42
Мы сидели с Калерией на кухне. Это был тот час, когда все шли спать. Шел спать сосед, Басманова, тетя Муза. И квартира начинала принадлежать нам. Где-то глубоко в водопроводной трубе булькала вода – как будто труба полоскала горло.
Из коридора изредка доносились щелчки – рассыхался паркет. Раздавалось быстрое и короткое шуршанье – это штукатурка осыпалась между стеной и обоями. Дом оживал ночью. Он был старый, а, говорят, старикам по ночам не спится.
Кухня была крашена масляной краской. Маляр, который красил ее, поставил ведро на пол, кисти аккуратно прислонил к углу, огляделся и сказал: «Сделать сделаю, а только нездорово это. Стены дышать не будут». Никто не обратил внимания на его слова, все тащили из кухни кастрюли и прочую утварь, и я тоже. Потом, когда кухня была готова и стояла веселая, голубая, я вспомнила, как сказал маляр, и поверила ему. Я подумала, что зря мы его не послушали.
Я вспоминаю этого маляра часто, особенно ночью, когда слышно, как дышит дом и в коридоре штукатурка шуршит за обоями. Только стены кухни не дышат.
Мы сидим с Калерией в разных концах кухни. Ничего не делаем и разговариваем.
– После школы я была как на пороге. Дверь закрыта, что там дальше – не знаешь. Ожидания всякие, надежды… Жить было интересно. И на заводе сначала было интересно. А теперь… Привыкла. Все план, план и никаких идеалов!
Калерия встала, подошла ко мне.
– А я не могу без идеалов, понимаешь? Не могу! Я девчонкам сказала, они засмеялись: «Ты план лучше выполняй». Идеалы должны быть высокие, а план мы выполняем из месяца в месяц. Я хочу уехать. Но разве она меня отпустит? Она же в меня вцепилась – ты знаешь как! Разве она понимает, что такое жизненные горизонты?..
– А ты уезжай так, чтобы никто не знал.
– Поставить перед фактом? Нет. Не хочу. Мне взаимопонимание нужно. Понимаешь?
– Понимаю.
– И почему только взаимопонимание встречается так редко?. Это, наверное, сложная вещь. Я тут познакомилась с одним парнем… – Калерия повернула голову в сторону и засопела.
– Ну и что?
– Он у нас на «Треугольнике» делал портреты передовиков. Чушь какая-то – вешать эти портреты, но он был очень современный фотограф, а за портреты хорошо платили, ну, он и фотографировал. Он и меня хотел снять, в другой, конечно, манере… Мы с ним встречались, в кино ходили, у нас все совпадало, буквально все – взгляды и вкусы, даже привычки. Я, например, ногти грызу, и он тоже грыз.
Калерия взяла свою табуретку, поставила рядом с моей, села и задумалась.
– Ну и что? – спросила я осторожно.
– Ну и вот… Я, например, перчатки никогда не ношу, и он всегда ходил без перчаток. Сколько у нас совпадало в жизни – просто смешно!.. Если мы были не одни, так только посмотрим друг на друга – уже все понимаем. А он еще раньше звал к себе: посмотришь мои работы, говорит. Ну, однажды я согласилась. Только пришли, он сразу полез, понимаешь? Самым пошлым образом. И никакие работы здесь, оказывается, ни при чем. Он так и сказал: «Тогда нам лучше с тобой не встречаться». На площадку за мной вышел и говорит: «До свиданья. А в дальнейшем я этот вопрос усложнять тебе не советую». Вот.
Калерия поднялась. Она подошла к раковине, отвернула зачем-то водопроводный кран и посмотрела, как бежит вода. Я не знала, что сказать ей. Да она, кажется, и не ждала, что я скажу что-нибудь.
– Ладно, – сказала Калерия. – Пошли спать, завтра мне в первую смену. Разбуди меня, если рано встанешь.
– Хорошо, – сказала я.
Я легла в постель, но заснуть сразу не могла. Сквозь окно было видно небо – не по-ленинградски ясное и высокое. Стукнула дверь, и кто-то легко прошел по коридору. Это не спала Калерия. Калерия, которой так много надо было в жизни: идеалов, взаимопонимания, жизненных горизонтов…
43
Про обмен мы не говорили. И все в жизни нашей квартиры шло как обычно. По утрам все торопились на работу, перебрасывались на ходу короткими замечаниями о погоде, об изменениях трамвайного маршрута. Потом мелко стучали каблуки Калерии и хлопала парадная дверь – Калерия уходила первой. За ней – тетя Муза, сосед, Басманова и, наконец, я. По вечерам мы собирались на кухне. Зажигались все конфорки газовой плиты. Вкусные запахи наполняли кухню. И все это – запахи, бульканье, шипение, вся эта ворожба и колдовство над простыми вещами: картошкой, луковицей, перцем, – все это сопровождалось, приправлялось разговорами. Об обмене – ни слова. Да и с чего бы вдруг мы стали говорить об обмене, лезть с советами к Басмановой, просить ее остаться? Ведь мы не могли предложить ей ни одного из всех благ, обещанных велюровой шляпой. Только сосед нарушил молчание. Это было в самый первый день.
Басманова изложила соседу суть вопроса. Он обещал подумать, взвесить все «рго» и «contra», как он сказал. Басманова обрадовалась – это было в ее духе, – закивала головой, заулыбалась: «Пожалуйста, именно все „рго“ и „contra“». Сосед вышел на кухню поздно вечером. Он подошел к Басмановой, встал перед нею этаким фертом и сказал: «Я советую». Он не сказал, что именно он советует, но и без того было ясно. Мы с тетей Музой переглянулись. Обычно сосед выражался велеречиво: «Несмотря на… и все же вероятно…» И не всегда было понятно, что он говорит, а тут все было определенно и произвело на Басманову сильное впечатление.
Это было в первый день. С тех пор прошла неделя – об обмене не говорили.
Басманова была известная домоседка. Теперь иногда она приходила с работы позже. Это настораживало. Странным было и то, что с комода Басмановой исчезла пластмассовая коробка, в нее Басманова складывала деньги, и оттуда она охотно давала в долг. Теперь коробки не стало.
Мы не говорили ни слова. Мы делали вид, что ничего не произошло.
Однажды вечером, когда мы только пришли с работы, раздался звонок и взволнованная Басманова вошла в квартиру. За ней двое мужчин в ватниках несли высокий плоский ящик. «Ну все! – подумала я. – Сейчас придет велюровая шляпа и будут вытаскивать вещи».
Дверей, однако, никто не расколачивал, и было тихо. Я не могла выносить этой тишины, оделась и ушла из дома.
Я вернулась поздно. Меня встретила сияющая Басманова.
– Вы только посмотрите, Ася. Нет, вы только посмотрите!
Она распахнула дверь своей комнаты и остановилась на пороге. Я посмотрела на комнату, потом с недоумением на Басманову.
– Не видите? А стекла-то в окне! Стекла-то новые, зеркальные! Ах, Асенька, что за прелесть – зеркальное стекло!
Я прошла к окну. Стекло действительно было толще обычного, без переплета и больше блестело.
– А зачем вам? – спросила я.
– Разве не красиво? – удивилась Басманова. – Могу я наконец пожить как человек?
Уходя от Басмановой, я оглянулась, посмотрела на окно – в нем был закат, не деленный оконными переплетами. Стекло было глубоким, и в нем переливалась, сверкала радуга. Это было и правда хорошо.
У себя в комнате я переоделась и, когда повязывала волосы косынкой, улыбнулась сама себе.
– Ты чего? – спросила тетя Муза.
– Так. Ничего особенного, – сказала я.
Вместо того чтобы подумать о себе, Басманова решила пожить наконец как человек. И это мне – честное слово! – нравилось.
44
Приближалось время приезда мадам Бранд. Русаков уже снова появился в гостинице и каждое утро пересекал вестибюль, направляясь к выходу. Каждое утро он ездил в Торговую палату, а оттуда в Дом культуры, где будет выставка и куда уже завезли все необходимые для выставки материалы.
Мадам Бранд прилетела в Ленинград раньше, чем мы предполагали. «Ну вот, Асенька, мы с вами снова при деле», – говорил Русаков, когда мадам пошла осматривать свой номер. Работа над выставкой только начиналась, и Русаков был в хорошем расположении духа. Мы стояли внизу и разговаривали о чем-то, Русаков, Марта Стооль и я. И всякий раз, как Русаков обращался к Марте и поворачивал в ее сторону большую светлую голову, Марта вспыхивала и смущалась.
– Когда же мы увидим макет? – спросил Русаков.
– Хоть сейчас, – ответила Марта. – Макет у меня в номере. Но я не могу показать его без мадам.
– Понимаю, понимаю, – басил Русаков и весело поглядывал на меня. – Ну а когда же мадам спустится вниз?
Марта пожимала плечами и смущалась.
Мы ждали мадам Бранд в холле очень долго, а потом, когда она спустилась, мы вчетвером завтракали в ресторане. Мадам Бранд сидела со мною рядом, но аппетит у нее не портился. Я не без интереса наблюдала, как исчезали с тарелки бутерброды, как исчез потом цыпленок и мелко нарезанная кудрявая картошка. А когда на столе появилась бутылка сухого вина и черная зернистая икра, мадам даже порозовела от удовольствия.
После завтрака мы смотрели макет. Он был сложен в нескольких картонных коробках. Марта ловко распаковала коробки и, сдвинув одним движением локтя все лежащее на столе к самому краю, разложила макет. Я знала, что он от первой до последней детали сделан ее руками – вот этими самыми неестественно длинными руками с хрупкими маленькими кистями. В застекленных шкафах были выставлены товары, черные и белые манекены демонстрировали одежду, на столах были разложены журналы и проспекты, а когда Марта подошла к стене и воткнула вилку в штепсель, макет осветился, начало казаться, что вот-вот двери распахнутся и по выставке зашагают люди. Это впечатление сразу исчезло, стоило Русакову близко подойти к макету. Он ткнул пальцем в стенд, увешанный пестрыми мужскими костюмами, и прочел надпись на стенде: «Леопард».
– Леопард? – сказал Русаков и вопросительно посмотрел на Марту.
– Да, так называется фирма, изготовляющая мужские костюмы.
– Воинственное название, – усмехнулся Русаков.
А мадам, сощурив глаза, добавила:
– Слишком воинственное для такой незначительной фирмы.
– Отчего же незначительной? – робко заметила Марта.
Легкая складка легла между бровями мадам. Глаза ее потемнели. Но тотчас она улыбнулась ослепительно:
– По поводу любой фирмы я могу дать самую точную справку. Это не входит в ваши обязанности, мадмуазель Стооль. – И пальцы мадам начали выстукивать на кожаной сумочке победный марш. Пальцы стучали по мягкой коже, а мне казалось, что я слышу звуки барабанов и фанфар. «Тра-та-та» – стучали барабаны. Марта молчала, разглядывая узор на ковре. Я готовилась переводить, что скажет Русаков. И он сказал:
– Вот что, мадмуазель Стооль, – Русаков посмотрел на Марту и улыбнулся ей, – мы этот макет свезем в Дом культуры. На месте все виднее. Как вы думаете?
Марта кивнула и начала складывать макет в коробки.
45
Негодование и обида, с какими я относилась вначале к мадам, сменились любопытством. Она не задевала меня больше, была ко мне равнодушна и не мешала мне работать. Я не задумывалась над тем, почему, собственно, она изменила ко мне отношение, до тех пор, пока однажды утром, придя на работу, не услышала в бюро обслуживания: «Тебя вызывает Бранд. Звонила несколько раз, просила подняться к ней в номер, как только придешь». Я удивилась, созвонилась с Русаковым, уточнила программу на сегодняшний день и села в лифт. Я не понимала, чем вызвано вдруг такое внимание Бранд, и мысли одна нелепее другой лезли мне в голову.
«Войдите», – сказал приглушенный голос мадам сразу, как только я постучала. Я вошла и, не застав в первой комнате никого, прошла в соседнюю спальню. Альма Бранд сидела за туалетом. Она увидела меня в зеркале, улыбнулась мне, кивнула приветливо головой и предложила сесть рядом. Я была смущена. Мадам принимала меня в необычном виде. Так принимают или людей очень близких, или тех, на которых наплевать. Я не знала, как поступить: уйти или остаться. Мадам, вероятно, заметила мои колебания и повернулась ко мне так резко, что скрипнул корсет. Она сказала, улыбаясь:
– Простите, мадмуазель, я не в форме, но мне хотелось видеть вас, и я решила поторопиться. Вы простите мне, ведь мы с вами обе женщины? – Улыбка стала еще шире, и это было, пожалуй, слишком, потому что сразу стала видна коронка, надетая на боковой зуб мадам Бранд.
– Однажды мадам оспаривала это, – сказала я, не улыбаясь и глядя прямо ей в глаза.
Мадам резко повернулась к зеркалу, быстрыми движениями сняла остатки крема с лица и опустила большую пуховку в пудреницу.
– Вы злопамятны? А ведь я не хотела зла.
В зеркале я видела ее лицо. Оно отвечало мне доверчивым взглядом. Я заколебалась, но из глубины моей памяти всплыли ее прищуренные глаза и голос, спрашивающий: «Вы – женщина?» Я сама удивилась, каким деревянным и негибким был мой голос:
– Мадам хочет принести извинения?
Тень пробежала по лицу Бранд, но так быстро, что никто бы этого не заметил. Я заметила только потому, что пристально смотрела в зеркало.
– Ну, я попросила вас зайти не для этого, но если вы настаиваете, если вы ведете счет…
– Да, я веду счет!
– Я прошу у вас прощения.
Голова Бранд склонилась над туалетным столом низко-низко. И в зеркале не стало видно ее лица. Только высокая прическа и затылок. Мадам что-то искала на туалете. Я с облегчением вздохнула. «Ну вот и прекрасно! Вот и уладилось».
– Присядьте, – сказала мадам, не поднимая головы.
Я села в кресло около двери.
– Куда же подевались мои заколки для прически? Куда же они подевались? – приговаривала Бранд, проводя рукой по столу и дотрагиваясь поочередно до всех флаконов, коробочек, пузырьков, щеток. Я тем временем думала, что, может быть, Бранд не такая уж плохая женщина, может быть, она привыкла к определенному взгляду на вещи и сама не понимает, что делает. Я размышляла так, сомневаясь и склоняясь то на одну, то на другую сторону, когда Бранд вдруг поднялась и сказала:
– Нет, они определенно исчезли.
– Кто?
– Заколки. Мои заколки для прически.
– Ну куда же они могли исчезнуть, мадам?
Бранд начала нервно ходить по комнате. Вместо изящной, благоухающей женщины, какой предстала передо мною Бранд впервые, я видела обыкновенную, полуодетую, расстроенную чем-то женщину, очень бледную, потому что краска еще не успела лечь на ее щеки, и совсем невыразительную. Женщина перебирала ногами, мелкими шагами двигаясь по комнате, и ноги у нее были совсем не такие красивые, как мне показалось раньше. Они были покрыты темными редкими волосами, и я подумала, что мадам-то крашеная. Вдруг женщина остановилась передо мною и сказала деловито, быстро кивнув на дверь:
– Они не могли взять?
– Кто «они»? – спросила я, не понимая, о чем идет речь.
– Прислуга. Могла взять мои заколки.
Я изумилась, но только на секунду, – так неправдоподобно было все это. Потом я засмеялась:
– Кому нужны ваши заколки?
Бранд была серьезна.
– Вы не знаете, заколки черепаховые, инкрустированные камнем. Понимаете? Не просто заколки.
– Вы что, сошли с ума?
– Как вы разговариваете?.. – взвизгнула мадам, но, словно вспомнив что-то, сорвалась. Меня было уже не остановить.
– Как вы разговариваете? Вы! Как вы смеете даже говорить со мною о своих подозрениях? Как вы смеете кого бы то ни было подозревать здесь?! – Я взмахнула рукой, и, наверное, было совсем непонятно, где это здесь, но мне было все равно. Моего благодушия как не бывало. Злости моя, как будто запертая где-то внутри меня, прорвалась вдруг наружу, и я уже сама не владела ею. Бранд стояла передо мною бледная, губы ее дрожали, и вдруг на них появилась слабая жалкая улыбка. Бранд была растерянна, и это был тот единственный раз, когда она была сама собой. Когда она еще не сообразила, какой ей следует быть в данный момент, какую из масок ей надо скорее надеть на себя. И оттого, что я понимала это, я чувствовала себя еще сильнее, еще тверже, и мое презрение к этой жалкой полуголой женщине росло. Я взяла со стула халат, протянула его мадам: – Оденьтесь! – и вышла из комнаты.
…Я так и не узнала, зачем вызывала меня Бранд в то утро. Да и не хотела узнавать. Мы встретились за завтраком, и ничто в ней, затянутой в шелк, причесанной, не напоминало о нашем утреннем разговоре. Бранд вновь обрела свою оправу. Но я-то знала, какая она. И когда Бранд смотрела на меня, она видела, что я знаю.
Мне было противно вспоминать о сцене, разыгравшейся тогда в номере. И я, наверное, никогда бы о ней не вспомнила, если бы Марта как-то не сказала мне:
– Мадам стала относиться к вам лучше, чем раньше.
Мы ехали из Дома культуры в гостиницу.
– Я сказала ей, что вы происходите из хорошей семьи и закончили институт.
Я засмеялась.
– Не смейтесь. Мадам ревнива к вопросам происхождения. Она известна у нас в стране.
– Чем? – спросила я.
Марта помедлила.
– Мадам – любовница самого богатого и влиятельного человека у нас. Она любовница господина фон Ренкенцов.
Лицо Марты покрылось красными пятнами. Она была так смущена, словно это она, Марта, а не мадам Бранд занимала столь высокое положение. Я слышала фамилию фон Ренкенцов. Она часто появлялась в заграничных газетах и иногда в наших. Я знала, что это одна из самых богатых фамилий. Я даже видела как-то фотографию в газете, где был изображен кто-то из этой фамилии, но кто – я уже не помню.
– Но вы-то, вы служите ведь совсем в другой фирме. Ведь ваша фирма не имеет никакого отношения к мадам и к господину фон Ренкенцов.
– У нас в стране нет ничего, что не имело бы отношения к фон Ренкенцов. И следовательно, нет ничего такого, что не имело бы отношения к мадам. Все знают об этом, и если бы вы внимательнее читали наши газеты, вы бы тоже об этом знали.
– Но ведь ваша фирма может защитить вас. Ведь вы сами говорили как-то, что ваш директор человек симпатичный.
– О да, но он недостаточно влиятельный человек, чтобы ссориться с фон Ренкенцов. Говорят, что в вашей стране все равны. А у нас есть люди маленькие, средние и большие. Но есть и такие, перед которыми все – и маленькие, и средние, и даже большие, – все становятся маленькими. Такой фон Ренкенцов.
Я хотела ответить Марте, но в этот момент Володя оглянулся.
– У подъезда полно машин, – сказал он, – я остановлюсь на углу.
– Хорошо. Только ты подожди нас.
Володя затормозил, машина остановилась, и мы вышли на улицу.
Больше никогда Марта не заговаривала со мною о мадам.
46
Дом культуры не похож на Дом культуры. Он похож на строительную площадку. Даже в театральном зале работают плотники. Они сооружают длинный, пересекающий зал помост, по которому будут ходить манекенши, демонстрируя туалеты различных фирм. Фирмы не имеют никакого отношения к мадам. Но манекенши имеют. Большинство их училось в школе манекенш, возглавляемой мадам Бранд. Манекенши еще не приехали. Пока на выставке одни рабочие. Они монтируют стенды, устанавливают освещение. Они полируют мебель, и от этого по всему Дому культуры распространяется запах лака и краски. Мебель – маленькая. Она будет установлена в стеклянных шкафах, и пользоваться ею будут только черные и белые манекены. Вот и их уже привезли и свалили в беспорядке в углу, так что торчат в разные стороны руки и ноги из папье-маше. Головы сложены отдельно, их будут привинчивать на одетые манекены в последнюю очередь. Стенд головных уборов готов, и два представителя фирмы уже раскладывают в витринах шляпы, шапки и вязаные шапочки, развешивают фотографии респектабельных мужчин с тростями в руках, которые любезно приподнимают шляпы и улыбаются сытой, довольной улыбкой.
Ходить по выставке рядом с Мартой гораздо интереснее, чем сидеть в директорском кабинете, где мадам Бранд заводит споры из-за каждой промокашки. Выставка большая, все время требуются новые и новые материалы, а мадам расчетлива и прижимиста. Она пытается затеять торг из-за самых незначительных вещей. Русаков невозмутим. Он вынимает из желтого кожаного портфеля текст соглашения, отпечатанный на двенадцати страницах, находит нужный пункт, тычет в него пальцем и протягивает текст Альме Бранд. Альма Бранд соглашается, Русаков прячет текст обратно в портфель. Но ненадолго. Через несколько минут мадам снова затевает спор, текст снова извлекается из портфеля. Его теребят сначала крепкие пальцы Русакова, потом пальцы мадам, и после паузы, во время которой Русаков и Альма Бранд затягиваются папиросами, а я отдыхаю от перевода, переговоры возобновляются.
Иногда решение спора приходится искать не только в тексте соглашения, но и непосредственно на выставке, тогда мы встаем и идем по длинным коридорам Дома культуры, находим нужный нам стенд, и Альма Бранд высоким голосом кричит: «Мадмуазель Марта! Мадмуазель!» Прибегает Марта, измазанная краской, в синем рабочем халате и начинает обмерять, считать и снова обмерять этот кусок выставки. Она становится на колени, потом залезает на стул и все время шепчет что-то себе под нос, а мадам нетерпеливо стучит каблуком. Наконец Марта кончает считать, мадам мрачнеет или веселеет, в зависимости от результатов, и все мы устремляемся обратно в прокуренный директорский кабинет, где на столе среди бумаг стоят чашки с недопитым кофе, три полные окурков пепельницы, а в углу прямо на полу свален ненужный теперь макет.
Случается, что мадам повышает голос, и тогда предметом ее гнева становится Марта – ведь Марта фактически отвечает за всю выставку. И если где-нибудь не хватило цветного картона или кто-то из рабочих задержал работу на час-другой, – высокий голос мадам слышен по всей выставке. Ее пальцы отстукивают бешеные марши на спичечном или папиросном коробке, а Марта стоит перед ней и не поднимает глаз. Но однажды этому приходит конец.
Мы уже несколько часов ходим по выставке, и все идет благополучно. Вдруг мадам останавливается. Мы останавливаемся вместе с нею. Мы стоим около злополучного стенда с надписью «Леопард». Все в этом стенде уже давно не нравилось мадам, и рабочие, под руководством Марты, сто раз переделывали его, перекладывали с места на место товары. Я знаю, что сейчас мадам начнет давать новые указания, будет высоко поднимать плечи и разводить руками.
Но она молчит. Она смотрит на маленький столик, стоящий у витрины, и мы все тоже начинаем смотреть на этот столик. Ничего необыкновенного в нем нет. Стол как стол. Три ножки. Светлый. Еще блестит от лака. Мы с Русаковым переглядываемся. А мадам как завороженная смотрит на стол. Потом, не переводя взгляда, она кричит высоким голосом: «Мадмуазель!» Кричать не надо, потому что Марта стоит рядом и услышит, даже если Альма Бранд будет говорить шепотом. Но Альма кричит, и Марта, вздохнув, делает шаг вперед. У, какой у мадам разъяренный вид! Она побелела от злости, и губы у нее свела судорога. Мадам наклонилась вперед, и какая-то блестящая бляшка на цепочке, свисая с ее шеи, качается, словно маятник. Перед мадам стоит столик на трех ножках. И рядом с мадам стоит Марта.
Русаков, который уже давно признался мне, что не выносит «женских представлений», отходит к окну и погружается в созерцание улицы. Наконец мадам поворачивает голову в сторону Марты и говорит, резко разделяя слова:
– Стол должен быть красного дерева. Красного дерева. Я об этом говорила вам два раза. Два! – При этом мадам выбрасывает в воздух перед самым носом Марты два длинных пальца.
Марта молчит.
– Ну конечно, этого мало. Вам надо сказать тридцать, сорок раз, только тогда вы поймете. Мадмуазель! – И голос Альмы Бранд становится визгливым. – Мадмуазель! Вы плохо работаете!
Марта вздрагивает и говорит тихо:
– Но вопросы стиля…
– Все вопросы стиля решаю я, мадмуазель, и пора вам к этому привыкнуть. Вы – исполнитель. Я недовольна вами. Если так будет продолжаться, я буду вынуждена обратиться к вашему директору, мадмуазель. Слышите?
И здесь происходит нечто необычное. Русаков, который никогда прежде не вмешивался в разговоры между представителями иностранной стороны, вдруг отходит от окна и быстрыми шагами подходит к нам. Он берет меня за плечо, и я чувствую, как вздрагивают его пальцы.
– Вот что, Ася. Скажите мадам следующее: «Вы нарушаете, мадам, нормы поведения, принятые в нашей стране». Перевели? «Вы все время пытаетесь незначительное возвести в ранг главного. Вы нервируете людей, с которыми нам предстоит работать. И мне хотелось бы знать, для чего вы делаете это? Мне хотелось бы думать, что это просто… хотелось бы отнести это за счет определенных свойств вашего характера, но иногда мне кажется, что это – намеренное желание сорвать выставку, помешать тому делу, ради которого мы здесь собрались»… Сказали?
Альма Бранд растерянно смотрит то на Русакова, то на меня. Когда я кончаю переводить, она уже владеет собой и, улыбаясь, обращается к Русакову:
– О, мсье, мы, женщины, ведем свои дела, конечно, не так искусно, как мужчины. Но ведь наши дела – это наши дела! И ведь вам, не правда ли, нет никакого дела до того, как мы разговариваем между собою?
– Совершенно верно: мне безразлично, как вы разговариваете между собой. Но – только до тех пор, пока это не начинает вредить делу.
Альма Бранд широко открывает глаза. В этих глазах, как некогда и раньше, появляется выражение детского простодушия.
– А разве наши разговоры могут дурно влиять на дело? Я думала, что именно в интересах дела они и ведутся.
– Я не ребенок. Я поседел на этой работе. И научился отличать истинные намерения от ложных. Я утверждаю, что такими действиями мадам не помогает нам наладить выставку, а срывает ее. А вот зачем она так поступает – об этом как раз я и хотел спросить.
Бранд становится серьезной.
– Мсье Русаков ошибается. Он несколько преувеличивает значение происшедшего здесь инцидента. Передо мною и перед мсье Русаковым стоят одинаковые задачи. И я, и мсье Русаков делаем для их решения все возможное. А теперь простите меня, я не совсем здорова. Я покину вас, – улыбка мне и Русакову, – и отправлюсь в гостиницу. Машина заказана?
– Да, – киваю я, – машина ждет у входа.
Мадам Бранд направляется к выходу, но, сделав несколько шагов, останавливается:
– Мадмуазель, поскольку работа уже сделана и заказчик не возражает, стол перекрашивать не надо.
Мадам уходит по коридору, и мы глядим ей вслед.
– Ну, по чашке кофе не откажетесь? – спрашивает Русаков.
– Нет, – говорю я.
– Нет, – говорит Марта и вытирает о халат измазанные мелом пальцы.
Мы поднимаемся в кабинет директора, разогреваем кофе на электрической плитке. Мы пьем кофе и разговариваем о вещах, к выставке не относящихся. Потом Марта вдруг спохватывается, что надо что-то сделать на выставке, и, набросив халат, выбегает из комнаты. Русаков смотрит ей вслед и говорит:
– Святой человек! И несчастный.
– Как вы думаете, почему она не замужем? – спрашиваю я. – Ведь она ничего, а, Николай Павлович? Ничего она?
– Да, как будто бы ничего, – говорит Русаков. – Ну, а не замужем… По-разному ведь в жизни бывает. Вот ведь вы тоже не замужем!
Русаков шутит. Он считает, наверное, что мне и рано еще замуж, но я грустнею. Я задумываюсь, и Русаков тоже молчит.
Потом я спрашиваю:
– Николай Павлович! А у вас жена есть?
– Жена?.. У меня дочка есть. Хорошая девочка. Умная. Она живет в Москве.
– А с кем же она живет?
– С бабушкой. С моей мамой.
– Но, Николай Павлович, как же вы… Вы – один?
– Один.
– Не верю я! Не могут не любить вас люди!
Русаков усмехается:
– А кто ж говорит, что люди меня не любят? – Он медлит, как будто хочет сказать что-то, потом поднимается: – А теперь пошли, посмотрим, как там наша мученица.
Мы запираем кабинет. Русаков берет портфель, и мы идем по выставке. Старый рабочий-швед в синем комбинезоне вставляет в витрину стекло и улыбается мне, когда мы проходим мимо. Этот старик всегда приветлив со мною и однажды дал мне пригоршню конфет – вроде наших ирисок. Он, наверное, думает, что я моложе, чем на самом деле.
Мы находим Марту в отделе ювелирных украшений фирмы «Рубин». Несколько монтеров под ее руководством крепят над витринами висячие лампы; Русаков включается в работу, дает советы, где что надо закрепить. Рабочие почему-то с его советами несогласны, и Русаков со смехом говорит:
– Раз не хотят сотрудничать – не надо. У них здесь все развалится.
Я перевожу его слова Марте, она тоже смеется и, махнув рукой, отвечает по-русски со смешным акцентом:
– Расвалится, расвалится.
Марта научилась немного по-русски. Я убеждаю ее бросить службу в фирме и стать лингвистом, но она говорит, что лингвистам еще хуже, чем художникам.








