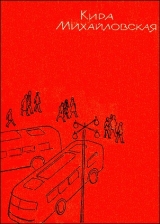
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Русаков ставит меня на землю, достает из кармана пальто носовой платок и сует его мне:
– Вытрите лицо, и пошли. И давайте сразу договоримся: я вас в обиду не дам – только вы должны во всем меня слушаться. А теперь – на работу!
На площади перед цирком много народу, но в толпе я не вижу ни Бранд, ни Марты Стооль, ни седого мужчины из Ленинградского Дома моделей. Они все стоят в вестибюле. Когда мы с Русаковым подходим к ним, Бранд с улыбкой обращается ко мне:
– Вы обиделись? Но разве я сказала что-нибудь обидное? – И она обводит стоящих рядом удивленными глазами. Когда эти глаза останавливаются на мне, я замечаю, что в них нет ни смущения, ни неловкости, нет ничего, кроме безграничного, почти детского удивления. Я отворачиваюсь.
Мы проходим к своим местам. Люди расступаются, пропуская нас вперед, и смотрят нам вслед, смотрят на Альму Бранд, на ее откинутую назад голову в высокой золотистой прическе, на ее меха, спокойно лежащие на плечах, на высокую грудь. Я стараюсь отстать, ведь я пришла в цирк, как все, – я не из этой опереточной процессии. Альма Бранд находит меня в толпе и кивает головой. Я приближаюсь: нужен переводчик.
Вечер тянется бесконечно долго. Клоун у ковра теряет бутылку водки и находит ее у себя в башмаке; пожилой, полный мужчина ходит по проволоке да еще жонглирует при этом; две молоденькие девушки с улыбкой летают с трапеции на трапецию высоко под куполом. И снова клоун теряет что-то и находит это что-то у себя в широченных штанах. И все это – среди смеха зрителей, среди разговоров, среди беспрерывного, ни на минуту не прекращающегося перевода:
– Фирма обязуется поставить материал для выставки, но рабочих – достаточно квалифицированных! – должна поставить советская сторона…
– Мои манекенши известны у нас в стране. Это самые молоденькие, самые изящные и самые модные женщины.
– Эти фасоны еще не успели войти в моду, но войдут. И мы уже представляем их вашему вниманию.
Все рассматривают фасоны, обсуждают достоинства манекенш, и единственный человек, который молчит и даже голоса которого я до сих пор не слышала, – это Марта Стооль. Маленькими худыми руками она, как фокусник, извлекает из сумки фотографии, проспекты, цветные рекламы и передает их мадам Бранд. Ее шустрые руки ни на минуту не останавливаются. Они вкладывают в сумку одни фотографии и тут же безошибочно вынимают другие, именно те, которые требует в настоящий момент мадам. Пальцы Марты быстро скользят по обрезу фотографий, одна, другая, третья, – вот! – и нужная фотография ложится к Бранд на колени.
– Эта манекенша происходит из очень знатной семьи. Элен Бьёрнстад. Она почти не занимается демонстрацией, но со мною она подписала контракт.
Клоун крутит на манеже несколько сальто, останавливается, смеется, широко распялив рот, и его красный нос пухнет, пухнет… Зрители утихают от восторга, нос лопается, из него вылезает другой, зеленый и тоже начинает расти…
– Ваша публика останется довольна моими девочками. Дайте Ирен, мадмуазель Стооль.
Пальцы Марты нащупывают фотографии, – одна, другая – вот! Совсем молоденькая, смеющаяся блондинка появляется из сумки. Какая тонкая у этой блондинки талия! И она умеет смеяться так, как смеются женщины с обложек иностранных журналов.
Клоун хохочет и надувает нос. Мадам Бранд говорит без умолку. И бегают, бегают пальцы Марты Стооль. Вот фотография, вот проспект. Вот фотография… Хоть бы это кончилось!
И когда это кончается, люди встают все разом и все разом устремляются к двери. Они толкаются, напирают друг на друга, они скорее хотят снова очутиться на улице, на прохладном вечернем берегу Фонтанки. Люди толпятся у дверей, но перед нами они расступаются. И мадам Бранд свободно и легко идет к выходу и гордо несет золотую голову. А за нею Марта несет сумку, полную проспектов и фотографий. А за ними идет седой мужчина и другие сопровождающие. Самыми последними идем мы с Русаковым. На нас уже напирает толпа, которая сомкнулась за Альмой Бранд, и мы – уже частицы этой толпы, мы дышим одним с нею воздухом. Большой, высокий Русаков заслоняет меня от напирающих сзади и урчит в затылок:
– Ничего, Ася, ничего! В нашей жизни всякое может встретиться. Нам надо быть сильными. Ведь верно?
Я киваю головой, но Русаков не видит и спрашивает снова:
– Верно ведь?
– Верно, – отвечаю я и думаю: «Может, он и прав?»
Когда мы подъезжаем к гостинице и Альма Бранд выходит из машины, Володя спрашивает меня:
– Ну как, Ася? Сошло?
– Сошло.
– Ну и молодец. Я же говорил, что ты молодец. Ничего, завтра поедем ее провожать.
Стол уже давно накрыт в ресторане, но мы не садимся, мы ждем мадам Бранд. И вот она появляется и опять, как тогда в вестибюле гостиницы и в цирке, смолкают все разговоры и все смотрят только на нее.
– Вы, Ася, сядете рядом с мадам Бранд, – говорит Русаков, а мадам Бранд качает головой:
– Я бы попросила мсье Русакова сесть рядом.
Русаков удивлен:
– Но, мадам, удобнее, если переводчик будет сидеть между нами.
Золотая голова раскачивается из стороны в сторону, мадам спокойна и беззастенчива.
– Я не привыкла сидеть за ужином рядом с гидом. – Мадам улыбается, скалит белые зубы: «Пользуйтесь только пастой „Пепзодонт“. Мужчины и женщины! Молодые и пожилые! Паста „Пепзодонт“ – и вы будете неотразимы!»
Мы стоим вокруг стола. Мы не садимся, потому что мадам Бранд не хочет сидеть рядом с гидом. Мадам Бранд скалит зубы и качает головой. А Русаков свирепеет. Я вижу это по тому, как стискивают его пальцы спинку стула. Русаков наклоняет голову:
– У нас нет времени, мадам. Нам надо обсудить еще целый ряд вопросов. Прошу вас, мадам, к столу.
А я перевожу все это, перевожу слова Русакова, перевожу слова Альмы Бранд, перевожу так, словно речь идет не обо мне, словно не я тот переводчик, рядом с которым так упорно не хочет садиться за стол мадам Бранд.
Все происходит неожиданно. Мадам Бранд стремительно подходит к столу, отодвигает стул, так что никто из мужчин не успевает сделать этого за нее, и садится. Русаков обращается ко мне:
– Садитесь, Ася.
Все рассаживаются за столом. Мадам Бранд сидит рядом со мной, но она не ест, не пьет, отказывается даже поднять бокал за успех своей выставки. Мадам говорит только о деле. Лицо ее стало хищным, голос звучит холодно. Мадам интересуют только дела. Нервно постукивает она пальцем по фарфоровому блюдцу, и блюдце жалобно звенит всякий раз, как массивное кольцо ударяется о его края. «Дзинь» – звенит блюдце.
– Бумага для рекламы в такой большой стране, как ваша, – это сущий пустяк. Вы, бесспорно, можете дать нам бумагу.
– Мадам ошибается, мы не можем дать бумагу для рекламы. Ее представит какая-нибудь из ваших фирм.
– Но ведь мы печатаем рекламу. Это крупные расходы. Неужели такая мелочь, как бумага, остановит вас? Не будьте мелочны, мсье Русаков!
– Ни одна из сторон не должна быть мелочной. Я не советую мадам тратить время на разговоры о бумаге. Этот вопрос уже был согласован, нет оснований возвращаться к нему.
«Дзинь» – звенит блюдце.
– Мы еще не обсудили вопрос об отделочных материалах и о сроках представления макета…
Русаков пьет нарзан. Рядом с ним стоит бутылка, и он часто наполняет бокал. Мадам Бранд не шелохнется. Только пальцы ее нервно постукивают по фарфоровому блюдцу.
«Дзинь».
Пустеет ресторан. Уходят последние посетители. Официанты стягивают со стола скатерти и бросают их в одну кучу на пол. Куча растет, а столы стоят голые. Инструменты, одетые в темные чехлы, мрачно притаились в углу. Ужин кончается.
– Желаем удачи. Еще раз – за удачу!
– Ася! За то, чтобы все было хорошо!
– Я не дойду до дома!
– Ничего. Довезем.
Мы поднимаемся из-за стола. Мадам Бранд никому не подает руки. Она прощается с нами кивком головы и уходит по коридору к лифту. Следом за нею, сгорбившись, маленькая и очень худая, идет Марта Стооль. Я так и не слышала ее голоса за целый день. Мы смотрим им вслед. А когда дверцы лифта захлопываются и лифт с мягким гудением поднимается вверх, мы переглядываемся и облегченно вздыхаем.
– Ну-ну! – говорит Русаков.
– Что ж, поехали. Отвезем Анну Николаевну домой, – говорит седой.
– Поехали.
38
Утром мы выезжаем на аэродром. Машина долго ждет нас у подъезда гостиницы. Володя, сидя в машине, читает книжку. Я заглядываю к нему.
– Ты готов?
– Давным-давно, – говорит Володя, вкладывая между страницами закладку. – А вот вы там все копаетесь что-то. Смотри, опоздаем на аэродром.
– Ой, что ты, Володя, если она не улетит сегодня, мы все погибнем!
– Я-то не погибну, – говорит Володя и потягивается. При этом тонкая шерстяная рубашка обтягивает его сильные плечи и широкую грудь. – Если бы я погибал от каждой вздорной бабы, я бы здесь не смог работать. Так мы что ж, поедем или я еще могу почитать?
– Читай, но только будь наготове. Вещи уже спустили, и с минуты на минуту должна спуститься «сама».
– Ладно. – Володя берется за книжку.
– Ася! – кричит он мне вдогонку, когда я подхожу к гостинице. – Учти, что по Московскому до самого райсовета проезд закрыт, нам придется ехать кругом. И Русакову передай. Пусть поторапливается.
– Это точно, – замечает швейцар. Ему надоело стоять вот так без дела у дверей. Ведь что это за дело – открывать и закрывать двери и проверять, как работает вентиляция. – Это точно, – басит швейцар, – проезд сегодня закрыт. По радио предупредили. Так что и опоздать недолго, если вам ко времени надо. Следовало бы заблаговременно.
Швейцар распахивает передо мною дверь.
Мы отъезжаем в суматохе. Швейцар бегает от машины к подъезду, забирая вещи, а вещей много. И все какие-то маленькие: саквояжи, котомки, чемоданчики. И среди этого барахла чинно и важно, как будто олицетворяя незыблемый порядок, стоит сундук, обклеенный этикетками, на толстых коротких ногах, с оттопыренными ручками. Сундук вносят последним. Он никак не хочет становиться в багажник. Швейцар и Володя ходят вокруг сундука, стараясь все-таки пропихнуть его, но потом Володя машет рукой, говорит: «Взяли!» – и они втягивают сундук прямо в машину. Здесь, на ковре, среди мягкой обшивки, сундук устанавливается, и мы садимся в машину, подобрав ноги, чтобы не стукнуться об него. Машина делает разворот, медленно проезжает мимо подъезда гостиницы, в окне появляется и исчезает блестящая черная вывеска, появляется и исчезает швейцар, вытянувшийся у дверей, и, сменяя друг друга, появляются и исчезают дома: желтые, зеленые, серые. Мы едем на аэродром.
На заднем сиденье машины нас трое: Русаков, Марта Стооль и я. Мадам Бранд сидит впереди. Русаков, согнувшись, заглядывает в окно, я смотрю прямо перед собой, вижу аккуратно причесанный затылок мадам Бранд, крепкую шею Володи и его плечи. Между плечами Володи и затылком мадам Бранд я вижу дорогу, по которой катят машины меньше нашей, такие, как наша, и совсем большие курносые грузовики-самосвалы. Рядом со мною сидит Марта Стооль. Она сидит тихо, как мышь, прижав к груди сумку. Я думаю о том, что, наверное, она так и не заговорит, и как раз в этот момент Марта открывает рот. Впрочем, сказать, что она открывает рот, не совсем правильно, потому что она начинает говорить очень тихо, сквозь полусомкнутые губы.
– Мы очень признательны вам за прием, – говорит она.
Мы с Русаковым одновременно поворачиваемся к ней. Она замолкает, словно напуганная нашим вниманием. Мы ждем, что скажет она дальше, но Марта молчит, и тогда говорит Русаков:
– Вам пришлось трудно в этой поездке, мадмуазель Стооль. Много работы. Мы старались по возможности облегчить вам эту работу.
– Спасибо. Я не устаю. Я привыкла много работать.
– Вы работаете с мадам Бранд? – спрашиваю я.
– Нет. Я служу в фирме нейлоновых, трикотажных и шерстяных изделий. Я художница.
Тонкие пальцы Марты вздрагивают и плотнее обхватывают сумку.
– Наша фирма представляет на выставку основную часть товаров. Вот меня и прислали.
Мы молчим, и через несколько минут Марта добавляет:
– Мы очень благодарны мсье Русакову. Он все прекрасно организовал.
Голос ее звучит тихо и робко, и я, сидя рядом с нею, с трудом улавливаю слова. Я вижу, что мадам Бранд напряженно прислушивается. Она еле заметно откидывает назад голову, от напряженного внимания белеют прозрачные мочки ее ушей. Марта, видимо, хочет еще что-то сказать, но сдерживается.
Машина подъезжает к аэропорту. Носильщики выгружают вещи, Альма Бранд и Марта Стооль проходят в комнату таможенного управления, а мы с Русаковым ждем их около взлетной площадки.
– Ну вот, Асенька, и все. Конец вашим мучениям.
– Еще один день, и я бы не выдержала.
– Убежали бы?
– Убежала.
– А кто бы с мадам работал?
– Мне все равно. Заменили бы кем-нибудь.
– До вас была переводчица – ее заменили. Не выдержала. Вас, значит, тоже можно заменить. А если мадам Бранд того и добивается, чтобы ей меняли переводчиков каждые два дня?
– Ну, если того и добивается, тем лучше! Пусть меняют!
– Нет, Асенька, не лучше! Мы с вами на службе, а не приставлены потакать женским капризам. Мы на службе у своего государства.
Я хочу возразить Русакову, но некогда. Навстречу идут мадам Бранд и Марта. Я смотрю на Марту. Сейчас, при ярком солнечном свете, она не выглядит пожилой. Ей и лет-то не больше тридцати пяти. Тонкая кожа обтягивает скулы на щеках, делая ее похожей на восточную женщину, а в глазах, больших и темных, нет блеска – сухие глаза! И странным на этом лице кажется рот, по-детски припухлый, наивный. Все остальное в Марте некрасивое: жилистая шея, и руки непропорционально длинные, и впалая, худая грудь. И походка смешная, идет – будто раскачивается маятник: вправо, влево, вправо, влево… А рядом идет мадам Бранд. Не идет – несет свое выхоленное тело, легко ступает красивыми ногами и чуть покачивает крупными бедрами – удивительная женщина Альма Бранд. До ее прелестей нет никакого дела Русакову. Он идет рядом с Мартой и пытается разговаривать с нею на смеси английского и немецкого языков. И не смотрит на Бранд, ни на ее плечи, ни на ее голову, ни на ее ноги. Удивительный человек Русаков!
Самолет распластался на взлетной дорожке. Мы прощаемся. У Марты ладонь маленькая и горячая, а на руке мадам – тонкая лайковая перчатка. Прикосновение перчатки к моей руке вкрадчивое и осторожное.
– Мы вернемся через две недели.
Вы-то вернетесь! Вот только я не вернусь. Я улыбаюсь. И Русаков тоже улыбается. Он машет Марте, когда та оборачивается к нам. Самолет ревет и медленно двигается с места. Он уходит вправо вдоль взлетной дорожки и уносит от нас Марту с ее сумкой, невозмутимую мадам Бранд, маленькие саквояжи и чемоданчики и большой сундук в дорогой коже, на четырех кургузых ногах.
– Ну, Асенька, даю вам две недели отпуску.
– Какого отпуску, Николай Павлович?
– Отдыхайте от мадам. И закаляйте свою волю.
– Какую волю, Николай Павлович? Никакой воли! Буду работать с туристами, как раньше работала. А уж вы для своей мадам другого переводчика подыщите. С меня хватит!
– Ну-ну, Ася. Не перечьте. Как только начнете перечить, все пойдет кувырком. Вы со мною старайтесь соглашаться. У меня голова-то вон какая! Пегая! Я все в жизни знаю. И если я говорю: «надо» – значит, и вправду надо. И иначе нельзя. А сейчас поехали. Где Володя?
39
И почему это песни любят модные? Наверное, потому, что у них все скрыто в подтексте. Поется, например, о спасательной команде по тушению лесных пожаров, а команда-то и ни при чем. В подтексте пожаров – любовь. Это очень модно сейчас – зашифрованные чувства. Старая песня не такая. В ней хоть и говорится: «Летят утки и два гуся», – но потом зато все ясно и определенно: «Кого я люблю, кого я люблю – не до-жду-уся».
Юрка приходит поздно вечером. Тетя Муза уходит к Басмановой.
– У меня неприятности, – говорит Юрка, снимая пальто.
– А у меня, наоборот, очень интересные известия, – говорю я.
– Понимаешь, я поцапался с шефом, – говорит Юрка.
– А я проводила мадам Бранд.
Юрка останавливается и смотрит на меня с недоумением.
– Ты чего? – спрашивает он.
– Ничего, – отвечаю я.
Тогда Юрка садится на диван, устраивается поудобнее, подложив подушку под локоть, и начинает:
– Вышло недоразумение, самая настоящая неувязка. Я передал проект главному инженеру, а он…
Юрка рассказывает все подробно, а я не слушаю. Я думаю о том, почему всегда мы говорим о его работе, о его жизни и никогда – обо мне. Почему раньше я находила это естественным, а сейчас это раздражает меня?
Когда мы познакомились с Юркой, он смотрел на меня. Даже когда речь шла о его делах, он смотрел на меня, и у него были живые, заинтересованные глаза, обращенные ко мне. Теперь Юрка смотрит в себя. Когда ему приходится смотреть на белый свет, глаза у него становятся пустыми и скучными. А я-то? Я дошла до такой крамолы: не слушаю, что говорит Юрка. И даю ему понять, что мне неинтересно. Что же это происходит?
– Постой, – прерываю я Юрку на полуслове, – мы должны с тобой объясниться.
– То есть? – говорит Юрка.
– Ну, должны выяснить, отчего мы с тобой оказались вдвоем в этой комнате и беседуем о твоих делах.
– Отношения выяснить? – говорит Юрка и улыбается язвительно. – Что ж, я готов. Только должен тебе сказать, что я не люблю усложненных отношений. Я бываю у тебя потому, что мне приятно иногда бывать у тебя. И ничего больше.
– А о своих делах ты тоже говоришь потому, что это тебе приятно?
– Разумеется.
– А о моих делах ты не говоришь потому, что это тебе неприятно?
– Прости, не понял.
– Почему ты не говоришь никогда о моих делах?
– Я думал, что мои дела – это и есть твои дела.
– А если нет?
– Мне это не приходило в голову.
– А если пришло бы?
– Тогда… Тогда я подумал бы, что это, ну, не очень, скажем, интересует меня. Ведь я никогда не считал, что ты выбрала самое удачное занятие в жизни.
– Но разве жизнь – это только занятие?
– А что же еще?
– Очень многое. Например, люди.
– Люди, занятые чем-то.
– А просто люди? Разве не существует просто людей?
– Бездельники? Наверное, существуют.
– У меня другой взгляд на вещи.
– Взгляд на вещи? Это относительное понятие. Можно смотреть из окна и видеть вот это пространство между четырьмя углами. Можно выйти на улицу и увидеть уже больше. А можно подняться на самолете – и тогда… Впрочем, ты ведь летала на самолете.
– Не летала. Но знаю, что земля уходит от тебя, люди становятся маленькими, а потом и вовсе исчезают.
– Зато обретаешь чувство масштаба. Я никогда не копался в душе – ни в чужой, ни в своей собственной. Я не врач-психиатр и не бездельник. А для делового человека возня вокруг психологии ни к чему.
– И люди совсем неинтересны тебе?
– Интересны. Как работники. Если человек ничего не умеет, из рук у него все валится, он ничего не может и не хочет делать, – какое мне дело до его психологии? Какое мне дело до причин и мотивов, которые привели его к такому состоянию! У меня даже нет времени копаться в этих мотивах. Человек на земле работник.
– Но как работник я тебе совсем неинтересна.
– Ты – женщина, а с женщинами все необъяснимо. Вопросов нет? Тогда иди сюда, сядь рядом со мною. Ты понимаешь, какая произошла штука, – нет, нет, я должен тебе обязательно рассказать, я должен уяснить, как это случилось, мы сейчас вдвоем разберем это. Значит, так! Я отдал чертеж главному инженеру…
Мы все-таки уяснили, как могло случиться, что у Юрки произошла неприятность. Мы обнаружили причину этой неприятности. Завтра утром Юрка придет на работу и уничтожит эту причину, потому что самое главное на земле – это чтобы у Юрки не было неприятностей, чтобы не страдало дело, которому он служит.
40
– А, это ты, Ася? – говорит кто-то за моей спиной. Я оборачиваюсь. Зойка стоит у соседнего стола и пытается открыть ящик. – Хотела методичку посмотреть перед экскурсией, а кто-то взял и запер. И чего запирают? Подумаешь, ценность – методичка! Дай мне свою!
Я достаю свою методичку из стола и протягиваю ее Зойке.
– А ты давно приехала? – спрашивает Зойка, листая методичку. – Ты чудесно выглядишь! Что значит юг! Разве на севере может быть такой цвет лица! Хорошо съездила?
– Хорошо. А как вы тут?
– Все так же. Крутимся. Слышала новость?
– Какую?
– Пока мы все тут крутимся на работе, Валя крутит с Ломовым. А ты ничего не знаешь?
– Ничего. Что значит крутит?
– Ну что ты спрашиваешь? Крутит – значит крутит. В полном смысле. Да, да. Сколько сейчас? Четверть? Еще пятнадцать минут – передохну немного.
– Ты мне расскажи про Валю. Что случилось-то?
– Никто и не говорит, будто что-нибудь случилось. Просто у них роман. А подробностей я не знаю. И никто не знает. Все только говорят. Я тебе удивляюсь: подруга, а ничего не знаешь!
– Откуда же я могу знать?
– А откуда мы все знаем?
– Откуда?
– Говорят… Я же тебе не говорю, что знаем. Я тебе говорю: говорят! Говорят даже, что она не скрывает. Ходят вместе, не стесняются. Я-то лично не видела, но, наверное, кто-нибудь видел. Я лично совсем заработалась. Каждый день с утра до вечера. У меня одних отгулов набралось штук десять. Вот кончится месяц, возьму все отгулы и уеду. За город куда-нибудь. Так хочется!.. На юге хорошо? Да, да, хорошо, сама знаю. Что я – на юге не была? Ну, счастливо! Я побежала.
Зойка выходит из комнаты переводчиков. И я снова остаюсь одна. В это время дня в комнате никто не сидит – все работают: сезон! Забежит кто-нибудь на минутку за справкой, пороется в справочнике или методичке, заглянет в зеркало и убежит. И снова никого. Придет Гоша. Ему жарко в костюме, белой крахмальной рубашке и туго затянутом галстуке, но он все равно носит и белую крахмальную рубашку, и галстук с тонким узлом. Гоша постоит, отдуваясь, увидит, что никого нет и посылать на работу некого, и уйдет вздыхая. Я ему сочувствую: у него требуют переводчиков, а ему неоткуда их взять! Аврал! У Гоши вечный аврал! Его ругают сопровождающие делегаций, и переводчики ворчат, – мол, он их совсем замучил, – Гоша морщит лоб, краснеет, смущается и все прикидывает, как ему выйти из положения. А положение-то безвыходное!
Я сижу в комнате одна. С открытым окном в комнате прохладнее. Туча, что собиралась разлиться, проходит стороной. Светлеет. Зеленый лист сорвался с дерева, и прохожий прибил его каблуком к тротуару. Лист трепещет, словно хочет сдвинуться с места и побежать. Скоро осень…
Валя крутит с Ломовым. Я, значит, кручу с Юркой. А с кем крутит Гоша? Или Гоша – ни с кем? У него жена. А если с женою, – называется ли это «крутит»? Или для этого существует другое слово? Зойка говорит, что Валя и не скрывает. Они всюду бывают вместе. Но кто знает, – может быть, они просто ходят вместе и Валя вовсе не крутит с Ломовым? Я думаю так, но тут же начинаю думать иначе. Я вспоминаю, как дрожало лицо у Вали, когда мы сидели с ней в холле, как дрожало ее лицо и светилось. И как смотрел на нее Ломов – смущенно и виновато. Валя крутит с Ломовым – это, наверное, правда. И это, наверное, счастье. Но тут я вспоминаю, что у Вали есть муж. Он, кажется, очень внимателен к Вале. И я думаю, что вряд ли это может быть счастьем, если у Вали есть муж. А может быть, у Вали уже нет мужа? Может быть, пока я была на юге, все так изменилось, что у Вали уже нет теперь никого, кроме Ломова?.. Тоненький зеленый лист трепещет на сером тротуаре. Я не вижу прожилок на его зеленой ладони, но знаю, что эти прожилки есть, и мне кажется, что они напрягаются, пытаются сообщить листу силу, помочь сорваться с места, к которому припечатал его чей-то каблук.
У подъезда останавливается машина. Из нее выходят две худые дамы в черных очках. На них открытые платья, и в вырезе платьев торчат костлявые ключицы. За дамами из машины выходит Валя. Ключицы двигаются к гостинице, и мне кажется, что я даже слышу, как они издают тихонько: скрип-скрип, скрип-скрип… Старые американские туристки. А между ключицами двигается пушистая светлая Валина голова. Одуванчик. Вот и Валя приехала!
Валя широко распахивает дверь и стоит на пороге. Я сижу на стуле у окна и жду, когда она пройдет в комнату. Она все стоит на пороге и смотрит на меня удивленно:
– Ты приехала? Как хорошо, что ты приехала!
Валя заходит в комнату и закрывает за собою дверь. Она прижимается спиною к двери и смотрит на меня, улыбаясь. Я вижу, что она действительно рада встрече со мной, и радуюсь сама. Я встаю, подхожу к Вале, обнимаю ее за худые узенькие плечи. Как хорошо, Валя, что мы снова вместе! Я, правда, не часто вспоминала тебя. Я даже начала забывать тебя, забывать, какие у тебя глаза, волосы, рот. Но сейчас я вижу, что люблю тебя по-прежнему и что ты мне по-прежнему нужна, моя подруга Валя.
– Валя, я хочу спросить тебя о чем-то. Но ты не обидишься?
– Ты о Ломове? Тебе уже рассказали?
– Ты любишь его?
– Люблю? Чушь это! Слова! Названия. Это слово «люблю» все повторяют и прикрывают им самые разные понятия. Привязанность называют любовью, влечение – тоже, симпатию, чувство благодарности и самую любовь – всё называют любовью. Не хочу говорить об этом!
– Но ведь ты понимаешь, о чем я говорю, Валя. Ты понимаешь, о каком чувстве я говорю! Я ведь знаю, что к Ломову ты не можешь испытывать только привязанность или благодарность.
– Откуда ты знаешь? Откуда вы все всё знаете? Отчего это вы такие все умники? Не люди – кибернетические машины: всё знают и на всё могут дать ответ. Но жизнь – это не сплошные формулы, и бывает такое, что не влезает во все ваши представления. Такое, для чего даже названия нет в нашем человечьем языке. Но вам уже кажется, что вы и это знаете и что на такой случай у вас заготовлены названия, рецепты.
– Зачем ты так зло говоришь со мной? Не хочешь разговаривать об этом – и не надо. Нисколько я не обижусь. Но зачем злиться и называть меня на «вы»?
– Прости. Я устала. Вот уже скоро месяц, как все только об этом и говорят, только этим и занимаются.
– Это тебе кажется, что все говорят об этом.
– И вообще я устала. Устала от всего: от разговоров, от бесконечного хождения по улицам, от этой жизни, как на вокзале. Устала от Вовкиного взгляда и от того, что все время должна избегать объяснения с ним. Вот уж кто хорошо осведомлен о любви! Он без конца говорит, как меня любит, о том, какая это ценность – такое чувство. Он все твердит: ценность, ценность. Он не понимает, как относительны любые ценности. Какой смысл в еде, если ее никто не хочет есть? В воде – если ее никто не хочет пить?.. А он думает, что существуют какие-то абстрактные ценности: «честь вообще», «преданность вообще». И за эти ценности я должна быть ему признательна, и эту мою признательность все будут умиленно называть любовью и будут восхищаться нашей добродетельной жизнью. А я буду жить и знать, что случись что-нибудь, стрясись какая беда, – этот человек не подведет, не подкачает. А если беды не стрясется? Если ничего такого не случится в моей жизни? Тогда что? Зачем тогда нужна мне его добродетель? У Ломова нет особых добродетелей. Но и с ним трудно. Надоело ходить по улицам и заглядывать в чужие окна. В городе столько домов! В каждом доме столько комнат! А нам с Ломовым негде встречаться. Нам негде разговаривать. Негде смотреть друг на друга. Потому что город хоть и большой, но тесный, и всюду люди. И мы, как на вокзале, толчемся среди чужих чемоданов и ждем, чего-то ждем…
– Почему ты не уйдешь к нему?
– Куда уйти? У него – жена, ребенок.
– Но ведь так нечестно!
Валя достает сигарету и мнет ее пальцами. Валя усмехается:
– Семья – ячейка государства. Мы разрушаем ячейку, мы разрушаем государство.
Видно, Вале по-настоящему тяжело, если она начинает иронизировать подобным образом. Она хочет спрятаться за этой иронией, защититься ею. Она смотрит на меня зло и дерзко, но почему-то кажется мне беспомощной. Мне жалко Валю.
– Все на свете, видите ли, рухнуло в тот момент, когда мы с Ломовым полюбили друг друга. Да?
Мы сидим неподвижно и молчим. Потом Валя поднимается. Перерыв кончился – пора на экскурсию. Она поправляет рукой волосы, кивает мне и выходит из комнаты. Моя непутевая Валя! Я кружу по комнате и через несколько минут оказываюсь у окна. Валя стоит внизу со своими старушками. Она разговаривает с ними, поворачиваясь то к одной, то к другой. Машина подходит к подъезду, и перед тем, как сесть в нее, Валя поднимает голову и отыскивает глазами наше окно.
Валя улыбнулась мне перед отъездом, и у меня отлегло от сердца.
41
Мы живем в доме, как семечки в сердцевине плода. Мы срослись с ним и не можем себе представить, что можно жить и быть счастливым в другом месте. В этом доме – наша родина.
Когда-то здесь был пожар. Это был знаменитый в Ленинграде пожар, целые сутки все пожарные машины тушили его и не могли потушить. Мы – я и мои сверстники – не помним этого, но разговоры о пожаре до сих пор идут, и до сих пор говорят: «Это было до пожара» или «Это было после пожара». Следы пламени – почерневшие камни над четвертым этажом – остались по сию пору, хотя прошло много ремонтов.
Потом была война. Разноцветные стекла витражей на лестнице вышибло взрывной волной: а они ведь были очень старые, пережили революцию, разруху, даже пожар, а вот войны не пережили. На их место вставили обыкновенные стекла, и лестница перестала быть веселой, на ее ступенях в солнечные дни не лежат больше маленькие разноцветные солнца. А лет шесть назад кто-то сломал внизу перила. Говорят, что это сделал парень, с которым не захотела встречаться девушка из нашего дома. Он будто бы сказал, что не оставит камня на камне, но успел сломать только перила, и его забрали в милицию. Я не знаю, как кончил этот парень, но думаю, что счастливо: упорная и страстная любовь должна победить. Перила, однако, нам сделали новые – наспех, небрежно, из неважных железок и плохо оструганного дерева. Все, кто спускается теперь с лестницы, дойдя до этого места, снимают руку с перил и сторонятся.
Мы сами делаем историю нашего дома.
Басмановой предложили обмен. Она не собиралась меняться. Никогда она не ходила в бюро обмена, где люди собираются толпами и разговаривают заинтересованными голосами, и мысли о том, чтобы уехать от нас, у нее не было. Эту мысль ей подали. Пришел мужчина в зеленой велюровой шляпе, подал Басмановой эту мысль и ушел. Мы думали, она возмутится, пойдет красными пятнами, бросит свой отказ вслед велюровой шляпе – ничуть! Басманова зашла к нам в комнату, опустилась на диван и плавным голосом пересказала нам эту мысль, и даже слова не застревали у нее в горле, а лились не иссякая:
– Мою комнату тридцать квадратных метров на его комнату восемнадцать квадратных метров, с приплатой шестьсот рублей, ремонтом и переездом за его счет. В центре города, в малонаселенной квартире, со всеми удобствами и телефоном. – Басманова покрутила лебединой шеей, посмотрела на нас.
Мы молчали.








